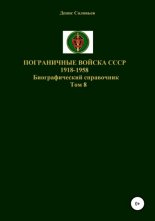Царская любовь Прозоров Александр

События двигались обыденно и даже скучно, не предвещая нежданностей. Народ тянулся в Благовещенский собор, санный возок митрополита медленно полз к Боровицким воротам, воины в нарядных зипунах и простецких тулупах толклись без дела. С крыльца Великокняжеского дворца спустился юный государь Иван Васильевич, охраняемый двумя рындами и в сопровождении дородного князя Трубецкого со свитой из пяти бояр.
Возок остановился, приоткрылась дверца. Великий князь поспешил к патриарху, припал к его руке. Завязалась тихая беседа.
Князь Трубецкой слегка замедлил шаг, однако останавливаться не стал – невместно родовитому боярину, равно слуге жалкому, выблядка какого-то ждать! Гордо постукивая посохом, он прошествовал мимо, величаво поднялся на ступени собора. Его свита поступила так же.
Рядом с юным государем остались только рынды.
И вот тут случилось неожиданное: опершись на руку Великого князя, митрополит Макарий выбрался из возка, бок о бок с воспитанником прошел через расступившуюся толпу к Успенскому собору и скрылся в приветливо распахнутых вратах.
Внутри храма было светло – многие из прихожан пришли именно сюда, в один из главных храмов православной державы, чтобы вознести молитвы, поставить свечи святым, испросить благословения, заказать службу. У каждого из образов стояло по несколько десятков свечей, и их ровный восковой свет заливал собор нежным, не дающим теней сиянием.
Нежданное появление святителя и государя заставило москвичей на время забыть о своих планах, потянуться к алтарной части. Там скинувший шубу на пол митрополит в драгоценной золотой фелони принял от подбежавшего священника подсвечники с длинными скрещенными свечами, поклонился на четыре стороны и начал молебен за здравие государя всея Руси Великого князя Иоанна Васильевича.
Пока он вел службу, несколько детей боярских принесли и поставили перед алтарем, спинкой к царским вратам, тяжелое деревянное кресло с высокими подлокотниками. По окончании пения псалмов Макарий указал воспитаннику на сей трон и торжественно провозгласил:
– Венчается раб божий Иоанн, волею Господа Великий князь и государь всея Руси и народа православного, земли святой, церкви кафолической! Ныне правителем державы великой становится наследник законный стола Московского, защитником рубежей земных и веры истинной! Ответь мне, раб божий Иоанн, каковой верой душа твоя спасается?
Юноша уже успел сесть в кресло, и двое служек, раскрыв на нужной странице, положили пред ним молитвенник.
– Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, – срывающимся голосом объявил Великий князь, – Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша…
Едва он закончил чтение всех двенадцати постулатов веры, в Успенском соборе торжествующе ударили колокола, и очень быстро звон этот был подхвачен в ближних и дальних храмах.
– О еже благословитися царскому его венчанию благословением царя царствующих и господа господствующих, – торжествующе вскинул руки над юным правителем святитель, – о еже укреплену быти скипетру его десницею вышняго! О еже помазанием всесвятаго мира прияти иму с небес к правлению и правосудию силу и премудрость! О еже получити ему благопоспешное во всем и долгоденственное царствование; яко да услышит его господь в день печали и защитит его имя бога Иаковля…
Молитва текла и текла из уст патриарха, призывая на Иоанна благословение небес. Во дворе же и соседнем Благовещенском соборе прихожане уже поняли, что происходит нечто важное и непонятное. Люди потянулись в запевший первым Успенский собор, отчего в нем становилось все теснее и теснее. Когда сюда ворвался князь Трубецкой, то не смог двинуться дальше врат и оттуда наблюдал, как голову Великого князя митрополит Макарий помазал елеем и как юноша, взяв с красной подушки царский венец, самолично водрузил его себе на голову.
– Тебе, царь православный, святой животворящий крест вручаю, дабы веру истинную прославлял и преумножал! – Святитель вручил воспитаннику тяжелый золотой крест. – Тебе, царь православный, скипетр царский вручаю, дабы правил ты хоругвями Великого Русского царства во славу ратей православных!
Митрополит повернулся к прихожанам и громко объявил:
– Радуйся, люд православный! Государь наш Иоанн на царствие венчался! Един бог на небе, един царь на земле! Слава государю нашему, царю Иоанну Васильевичу!
– Слава! Слава! Слава! – Толстые каменные стены, казалось, качнулись от радостных выкриков сотен людей. – Слава царю Иоанну!
Иоанн поднялся и, как был, в царском венце, со скипетром в правой руке и крестом в левой, пошел через храм. Толпа отхлынула в стороны, освобождая проход – и князя Трубецкого служивые оттеснили в сторону наравне с оказавшимися здесь бабами и боярами.
Царь и святитель вышли на крыльцо, встреченные торжествующими возгласами москвичей и служивого люда, прошествовали к возку митрополита, сели в него. Лошади тронули тяжелые сани с места.
«Уезжает!» – обожгло князя Трубецкого. Он метнулся с крыльца, махнул рукой своей свите, указывая вперед… И злобно сплюнул. Прилюдно повелеть своим боярам хватать, вязать государя князь не мог. Никак не мог. Толпа худородных москвичей его самого после подобного приказа схватит и на клочки вместе с холопами порвет. Оставалась надежда лишь на то, что привратники без приказа великокняжеских опекунов мальчишку из Кремля не выпустят.
Однако и в воротах толпилось три десятка служивых людей, как бы случайно подпирая плечами тесовые створки. С десятком стражников, пусть даже те все с копьями и в броне, эти плечистые воины справились бы без труда.
Применять силу, впрочем, и не потребовалось. Боярам, сторожащим Боровицкие ворота, и в голову не пришло преграждать путь саням митрополита. Наоборот – они все склонились за благословением, скинув шапки и шлемы, торопливо перекрестились. А на набережной Неглинной к возку святителя примкнули с полсотни всадников, уже открыто опоясанных саблями. Из-под тулупов этих воинов и в запахе воротников холодно поблескивали кольца кольчуг и пластины юшманов. А чуть опосля сани нагнали еще три сотни бояр, что стояли на венчании и охраняли Успенский собор во время таинства.
– Кажется, обошлось, чадо, – облегченно перекрестился святитель Макарий, откидываясь на спинку кресла и поправляя медвежий полог, укрывающий ноги. – Венчанию опекуны твои не помешали, возможность упустили. Возвращать тебя силой князья не посмеют. Это ужо бунт открытый, люд русский сего безумия не поймет. Ополчение боярское, горожане московские, они ведь тебе присягали, а не Шуйским с Глинскими. Не так много холопов у опекунов твоих, чтобы супротив всей земли русской за свою корысть биться. Не посмеют. Хотя, знамо, караулы округ хором Воробьевских надобно выставить крепкие и службу сторожевую усилить. Захватить тебя князья, может, и не рискнут, но вот убийцу подослать – это легко. Тебя зарезать, брата твого юного на стол посадить, меня в монастырь дальний в погреб отправить, и тогда все опять к порядкам прежним вернется…
– Выходит, я теперь царь? – поежился юноша.
– Всевластный государь, чадо, – степенно кивнул митрополит. – Един бог на небе, един ты на земле. Привыкай.
– Так, – погладил пальцами подбородок царь всея Руси. – И с чего мне начинать свое царствие надобно, отче?
– Во первую голову, – начал рассказывать святитель, – надобно во все пределы русские грамоты отослать с известием о твоем венчании и о том, что все печати прежние со старым титулом отныне более недействительны. Они ведь у опекунов твоих и в Думе боярской остались. Князья воспользоваться сим способны, указов в свою пользу напридумывать. Дабы сего не допустить, воеводы на местах должны иметь пример твоей царской подписи и новой печати. Титул у тебя отныне иной, великий, так что прежний надлежит почитать за крамольный и оскорбительный.
– Но где взять новую печать, отче?
– Я еще месяц тому назад втайне заказал, – слабо улыбнулся митрополит. – И венец, и печати, и даже грамоты нужные верные писцы загодя составили. Однако же без подписи твоей не обойтись, кроме тебя, ее начертать некому.
– Твоя мудрость достойна восхищения, – покачал головой юный царь.
– У меня целый месяц в запасе имелся, Иоанн, и опыт управления церковного в три десятка лет, – не принял похвалы святитель. – У тебя тоже сей опыт скоро появится.
– Что еще мне надлежит сделать, отче?
– Собор созвать всенародный, чтобы каждое сословие со всех уголков земли русской своего представителя на него прислало. И сделать сие без промедления. Дума боярская, на твою юность и неразумность ссылаясь, твои указы многие оспорить или забыть попытается. Но если их не ты, если их Земский собор утвердит, тогда у Думы супротив тебя никакой опоры не останется. Не тебе они противостоять станут, всей земле русской. Ты же от имени всего мира православного вещать и править станешь. Народ державы нашей твой голос из уст твоих должен услышать, без пересказчиков и переписчиков. Услышать твою личную волю и твои личные указы.
– Какие указы? – неуверенно спросил юноша.
– А что бы ты хотел изменить в державе нашей, чадо? – повернулся к воспитаннику митрополит. – Что отменить, что добавить, что улучшить?
– Я? – Молодой царь ненадолго прикусил губу, потом выпалил: – Хочу, чтобы образование хорошее каждый ребенок в державе моей получал! Чтобы читать и считать все до единого умели! Чтобы сирот неприкаянных больше не появлялось. Чтобы все сыты были и счастливы – и знать, и люд простой, худородный. Чтобы за живот свой и добро люди русские нигде и никогда не боялись!
– Желания благие, похвальные, – усмехнулся святитель. – Отныне ты правитель земли русской пред богом и людьми, власть у тебя. Воплоти в жизнь желание свое, чадо. Добейся его исполнения.
– Как же мне осуществить сие, отче? – жадно спросил юный царь.
– Ну, не знаю… – пожал плечами Макарий. – Сие есть дела мирские, житейские. Вот соберется собор Земский, ты его о сем и спроси. А как с собором всерусским к общим помыслам придешь, волю единую утвердишь, то с родами знатными ты ужо не от себя, а от всей земли русской и народа православного говорить станешь. Волю всенародную никакая родовитость не перебьет.
– Собор, грамоты… – загнул пальцы юный царь. – Что еще, святитель?
– Людей верных на важные посты поставить. Тех, каковые живот свой за тебя положить готовы и ныне возок наш от недругов возможных охраняют. – Митрополит глубоко вдохнул, выдохнул. – Но это не сейчас. Недели две надобно во всеоружии выждать. Коли опекуны твои за это время никакой пакости не сотворят, то опасность первая, считай, миновала. Силой, стало быть, неудачу свою исправлять не станут.
1 февраля 1547 года
Москва, Дмитровка
В тереме было холодно. Как-никак третий этаж над подклетью. Печи же все, понятно, внизу. Пока тепло добиралось наверх, под дощатую кровлю, все оно куда-то исчезало. Да еще морозы стояли трескучие – аж вода в колодцах замерзала. Тут и на кухне, возле печи, не очень отогреешься. А уж на верхотуре…
Обычно боярыни Кошкины так и поступали – проводили дни в людской, возле жарко натопленных печей, занимаясь рукоделием; или на женской половине Захарьиных, уходя к себе только на ночлег. Однако же две недели назад дом внезапно опустел. Супруга Григория Юрьевича еще перед Рождеством внезапно отъехала в поместье – само собой, с обеими дворовыми девками, да Анну Романовну в компаньонки прихватив; сам же боярин, ничего не сказамши, еще шестнадцатого января исчез вместе со всей дворней и всеми собравшимися на праздники родичами.
Было подворье малым и тесным – от людей не протолкнуться, – и вдруг стало пустым, темным и огромным. Куда ни повернись – мрак и тишина, и только эхо гуляет по гулким коридорам. И средь мрачной сей громадины сидели две женщины у открытой топки и бережливо, помалу, топили чужую печь чужими дровами.
Богатое московское подворье рядом с церковью святого Георгия стало для братьев Захарьиных не радостью, а сущим проклятием. Отстроенное выбившимся в окольничие Михаилом – третьим воеводой в полку Левой руки, доверенным посольским боярином, не раз встречавшим иноземных послов, сидевшим в Думе и знакомым лично с государем Василием, – оно вполне совпадало с доходами царедворца, возвышенного над прочими худородными людишками. Михаил Юрьевич мог позволить себе заказывать аж по полста возков с дровами на зиму, постоянно подновлять длинный частокол, перестилать тесовую крышу, держать лошадей в просторных конюшнях, заполнять обширный погреб съестными припасами, держать в людской многочисленную дворню и закатывать в трапезной пышные пиры. Богат был Михаил Юрьевич, именит. И братьев к себе призвал, дабы и их возвысить!
Да вот беда – родичей призвал, а сам скончался нежданно. Тут у Захарьиных родство при дворе, равно как и надежды на возвышение кончились. И оказался двор обширный и богатый на руках двух худородных братьев, постов выше сотника никогда на службе не получавших. У сотника же, понятно, и содержание от казны в десять раз менее, чем у полковника, и добычи столь же меньше, и награды, коли достоин, тоже совсем не царедворские.
Продать дом братья не решились. Разговоры ведь сразу пойдут, что вконец обнищали Захарьины, добро свое на серебро меняют. Позор. Прочие расходы поджали, но за жилище столичное держались.
Однако же через четыре года Роман Юрьевич тоже преставился, и тут уж вовсе беда настала. Данила, старший из сыновей Романа, еще только в новиках был – а какой у новика прибыток? Ни от казны содержания, ни доли достойной в походах. Токмо служба одна да расходы: себя для похода по полному разряду снаряди – две лошади, броня, сабля, копье, лук со стрелами, щит и рогатина крепкая; холопов снаряди – не хуже себя, как положено; припасы с собою возьми самое меньшее на два месяца… Никите же, брату младшему, тогда и вовсе всего двенадцать исполнилось.
Расходы на службу – немалые. Жить семье тоже на что-то надобно. Доходы потомкам Романовым остались же только от прадедовской деревни Кошкино. Полста дворов, триста с небольшим чатей пашни, лес да болото… Не зажируешь. Даже уехать некуда: на подворье московское потратились – своей усадьбы не завели. На два дома доходов не хватило.
Спасибо – не гнал Григорий Юрьевич племянников из терема, жалел, хотя ныне вся тяжесть содержать подворье повисла на нем одном. Скрипел зубами боярин, каждое полено, купленное по счету, в печь отправлял, колья подгнившие в тыне подпирал до последнего, трещины в кровле смолой мазал, дворню кашами и репой кормил, лишь раз в неделю рыбу дозволяя, а мясо так и вовсе по праздникам – но держался, невесть на что надеясь, с домом семейным не расставался.
Однако кошкинского здесь не оставалось уже ничего – и потому женщины, так выходило, без спросу чужим пользовались. И дровами, горящими в топке, и самой печью, и даже горшком, в котором прела капуста с пшеном, заправленная для сытости мелко посеченным салом. Оправданием боярыне Ульяне служило лишь то, что хозяева ее о планах своих не упредили, а оставлять жилище вовсе не топленным дело зело вредное. Что-то померзнет, что-то полопается, стены выстудятся – потом за месяц не отогреешь. Да и печь замороженная треснуть способна. А и не треснет – растапливается потом тяжко. Дымит, коптит, сажа по топке всей откладывается. Так что Ульяна Федоровна своим самовольством весь общий дом захарьинский, считай, спасала. Однако дрова боярыня берегла, больше пяти-шести за раз не подбрасывая, и каждый раз дожидалась, чтобы они до углей прогорели.
– Матушка, а давай здесь сегодня ночевать останемся? Уж больно зябко в тереме нашем, – неожиданно предложила Анастасия, одетая по-домашнему, только в сарафан из мягкого бежевого сукна поверх исподней сатиновой рубахи. Темные волосы перехватывала лишь расшитая бисером полотняная лента.
Увы, но боярыне Кошкиной приходилось проявлять бережливость даже в одежде, и потому красоту недорогому наряду придавала только вышивка – шелковой нитью на поясе и бисером над грудью.
– Невместно людям боярского рода в людской-то спать, – наставительно ответила Ульяна Федоровна. – Чай, не холопы.
– Так ведь нет же никого, – развела руками девушка.
– То не в глазах чужих дело, а в достоинстве боярском, – покачала головой женщина. – Достойной деве и наедине с собой достойно себя вести надлежит!
– Здесь тепло, матушка. Наверху же у нас холод, ако в лесу зимнем! Ни одеяла, ни шубы наброшенные не спасают!
– Однако же постель достойная, а не лавка али сундук. Не каждому, доченька, в мире сем удается постелью собственной обзавестись! Так гордись сей возможностью, волей собственной не равняйся с рабами, каковым вповалку, где придется спать приходится.
– Может, и на лавках холопы ночуют, да в тепле, – тихонько посетовала Анастасия. – Коли дров еще чуток подбросить, так тут и без одеяла согреться можно. Зазря ведь тепло сие пропадает, матушка? Дом пустой, никто не увидит, не узнает. Перед кем чиниться?
– Пред совестью своей! – решительно ответила боярыня, сунула ухват в печь, ловко выставила горшок на стол. – Пусть чуток остынет.
Она поколебалась возле открытой топки, поворошила кочергой россыпь березовых углей и вдруг махнула рукой, метнула на них три толстых полена. Послышался легкий треск, и уже через мгновение береста полыхнула ярким белым пламенем.
Ульяна Федоровна обернулась к столу, перемешала горячее варево в горшке, сдвинула его ближе к углу, кивнула дочери:
– Садись, Настенька. Коли не спешить, так не обожжёмся.
Женщины стали по очереди черпать ложками кашу, дуть на нее, остужая, и так потихоньку, ложечка за ложечкой, незаметно умяли половину изрядной посудины.
– Половину на утро оставим, – решительно облизала ложку Ульяна Федоровна, – дабы с рассветом стряпней не заниматься. Пойду, дров еще принесу.
Боярыня подхватила у печи веревочную переноску, вышла из людской.
Юная Анастасия сразу догадалась, зачем матушка так поступает, и тоже отложила ложку. Но уже через мгновение не выдержала, схватила и торопливо черпнула ароматного варева еще несколько раз. Снова положила ложку и решительно отодвинула, а сама встала и отошла на несколько шагов. Она все еще не наелась – но совесть не позволяла девушке пользоваться общим угощением в одиночку.
– Ох, на улице и вовсе сущий Карачун настал, – вернулась боярыня с охапкой заиндевевших, дышащих холодом поленьев. – Уши, ако береста, сворачиваются!
– У нас в тереме, верно, постель тоже заледенела, – потупив взор, тихонько сказала Анастасия.
– А и бог с тобою, – вдруг решилась Ульяна Федоровна. – Чего теплу пропадать? Обернись наверх, одеяла принеси. На них заместо перины ляжем.
– Сей миг, матушка! – обрадовалась девушка.
Она быстренько выкатила из печи уголек, запалила от него хвощовую свечу, выбежала из людской. А когда вернулась, неся на плече пухлые перьевые одеяла, боярыня уже успела сдвинуть к печи, плотно составив, четыре лавки. Коли в доме никого – так чего тесниться?
– Дверь входную проверь, пока свеча не погасла, – принимая одеяла, сказала Ульяна Федоровна.
Анастасия кивнула, быстрым шагом пробежала до сеней, потрогала тяжелые засовы, вернулась назад. Там ее уже ждала просторная постель, залитая алым светом из полыхающей топки. Было в этом что-то сказочное, пугающее и завораживающее.
– Матушка? – неуверенно спросила Настя.
– Иду, иду! – отозвалась из-за двери Ульяна Федоровна. – Про подушки-то забыли!
Боярыня появилась в людской, бросила подушки в изголовье, зябко передернула плечами.
– Морозит к ночи, матушка?
– Вестимо, выстуживает, – согласилась женщина, вытянула из связки еще пару поленьев, метнула в топку. Подумала и подбросила еще. – Мыслю, не осерчает Григорий Юрьевич, коли тепло сбережем. Давай укладываться.
Боярыни Кошкины сняли сарафаны, в рубахах забрались на расстеленное одеяло, прикрывшись вторым. Впрочем, вполне можно было обойтись и без него. В топке опять загудело пламя, жарко дыша наружу, играя алыми отблесками на сооруженной наскоро постели. В этом уютном свете пламени, в тепле и сытости Анастасия заснула почти мгновенно.
Ей было хорошо, покойно. Девушка ощутила себя почти счастливой – и в видении ночном она тоже стала совсем иной, не то что наяву. Не безродной бесприданницей – а княгиней знатной, в белой шубе соболиной и шапке из бобра, с оплечьем жемчужным и в сарафане с самоцветами. И персты все от колец сверкали. На возке белоснежном прямо в Кремль она вкатилась, полог медвежий откинула, из саней на площадь из плашек дубовых вышла, по ступеням в храм Благовещенский взошла…
И было пусто окрест – ни единой души живой и ни единого шевеления. Двери же сами собою распахнулись – а на ступенях оказался он, сам Великий князь, что уж месяц к службе не выходил, в ферязи красной, да с золотом, в шапке песцовой, в поясе самоцветном. Увидел княжну-красавицу белую и прямо ахнул весь, руки ей протянул, к поцелую склонился. От радости екнуло сердце Настеньки, ослабела она чуть не до беспамятства, охнула… и проснулась.
Печь, видно, давно прогорела – топка была закрыта, вьюшка задвинута. Однако в людской все равно оставалось еще тепло, если не сказать жарко. Боярыня сладко потянулась, спросила:
– Матушка, а какой сегодня день?
– Воскресенье, Настенька. Надобно в церковь собираться.
– Зачем? – Девушка перекатилась со спины на живот. – Ивана Васильевича как на царствие венчали, так он более на людях и не показывается. Да и до того цельный месяц к службе не приходил.
– Что нам до государя? – придирчиво рассматривала одежду Ульяна Федоровна. – Мы же не на него смотреть ходим, а себя показывать.
– Он самый красивый на свете, матушка, – сладко потянулась Настя. – И лицом ладен, и телом крепок, глаза прямо яхонты! Как небо чистые.
– Ох, много ты видела глаз этих от придела дальнего!
– А он на меня, матушка, смотрел! И как смотрел… – Девушка зажмурилась и вновь, словно наяву, представила себе облик юного государя, его голубые глаза, его улыбку. Вновь затрепетало сердечко, и пробежало по телу волнительное тепло.
– Нашла чего вспоминать, – тряхнула шубу боярыня. – Он и на кота у крыльца, вестимо, смотрит. Много коту от того пользы?
– Нет, матушка, он на меня не так смотрел! Я же чувствовала! Ах, если бы он со мною поздоровался, беседу завел… – мечтательно ответила девушка, не открывая глаз. – Я бы ему точно по сердцу пришлась!
– Для бесед у него княжон знатных в достатке, – фыркнула Ульяна Федоровна. – А кто Иван Васильевичу по сердцу, о том приказ иноземный побеспокоится. Посольский то бишь. Государи, милая, не по сердцу, а по надобности державной женятся. Ты одевайся давай, чего разлеглась?
– А сны на воскресенье сбываются, матушка? – Настя села на краю постели, потянулась к теплому сарафану.
– Нет, – мотнула головой женщина. – Токмо четверговые.
– Жаль, – вздохнула Анастасия. – Мне нонеча привиделось, что княжной я заделалась знатной да в богатстве вся по Москве разъезжаю.
– Такие сны и вовсе ни в какой из дней не сбываются, Настя, – добродушно рассмеялась Ульяна Федоровна. – Для такого чудо великое случиться должно. А Рождество, доченька, уж месяц как прошло. И даже Крещение миновало. Время чудес позади…
Тут по дому прокатился гулкий стук.
– Ох, господи! – испугалась женщина. – В дверь кто-то колотит! Вот говорила же я… Сворачивай все быстрее и уноси! Не дай бог кто прознает про позорище такое, в людской боярам спать… И оденься скорее! Пойду открывать. Может, задержу.
Нарочито без спешки Ульяна Федоровна прошла через дом в сени, отодвинула оба тяжелых засова дверей – и створки сразу распахнулись, впустив облако морозного пара, слепящее зимнее солнце и нескольких мужчин.
– Лошадей не расседлывать, ныне же отъезжаем! – громко распорядился Григорий Юрьевич, ныне одетый в тулуп поверх покрытой изморозью кольчуги. – Сани запрягайте! И ворота распахните, а то мы всю улицу запрудили!
– А… Мы… – не сразу нашлась что сказать нагрянувшему хозяину подворья Ульяна Федоровна.
– Рад видеть тебя, невестушка. – Григорий Юрьевич неожиданно крепко обнял жену покойного брата. – Как тут без нас, управились? Настенька во здравии ли?
– А-а-а… Наверху, в тереме, – оглянулась через плечо женщина.
– Ну, так зови! – Стирая рукавицами иней с усов и бороды, розовощекий боярин прошел в дом. – Я в людскую, погреться. Печь-то топили?
– Да, ныне теплая! – обрадовалась Ульяна Федоровна. – Но ночью, понятно, дрова не жгли.
– Ну, так щ-щас затопим! – рассмеялся Григорий Юрьевич. – Час-другой у нас всяко имеется! Пока холопы сани заложат, пока вы сами уложитесь… Ах да, невестка! Вы это… Одевайтесь нарядно да тоже сбирайтесь. За вами я прискакал, с рассвета в седле.
– Сейчас, кликну! – Ульяна Федоровна заторопилась в людскую, обгоняя боярина, и точно: застала дочь с подушками в руках, торопливо отпихнула в сторону, полузаслоняя собой. Спросила: – А что за нужда такая в нас возникла вдруг, Григорий Юрьевич?
– Радость в семью вашу я привез, Ульяна Федоровна, – широко улыбнулся боярин, сбросив тулуп на составленные лавки. – Жених для Анастасии твоей внезапно нашелся! Знатный и не бедный. О приданом даже не спрашивал. Так что сбирайтесь скоренько, и выезжаем. До темна до дворца его добраться надобно, завтра венчание.
– Дворец?! – радостно охнула Ульяна Федоровна.
Одно это слово рассказало о будущем зяте больше тысячи книг.
Жених жил не в доме, даже не в усадьбе – во дворце! Сиречь – не о сыне боярском, и даже не о боярине речь пошла, а о князе самое меньшее, да не худородном.
– Завтра?! – испуганно охнула Анастасия, уронив спрятанные за спиной подушки. – Уже?!
Юная боярышня знала, что рано или поздно это случится. Даже надеялась на сие – ибо кому же хочется в старых девах-то остаться? Для бесприданницы нищей любой брак за радость выйдет. Однако известие обрушилось на нее столь внезапно, да еще после столь сладкого колдовского сна, что она не справилась с нахлынувшими чувствами и громко выдохнула:
– Не пойду замуж! Не хочу! Другого я люблю. Слышите? Другого! Не хочу за постылым век куковать! Лучше в монастырь! Лучше в приживалки! Не пойду, слышите, не пойду! У алтаря отказ выкрикну! – Девушка развернулась, побежала наверх, в терем, стремглав взлетев на третье жилье по скрипучей лестнице, метнулась в опочивальню и с размаху рухнула на теплые еще одеяла, зарылась в них лицом, застучала кулаками: – Не пойду!
Вскорости постель промялась, рядом с нею опустилась Ульяна Федоровна, погладила по голове:
– Что же ты, доченька? Удел наш такой, милая. Хочешь не хочешь, но род продолжать надобно, детей рожать, дом крепить. Судьба уж такая бабам всем на роду написана… Мужи вон в походы ходят. Во славу державы православной, для возвышения потомков своих кровь в битвах проливают, а то и живот свой кладут. Мы же лоном своим семье служим. Потомков приносим, родством связи нужные скрепляем. Нельзя без этого. Так уж мир сей устроен, что нельзя.
– А я не хочу! – Девушка хлюпнула носом, поднялась, обняла мать, прижавшись к ней всем телом. – Я по любви хочу! Как в сказке! Чтобы страсть до смерти! Чтобы жизни без него не было! Дабы каждый раз, как мужа видишь, душа замирала от радости. Дабы намиловаться не могла, натешиться. Чтобы каждое прикосновение как праздник!
– Стерпится – слюбится, – тихо ответила Ульяна Федоровна, продолжая ласково водить по волосам дочери. – Поначалу, может статься, страшновато покажется. Но потом малые пойдут, хлопоты навалятся. Привыкнешь на мужнее плечо опираться, каждая встреча за праздник казаться будет. Особливо как с похода возвращаться станет. У них же жизнь такая… Дома отдохнул, детей поцеловал, жену обнял, да и снова в поход… И сиди, гадай… Вернется, или ты вдовая ужо, да токмо пока не знаешь… – Боярыня неожиданно тоже хмыкнула носом и наклонила голову, уткнувшись лицом в волосы дочери. – Может, оно и лучше, без любви-то? Дабы сердечко от страха-то каждый раз не рвалось?
– А я не хочу! – упрямо прошептала Настя, прижимаясь еще крепче к материнской груди.
Тяжело заскрипели ступени лестницы, потом доски в коридоре. В дверях кашлянул Григорий Юрьевич.
– Горюете, бабоньки? – хмыкнул он. – Оно правильно – перед свадебкой девке поплакать, оно по всем обычаям полагается. Ну а пока ревешь, племянница, послушай меня очень внимательно. Брат у тебя есть, Данила. Ныне он кровь на порубежье татарском проливает. Коли замуж ты завтра выйдешь, так его нынешним же месяцем в окольничие возведут. И будет он ужо не сыном боярским в общем строю, а полком командовать, многими сотнями служивых, и заместо трех рублей в год целых тридцать токмо от казны получать. Еще у тебя есть брат Никита. Коли замуж ты завтра выйдешь, так года через три, как срок положенный он в походах новиком проведет, так тоже окольничим станет и нужды никогда в жизни не изведает. Есть у тебя сестра Анна. Коли замуж ты завтра выйдешь, то не бесприданницей она уже будет, каковыми вы ныне выходите, а невестой зело завидной. Да и матушке твоей грошики считать более не придется. А коли откажешься под венец завтра идти, то тем обиду жгучую у жениха отвергнутого вызовешь, посеешь вражду лютую заместо дружбы и союза крепкого. И вместо наград всех заготовленных как бы жених на всем роду нашем захарьинском ту обиду лютостью не выместил… Подумай над сим, Анастасия. Крепко подумай! Но недолго, ибо кони в сани ужо запрягаются и надобно сбираться вам быстро да выезжать. Скажи, племянница, согласна на брак, мною сговоренный, али прахом все старания семьи нашей пустишь?
Боярин отступил, потоптался возле лестницы, громко вздохнул, вернулся:
– Что скажешь, девочка? Ты едешь?
Из глаз Анастасии выкатилась горячая слеза. Она всхлипнула… и кивнула.
Душа ее кричала: «Нет!», сердце горело от боли – но, кроме любви, у Насти имелся еще и разум. Боярышня Кошкина понимала, что ради благополучия всей семьи, ради братьев, сестры, ради матери одной из дочерей в роду можно и пожертвовать. Так уж складывается, что жертвовать будут ею, Настей.
Судьба.
Боярышня разжала объятия, вытерла глаза и поднялась:
– Давай сбираться, матушка. Сани ждут.
Словно в насмешку над ночным видением, полукрытые сани оказались снежно-белые – пока стояли на дворе, все изморозью покрылись. И полог в них был медвежий. Усевшись, женщины накинули его на ноги, укутали плечи в беличьи пелерины. Ворота распахнулись, возок выкатился на утоптанные московские улицы, повернул на юг, соскользнул из Китай-города прямо на ровный лед Москва-реки. Возничий взмахнул кнутом.
– Куда хоть едем, служивый? – негромко поинтересовалась Анастасия.
– Тебе лучше и не знать, боярыня, – оглянулся через плечо холоп. – Вишь, в броне постоянно ходим? Как бы не случилось чего, коли ухо чужое прослышит.
– К кому хоть едем? – уже громко подала голос Ульяна Федоровна. – Хоть молодой он, старый? Собою ладен?
– И не спрашивай, боярыня. Сглазишь…
– Только бы не старик… – плотнее запахнув на груди пелерину, прошептала Настя. – Господи, только бы не старик!
Мимо проплывали белые тонкие кроны разбитого напротив Кремля великокняжеского сада, по небу ползли легкие облачка, создававшие вокруг солнца радужный ореол. Все выглядело красиво, празднично – словно в сказке. На душе же девушки скапливались все более и более мрачные предчувствия. И вновь из глаз выкатились одна за другой две слезы. Настя откинулась к задней стенке возка и стала смотреть в чистое и ясное, как любимые глаза, небо.
Когда небо стало темнеть, сани вкатились в ворота, остановились у крыльца высокого дома. Женщины выбрались из возка, немного прошлись, разминая ноги.
– Часа три ехали, – прикинула Ульяна Федоровна. – Верст десять, выходит. Совсем недалече от Москвы. Коли галопом, так от заутрени до рассвета в Кремль поспеть можно. А двор-то какой! Церковь своя, амбары большие. Дворец богатый.
Анастасия промолчала. Холопы тем временем отвязали и сняли с задка саней сундук с их вещами, понесли наверх. Женщины поспешили следом и так, по стопам слуг, оказались в просторной горнице с небольшим слюдяным оконцем, с обитыми толстой ногайской кошмой стенами и коврами на полу. Комнату освещали сразу три масляные лампы, да плюс к тому на подоконнике стояли вычурные пятирожковые подсвечники.
– Ох ты, благодать какая! – Боярыня обошла горницу, провела ладонью по кошме. – Ай да Григорий Юрьевич, вот молодец! При встрече в ножки отныне кланяться стану. Теперь я за тебя, доченька, спокойна. В хорошие руки отдаю. Как сыр в масле кататься станешь.
Ульяна Федоровна остановилась перед гладкой стеной, выложенной зеленым одноцветным кафелем, приложила ладонь, отдернула:
– Горячая! – Она дошла до двери, толкнула, заглянула, восторженно охнула: – Да тут опочивальня! Перина высоченная! И балдахин! И печь какая дивная, изразцовая! Без дверцы. Вестимо, снаружи откуда-то топят. А стены, глянь, расписные все! Ох, доченька, повезло тебе, так повезло!
– Устала я, мама, – скинула шапку Анастасия, расстегнула шубу. – Почивать пойду.
– Постой, как же это?! – забеспокоилась Ульяна Федоровна. – Ты же сегодня даже не покушала ни разу!
– Не хочу, матушка. – Девушка кинула шубу на лавку у окна. – Сыта.
Она перешла в опочивальню, сняла сарафан, вытянулась на постели, глубоко утонув в мягкой перине, и вцепилась зубами в угол подушки, стараясь не заплакать.
Но у нее не получилось.
Пока дочь отдыхала, Ульяна Федоровна разобрала сундук с вещами. В деревне сказали бы – с приданым, но какое это приданое для боярской дочки? Немного украшений, широкий пояс, нарядный вышитый, пара сарафанов с бисером, кокошник, ленты, приготовленные на свадьбу платье и пелена.
Их боярыня и развернула на лавках, дабы от складок отлежались и проветрились. Именно они первыми и попались Анастасии на глаза, когда утром та вышла из опочивальни. Но девушка даже не вздрогнула. Все слезы были уже выплаканы, все думы передуманы, все мечты похоронены. Остался только долг. Долг женщины перед своей родной семьей.
Анастасия внешне спокойно стянула через голову рубаху, в которой спала, облачилась в чистую. Села перед зеркалом из полированного серебра, позволила матери переплести косу, подрумянить щеки, начернить глаза, вдеть серьги, украсить пальцы перстнями. Надела платье, повесила на шею оставшиеся в шкатулке ожерелья, украсила лоб кокошником. Так же спокойно и послушно поела принесенных матерью кураги и фиников, запив все компотом, подняла пальцы, давая возможность покрыть ногти хной, губы затемнила свеклой и спрятала лицо под тройной белой пеленой.
Готовились к венчанию боярыни Кошкины тщательно, не спеша, потратив на все почти три часа времени, и потому ждать им почти не пришлось. Когда снаружи зазвучали колокола, невеста только-только была готова. Матушка набросила ей на плечи шубу, а вместо шапки, дабы не помять убор, накинула на голову пелерину. Взяла под локоть, повела через дом. В таком одеянии Анастасия не видела ничего, кроме пола на три шага перед собой. Однако ей больше ничего и не требовалось.
Девушка вышла на крыльцо, осторожно спустилась по ступеням, миновала двор, взошла на ступени храма, перешагнула порог. Здесь заботливые руки сняли с нее пелерину, шубу, и уже совсем другая, большая и сильная, ладонь взяла невесту за руку, повела вперед, к аналою.
– Господи, только бы не старик! – еле шевеля губами, взмолилась Анастасия. – Иисусе, Господь всемогущий, только бы не старик!
Она до ужаса боялась поднять голову, разочароваться, сорваться в последний миг, и потому шла через церковь, как и ранее от дома – со смиренно опущенной головой. Жених остановил ее, и Настя невольно сглотнула.
Священник начал литургию. Голос его показался боярышне странно знакомым, но девушка оказалась слишком взволнованна, чтобы понять, кому он принадлежит.
Литургия закончилась, отче тонкими белыми пальцами вручил ей зажженную свечу.
– Венчается раб божий Иоанн и раба божия Анастасия! – гулко прозвучал голос святого отца, и его тут же подхватил разноголосый хор.
Девушка вздрогнула и невольно проговорила:
– Только бы не старик! – но в пении и молитвах ее никто не расслышал.
Анастасии внезапно стало жарко. Таинство венчания переворачивало ее душу. Хотя, может статься – так и должно было быть?
Священник читал и читал молитвы, пока, наконец, не обратился к ней:
– Берешь ли ты, раба божья Анастасия, в мужья свои раба божьего Иоанна?
Девушка напряглась, понимая, что вот сейчас, в этот миг и решается судьба, что одним лишь словом она отрежет всю свою прежнюю жизнь, совершит нечто непоправимое. И не без усилия, совсем негромко выдавила:
– Да! – выдохнула и до боли прикусила губу.
Вот и все! Теперь она чья-то жена…
Ответа мужа девушка не слышала. Как во сне сделала три глотка крови христовой из поднесенного золотого кубка, вытянула руку. Священник привязал ее полотенцем к руке мужчины рядом, трижды обвел вокруг алтаря.
– Отныне объявляю вас мужем и женой, дети мои! Можете поцеловать друг друга!
Анастасия вздрогнула, судорожно сглотнула.
Сильные руки взяли ее за плечи, повернули. Откинули с лица тонкую кисейную пелену. Взяли за подбородок, осторожно поднимая лицо вверх.
Настя в испуге зажмурилась, до последнего мига оттягивая неизбежное.
«Господь-вседержитель, молю тебя! Что угодно, только бы не старик!»
Но ждать до бесконечности невеста не могла. Анастасия открыла глаза, увидела пред собою могучего юного богатыря в царских нарядах, драгоценные голубые глаза, улыбку из вчерашнего сказочного наваждения и невольно охнула:
– Ой, мамочки… – Тело пробило предательской слабостью, ноги подогнулись…
Но плечи девушки уже находились в могучих руках мужа. Он удержал Настю, наклонился и крепко поцеловал.
Мир вокруг словно схлопнулся в небытие, в котором осталось только сие прикосновение желанных губ, от которых потекли по телу сладкая истома, теплота, чудесное состояние легкости, безмерного счастья…
Митрополит кашлянул, привлекая внимание забывшихся в поцелуе молодоженов, потом чуть громче. Прошептал:
– Вот охальники… – и уже громче добавил: – Да намилуетесь еще, дети! Весь век впереди!
Иоанн послушался, чуть отодвинулся. Но Анастасия никак не могла оторвать от него своих глаз, млея в неге, в колдовском наваждении от любящего, истинно любящего взгляда мужа!
Наконец царь всея Руси взял свою царицу за руку и повел к выходу из храма, к людям, встречающим их радостными криками, под дождь из проса и монет.
– Только бы не сон! Господи, только бы снова не сон! – шепотом молилась девушка и как могла крепче держалась за руку своего мужа. И опять плакала. Теперь уже вовсе непонятно почему.
Казалось, это не кончится никогда – целую вечность сидели они на свадебном пиру, глупо теряя первые часы супружества. Но неожиданно между тронами новобрачных появился молодой худощавый боярин в темно-зеленом кафтане, безусый еще и безбородый, негромко спросил:
– Вам в покои чего-нибудь припрятать, государь?
– Ты кто? – покосился на него юный царь.
– Боярин Алексей Адашев, государь, – склонил голову паренек. – Стряпчий я, по хозяйству в сем дворце твоем помогаю. Постель вам приготовил новобрачную. Баня тоже топится, дабы опосля трудов супружеских отдохнуть. По обычаю я вам курицу вареную за изголовьем положил. Но коли желаете, могу еще чего-нибудь отнести. Вам же тут ничего не кладут. Верно, голодные?
Иоанн посмотрел на жену. Та лишь счастливо улыбнулась. Ей было все равно.
– В бане стол хороший накрою, – не дождавшись ответа, сделал вывод Адашев. – Коли нужно что, я у левой двери стою…
Боярин исчез. Юный государь прикусил губу, привстал, обводя зал взглядом.
– Но мы тут запировались, дети мои! – перекрыл шум веселья голос митрополита Макария. – Молодые же наши притомились, пора их в опочивальню отпустить!
Святитель поднялся со своего места, принял из рук служки образ Владимирской Божией Матери в золотой оправе, подошел к государю:
– Да будет ваш брак благословен, счастлив и плодовит! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. – Патриарх перекрестил иконой Иоанна, дал поцеловать, потом перекрестил Анастасию, тоже позволил приложиться губами. Передал образ мужу. – Ступайте с богом.
Рядом с государем возник Алексей Адашев, принял икону и, неся ее перед собой, направился к дверям в углу трапезной. Молодые двинулись за ним.
Путь по коридорам оказался недолог – полтораста шагов, два поворота, – и боярин распахнул перед новоявленными супругами двустворчатые двери расписной, ярко освещенной горницы. Быстро пробежался, поправил покосившуюся на подставке лампу, потрогал одну изразцовую печь, вторую, обернулся:
– Государь, государыня… Я всего на миг в опочивальню к вам зайду, святой образ над постелью повешу… По обычаю…
Адашев бесшумно нырнул за дверь, что была напротив входной, и действительно почти сразу вышел, поклонился:
– Баня вскорости готова будет, я за дверью сей сторожу. Коли понадоблюсь, стукните али позовите просто… – Он обогнул молодых, закрыл за ними створки.
Иоанн и Анастасия остались наедине, не сводя друг с друга глаз.
– Три месяца я мечтаю услышать твой голос, ладушка моя ненаглядная, – признался юный царь. – Скажи мне хоть что-нибудь. – И улыбнулся: – Только не шепотом!