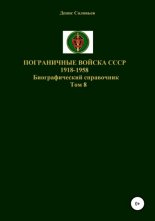Царская любовь Прозоров Александр

Часть первая
Взгляд прихожанки
6 декабря 1546 года
Благовещенский собор Московского Кремля
В сей день, шестого декабря в семь тысяч пятьдесят четвертом году от сотворения мира, сразу по окончании заутрени юная боярская дочь Анастасия, младший отпрыск из рода боярских детей Захарьиных, позволила себе в Благовещенском соборе великую дерзость. Полагая остаться невидимой за краем колонны, она не стала кланяться Великому князю.
В крамольном поступке юной девушки не имелось никаких бунтарских замыслов или оскорбительных желаний. Шестнадцатилетняя девушка хотела всего лишь незаметно рассмотреть столь же молодого, неполных семнадцати лет, государя Ивана Васильевича.
Однако же вышло все с точностью до наоборот. В тот самый миг, когда свита государя проходила мимо Настиного укрытия, юный Великий князь внезапно повернул голову в ее сторону и посмотрел прямо в глаза. Твердо и открыто, словно желал разглядеть самую душу боярышни – и сердце екнуло, затрепетало в груди девушки, а по коже явно от испуга прокатилась щекочуще-горячая волна. Анастасия ощутила, как краснеют у нее уши и щеки, как невольно приоткрылся рот.
Иван Васильевич улыбнулся и вроде бы слегка покачал головой, словно с укоризной. Он шел дальше, окруженный боярами и рындами, – но ни на миг не сводил с Насти своего веселого и внимательного взгляда.
Девушка поняла, что попалась, растерянно улыбнулась в ответ – и поспешила склонить голову пред властителем всея Руси.
Умолкли шаги, зашуршали шубы расходящихся прихожан, матушка потянула Анастасию за локоть к выходу – а облик юноши, его взгляд, его улыбка никак не шли из головы боярской дочки, как не оставляло девушку и то странное чувство, из-за которого замирало с трепетом сердце, а по всему телу разбегалось нежное тепло.
– Матушка, он на меня посмотрел… – прошептала Настя.
– Кто?! – оглянулась на дочь Ульяна Федоровна.
– Государь…
– А-а-а… – Женщина мгновенно утратила интерес и закрутила головой в поисках возможных собеседников.
– Матушка, он на меня посмотрел так, словно… словно… – никак не могла подобрать нужного слова девушка.
– Словно рублем одарил, – охотно подсказала Ульяна Федоровна. – Ну и что?
– Матушка, он так посмотрел… Словно я единственная на всем свете белом! Матушка, у меня до сих пор сердце стучит! И на душе тревожно. Мне кажется, я в него… Я в него…
– Настенька, – на этот раз Ульяна Федоровна остановилась и повернулась к ней лицом. – Настенька, тебе уже шестнадцать, давно пора повзрослеть. Ты сама подумай, кто он, а кто ты? Ему по рождению написано с правителями иноземными родниться, али с князьями знатными на худой конец. Союзы в интересах державных выстраивать. Нам же с тобой за счастье из детей боярских в люди выбиться. И покуда ты, Анастасия, в мечтаниях сказочных порхаешь, как бы тебе вовсе в девах старых не остаться! Ты бы лучше не на Иоанна пялилась, а молодцев из свит княжеских посматривала да внимание привлекала. И взгляд чтобы скромный в пол сразу, как оглянутся. Ты у меня краса видная, коса длинная. Глядишь, в сердце кому и западешь…
– Матушка, ты не поняла! Он так на меня посмотрел… – Настя снова задохнулась от сладкого воспоминания.
– Посмотрел и посмотрел, – пожала плечами женщина. – Мужики, как на крыльцо поднимаются, на каждую ступеньку смотрят. Однако же замуж их не зовут. Выброси ты эту блажь из головы! Нам бы надо хоть с кем из бояр знатных разговориться, а не на мечтания пустые время тратить. Молодость мимолетна. Оглянуться не успеешь, а тебе уже осьмнадцать. И кому тогда ты, дева старая, окажешься нужна? Так что, Настенька, не дури! Ну подумаешь – посмотрел? На глаза попалась, только и всего! Вздохни еще разик, и забудь!
12 декабря 1546 года
Церковь Ризоположения Московского Кремля
В маленькой церквушке, притулившейся на самом краю площади, сразу за Грановитой палатой, пахло горячим воском, ладаном и сладким пчелиным медом. Здесь было тесно, сумрачно и тихо. Так тихо, что Великий князь Иван Васильевич различал потрескивание фитилей в горящих свечах, шуршание голубей в продыхах высоко под потолком и даже шелест мягкого индийского сукна, выбранного митрополитом Макарием для пошива своей мантии.
Государь всея Руси любил беседовать с патриархом. Круглый сирота, презираемый всем дворцовым окружением, он находил любовь и сострадание только здесь, у своего духовного наставника, возле мудрого, неизменно спокойного и слегка грустного святителя-иконописца. И хотя в свои неполные семнадцать лет Великий князь сумел вымахать ростом[1] крупнее всех московских бояр, в плечах развернулся на добрый аршин, а ударом кулака мог легко свалить лошадь – рядом с невысоким и хрупким седобородым старцем Иван Васильевич всегда чувствовал себя тем десятилетним мальчишкой, каковым впервые увидел нового святителя. Впервые исповедался, впервые услышал слова сочувствия и утешения, впервые за несколько лет, прошедших после смерти матери, его с нежностью погладили по голове. Рядом с митрополитом юноше было хорошо и покойно, даже благостно, и потому он не роптал, дожидаясь за спиной святителя окончания его молитвы. Разве только расстегнул скромную, без украшений, рысью шубу, крытую синим сукном, открыв свету поддетую снизу красную с золотом ферязь, и чуть сдвинул на лоб зеленую войлочную тафью.
Наконец святитель перекрестился, низко склонился перед распятием, снова перекрестился и, повернувшись к терпеливому прихожанину, раскрыл руки:
– Иди сюда, сын мой!
– Благослови меня, отче! – Юный государь заключил наставника в столь крепкие объятия, что митрополит невольно крякнул, и тут же отпустил: – Прости, отче!
– Ништо, дитя мое, – улыбнулся старец. – Ты возмужал, это не может не радовать. Надеюсь, разум твой столь же крепок, как и руки. Ты прочел «Повесть о бесе Зерефере», отписанную тебе патриархом Иеремией, да будет милостив Господь к его многогрешной душе?
– Все прочел, отче, – кивнул юноша, огладив гладкое, еще безбородое лицо. – И «Повесть о бесе» прочел, и «Наставления простой чати», и «Об Акире Премудром», и «Стефанита и Ихнилата». И даже «Пчелу» последнюю прочел. Чем еще мне в покоях заниматься, как не книги бабкины да греческие листать?
– Ты словно сожалеешь о возможности прикоснуться к мудрости величайших мыслителей ойкумены, сын мой, – укоризненно покачал головой митрополит Макарий. – Ты государь величайшей державы обитаемого мира. Дабы править достойно, тебе надлежит ведать все хитрости и воинского искусства, и дипломатии, и землемерия, и счета, и многих других наук земных и духовных.
– Я постигаю, отче, – смиренно кивнул Великий князь.
– Это славно, Иоанн… – Святитель уловил безразличие в голосе воспитанника, еще раз осенил себя крестным знамением, создав тем небольшую заминку в беседе, и спросил: – Однако же что привело тебя в храм Ризоположения в столь неурочное время, сын мой?
– Я бы хотел исповедаться, отче, – склонил голову государь всея Руси. – Ибо вожделение овладело моей душой и моим разумом. Мне не по силам справиться с сим испытанием самому.
– Вожделение? – Святитель изумленно вскинул брови. От своего воспитанника Макарий подобного признания уж точно никак не ожидал. – Что же, сказывай. Приму твое покаяние.
Юноша задумался. Перекрестился. Затем еще раз одернул шубу и только после этого заговорил:
– Она уже два месяца ходит к воскресной службе в Благовещенском соборе. Встает в задних рядах… – Великий князь снова надолго замолчал. Опять отер лицо ладонью: – Она изящна, как лесной ландыш, ликом же подобна ангелу. Глаза ее черны, ровно зимняя ночь, брови тонки и соболины, губы алы, ровно сладкая малина, а волосы темны, как крыло ворона. Я видел ее улыбку, отче!!! И мне безмерно хочется узреть сию улыбку снова. Хочется увидеть ее улыбку, услышать звучание ее голоса, хочется коснуться ее кожи! – Иван Васильевич сжал кулак, вскинул его к губам. – Она не идет из моей головы ни на единый миг, святитель Макарий! Я постоянно вижу ее облик, я постоянно мечтаю познать ее желания. Я читаю книги – и гадаю о том, понравились бы они сей деве али нет? Я слушаю хоралы – и хочу разделить с нею радость сего наслаждения. Я сажусь к обеду – и представляю ее рядом за своим столом. Думы мои токмо о ней одной даже в часы молитвы! Образ девы сей заполонил жизнь мою, отче. Каюсь, святитель, ибо грешен, – склонил голову Великий князь. – Я ее вожделею.
– Порадовал ты меня, чадо мое, зело порадовал, – слабо улыбнулся митрополит, положив руку на плечо воспитанника. – Самой строгою мерой ты не с других, с самое себя вопрошаешь. И в делах и помыслах чистым пребывать желаешь, согласно заветам Господа нашего Иисуса. Однако же порицания от меня ты не услышишь, Иоанн. Ибо грех вожделения есть грех плотский и срамной, утешение пустой похоти, суть блуд животный. В тебе же не плоть срамная страдает, а сердце и душа твои. Сие не есть греховные помыслы. Влечение к женщине дано нам свыше, от самого создателя, изрекшего: «плодитесь и размножайтесь». Желание сие, в сердце вошедшее, есть дар божий, а не грех, и епитимьи накладывать тут не за что. Живи спокойно, чадо. Твоя душа чиста пред Господом нашим. Ты достойный муж и честный христианин.
– Завтра воскресенье, отче, – поднял глаза на митрополита юноша. – Как мне поступить, скажи? Совета у тебя прошу, святитель!
– Я стану молиться за тебя, Иоанн, – перекрестил государя митрополит. – И ты молись. Господь ниспослал тебе свой дар. Он укажет и путь. Будь терпелив, дитя мое, и воздастся тебе за смирение.
– Благодарю, отче, – поцеловал благословившую его руку юноша, перекрестился и вышел из церквушки, оставив святителя наедине с высоким распятием и многоступенчатым иконостасом, уходящим верхними рядами в сизый дымный мрак.
Описанную воспитанником прихожанку митрополит узнал сразу. Пожалуй, даже еще до того, как вошедший в Благовещенский собор государь прямо в дверях воровато посмотрел влево, в сумрачную часть храма, где жались к стене самые худородные из пускаемых в Кремль бояр. Одна из стоящих там девушек торопливо опустила лицо. Действительно хрупкая – утонувшая в шубе, и ростом Иоанну самое большее по плечо, с ангельским ликом, словно выточенным индийскими мастерами из белоснежной слоновой кости. И настолько черными глазами, что издалека они казались просто темными точками.
– Отец Сильвестр, – негромко окликнул Макарий седобородого священника, старательно расправляющего складки патриаршей фелони. – Видишь двух женщин справа от двери, в шапках горностаевых? Передай, что после литургии с ними желаю побеседовать. И до причастия без сей беседы не допускаю.
– Согрешили в чем-то? – вскинулся служитель и моментально сник под взглядом митрополита. – Да, святейший, сей миг исполню.
Протопоп Сильвестр стал пробираться через храм, а патриарх русской православной Церкви подступил к алтарю и начал таинство благословения приготовленных к литургии даров. С балкона над входными вратами зазвучал хор, славя имя Господа Иисуса Христа, повернулись к иконостасу прочие священники, склонили голову и закрестились прихожане.
Митрополит, отступив от алтаря, выслушал литургию оглашенных, после снятия покрова Царских врат прочитал анафору. Затем начался обряд причастия.
Макарий благословил только государя и его ближнюю свиту – прочие бояре получили дары из рук многочисленных священников и протопопов. Посему быстро освободившийся святитель жестом подозвал женщин, что терпеливо дожидались его воли неподалеку от образа святого Николая. Укоризненно покачал головой:
– Второй месяц вижу вас, дщери мои, в сем храме, однако же ни разу не замечал, чтобы к исповеди вы подходили и причастию. Нешто тайны какие храните в душах своих, о каковых даже Господу поведать стыдитесь?
– Что ты, что ты, святитель! – испугалась старшая женщина. – Как можно во грехе таком жить, без Святых Даров? Церковь Святого Георгия недалече от дома нашего стоит. Там и причащаемся. Сюда же токмо к литургии твоей ходим, святитель. Благость твою патриаршию ощутить.
Младшая боярышня лишь скромно потупила взор.
– Как твое имя, дщерь моя? – спросил Макарий.
– Раба божья Ульяна, – торопливо перекрестилась боярыня. – Вдова боярина Романа Юрьевича, из рода Кошкиных. А сие – дочь моя, Анастасия, раба божья.
– Коли благость мою ощутить желаете, отчего за благословением ни разу не подошли?
– Так ведь к тебе токмо князья кланяются, святитель, да бояре думные. Куда нам, худородным, такой чести искать? – повинилась женщина.
Весь облик прихожанок подтверждал ее слова. Шапки и шубы из горностая – меха недорогого, простецкого, токмо у смердов простых за красивый почитающегося. Сукно подвытерто, пояса кожаные, сумки поясные без украшений. Явно небогатая семья и без родичей знатных, что поддержать могут, к месту приставить, али знакомых нужных найти.
Тайна вдовы Романа Кошкина разгадывалась без труда – по ленте в черной и толстой косе ее дочери. Повзрослела ее доченька, ноне на выданье, а жениха удачного взять негде. Ни связей, ни родства, ни богатства. Вот и водит боярыня Кошкина чадо свое в первый храм православной Руси в надежде на то, что красоту юную хоть кто из бояр родовитых и зажиточных заметит. Глядишь, и повезет из нищеты и забытья выбраться.
– Благословляет не священник, раба божия Ульяна, благословляет руками служителя свого Господь наш небесный, – наставительно произнес митрополит. – Пред богом все равны: и государь наш Иоанн Васильевич, и пахарь простой из позабытой веси.
– Но не ко всякому служителю Его и близко подойдешь, – тихо посетовала прихожанка.
– Ко мне можно, – спокойно ответил Макарий и повысил голос, подзывая помощника: – Отец Сильвестр, прими исповедь от рабы божьей Ульяны, я же дочери ее душу облегчу.
Митрополит поманил к себе юную боярышню, перекрестил ее, улыбнулся:
– Сказывай…
– Прости меня, отче, ибо я грешна… – мягким, как кошачья лапа, бархатистым голосом произнесла девица, не отрывая глаз от пола.
– В чем же грехи твои, милое дитя? – Митрополит взял прихожанку за ладони и отвел немного в сторону от родительницы, пальцем за подбородок поднял к себе юное лицо.
– Я… кушать люблю вкусно. Особливо орешки с медом, – покаялась Анастасия. – И вставать к заутрене ленюсь сильно.
– Кто же их не любит, орешки-то? – невольно улыбнулся митрополит. – Однако же чревоугодие – это когда кушаешь ради кушанья, а не ради утоления голода. Ты орешки на пустой живот ешь али сытая?
– Не задумывалась, отче… – поколебалась с ответом девица.
– Но хорошо, что раскаиваешься, – одобрил Макарий. – Помыслы, стало быть, у тебя верные.
– Благодарю, отче, – смутилась от похвалы Анастасия.
– В чем еще ты желаешь покаяться, дитя мое?
Юная прихожанка примолкла.
– Давай попытаемся вспомнить вместе, – предложил святитель. – Вы с матушкой вдвоем проживаете?
– С братьями, Никитой и Данилой, – ответила девица. – Но Никита в поместье ныне, а Данила на службе, порубежной. И сестра еще, Анна. Она при тетушке состоит, с нею на службу ходит.
– Выходит, покамест втроем, – сделал вывод Макарий. – Гости часто бывают?
– Нет, совсем не принимаем, – опять смутилась прихожанка. – У нас дворни токмо два холопа старых. Еще отцовские. Да и дом на Дмитровке. Куда там гостей созывать?
– Так я не о пирах сказываю, милая. Просто о людях, что в дом приходят.
– Иногда к матушке заходят… Бояре али купцы… – неуверенно ответила Анастасия.
– Душа матушки твоей ныне забота отца Сильвестра, – остановил ее митрополит. – Меня же твои помыслы, чадо, беспокоят. Юные девы, тебе подобные, обычно мечты вполне определенные лелеют. Иные невинные, а в иных и покаяться не мешает.
– Я, отче, – заметно порозовели щеки юной красавицы, – грешных помыслов не имею. Есть добрый молодец, от взгляда коего у меня сердце замирает и озноб по телу всему бежит. Статен он, красив, богатырь таковой, что глаз не отвесть… Да токмо понимаю я, что надежды сии пусты, и помыслов о нем я, святитель, никаких не лелею.
– Ты так сказываешь, дитя мое, словно на самого Великого князя глаз положила! – покачал головой митрополит.
Анастасия заметно вздрогнула, глаза ее испуганно округлились:
– Откуда вы?.. – Девушка смолкла, не договорив.
– Помыслы твои, как я понял, не греховны, – кивнул святитель, – однако признаться в них было надобно, ибо высшая цель исповеди есть очищение души. Исполнить же сие, утаив секреты в уголках мыслей, невозможно. Ныне с чистой совестью отпускаю грехи твои, раба божья Анастасия.
Патриарх перекрестил юную прихожанку, позволил поцеловать свою руку с тонкими белыми пальцами, после чего самолично приобщил к плоти и крови Христовой – что было, понятно, великой честью.
– И не обижайте старика, – улыбнулся на прощание Макарий, – не обходите вниманием. Исповедаться можно и у меня.
– Благодарствую, святитель! Обязательно, святитель! – боярыня Ульяна Кошкина, подошедшая за дочерью, припала к руке митрополита. – Долгих лет тебе, святитель!
Несколько раз низко поклонившись, она отступила, схватила Настю за руку, вывела из храма и там, на крыльце, снова не единожды осенила себя крестным знамением:
– Услышал Господь молитвы наши! Снизошел! Смилостивился, – радостно выдохнула вдова Кошкина. – У самого патриарха Макария исповедаться! С князьями Шуйскими, Салтыковыми, Глинскими бок о бок стоять! Вот уж удача так удача! Глядишь, и снизойдет кто-нибудь до нас, милость проявит. Да хоть бы и любопытство простое, с кем у причастия стоять доводится? Бог даст, знакомство нужное заведем, а то и в свиту какую знатную пробьемся! Ох, повезло, повезло! Свечку сегодня же толстую поставлю и молебен за здравие митрополита закажу!
Святитель Макарий в эти самые минуты тоже собирался покинуть Благовещенский собор, переодеваясь в боковом приделе.
– Кошкины, Кошкины… – негромко бормотал он себе под нос. – Не припомню рода такового.
– Из Кобылиных они, святитель, – подавая шубу, поведал протопоп Сильвестр. – Боярина Захарьина дети. Брат боярина Кошкина, боярин Юрьев[2] Михаил при дворе Великого князя Василия в окольничьи выбился, да преставился десять лет тому. Брату Роману терем в доме своем отписал. Надеялся, вестимо, что тот тоже возвысится да свой двор заведет. Однако же господь иначе рассудил и второго брата пять лет назад тоже прибрал. С той поры Кошкины и сиротствуют. Данила, сын Кошкин, на южном порубежье служит, с татарами сражается. Он ужо взрослый, осьмнадцать годов исполнилось. Посему поместье кошкинское в казну не отписали. С него и живут…
Священник во время исповеди явно не сплоховал. Узнал о прихожанке все, что только можно. Тайны исповеди, понятно, не нарушал – о прегрешениях ничего не сказывал. Однако же родство боярыни Ульяны Кошкиной личным секретом не являлось.
– Боярин Захарьин вроде как плодовитым был? – облачившись в соболью шубу, прищурился на протопопа митрополит.
– Одних сыновей шестеро! – тут же подтвердил Сильвестр. – Иные по сей день на службе. В Вытегре, помнится, воевода Захарьин сидит, другой в поход литовский недавно ходил.
– А ты умен, протопоп, – неожиданно признал митрополит. – Нужно тебя запомнить. Посох подай!
Святитель оперся на золоченый пасторский посох и не спеша, торжественно вышел из храма. Спустя полчаса он уже прижал озябшие ладони к изразцам горячей печи в патриарших покоях Чудова монастыря и надолго застыл в этом положении, полуприкрыв глаза.
Макарию было о чем помыслить, и думы сии являлись зело опасными. Пахнущими кровью и плахой, отлучением и ссылками. Грозящими лютой смертью любому, кто о них проведает.
Взойдя на кафедру почти шесть лет назад, новгородский архиепископ был полон презрения к сидящему на троне ублюдку. Ибо все знали, что Великий князь Иван прижит Еленой Глинской от воеводы Овчины и наследником Василию Ивановичу никак не является. И гнить бы выродку в тюрьме али быть зарезанным – да токмо наследник его законный, князь Шуйский по прозвищу Немой, преставился бездетным, едва достигнув общего признания. И потому по всем законам хоть права лествичного, хоть прямого – но старшим в роду оказался малолетний князь Владимир Андреевич Старицкий, державший свой двор в Великом Новгороде.
Знамо дело, никто из московского боярства изгонять правителя своего, пусть и беззаконного, ради возвышения князя чужого, да еще и с собственной новгородской свитой, не захотел. А то ведь недолго и на порубежную службу прямиком из Думы и чертогов государевых отправиться, места насиженные новгородцам уступив…
Конечно, нового Великого князя взамен низложенного можно бы и «выкрикнуть». Да только никто из знатных князей возвышения соперников ни за что не допустит: Глинские, Бельские, Тучковы, Воронцовы, Салтыковы ни за что не позволили бы выкрикнуть Шуйских, при всей их знатности – закричали бы, побили, запинали чужих сторонников, а Шуйские, понятно, не дали бы занять стол Московский кому-либо другому – и в том нашли бы поддержку всех своих нынешних соправителей.
Вот токмо из-за сих придворных свар и мелкой корысти и остался на троне презираемый всеми безродный семилетний Иван. Лишь для того, чтобы место сие драгоценное никому другому не досталось. Самый последний холоп во дворце Великокняжеском считал себя знатнее государя, и потому почести ему оказывались лишь показные и прилюдные – когда мальчика для приема послов иноземных наряжали, к службе церковной выводили али на иные торжества выставляли. Но стоило закрыться за спиной Великого князя резным дворцовым воротам, как почтение исчезало, слуги пропадали в темных коридорах, няньки обращались к личным хлопотам, и нередко случалось так, что правитель величайшей державы мира оставался голодным, сам стелил себе постель и искал по сундукам сменную одежду.
Митрополит Макарий много раз слышал на исповедях подобные жалобы от обиженного одинокого сироты. Слышал их от обычного мальчишки, изливающего душу своему пастырю.
Знать, что перед тобой прижитый на стороне выродок, – это одно.
Презирать беззащитного ребенка – это другое.
Презирать детей святитель не умел.
День за днем, месяц за месяцем, год за годом митрополит начал проникаться бедами несчастного мальчишки, попавшего в жернова жестокой и кровавой династической распри. Иван больше не вызывал у него отторжения, с каковым Макарий прибыл в Москву. Теперь священник относился к мальчику с жалостью и сочувствием, утешал, вел долгие беседы, вразумляя и наставляя, уча относиться к бедам со смирением, прощать врагам, воздавать добрым самаритянам. Патриарх приохотил юного государя к чтению, музыке, иным наукам и искусствам, давал читать труды мудрецов древних и новых, жития святых и великих правителей, храбрых воевод. Ради него, Иоанна, Макарий выискивал и собирал все мудрости ойкумены, для него составил двенадцатитомный сборник «Четьих миней» с наставительными рассказами на каждый день года, ради него подготовил «Владычный летописный свод», рассказывающий историю православной Руси, ради него построил типографию и принудил монастыри к принятию общего устава, наглядно показывая князю, как надобно применять самые передовые изобретения розмыслов на благо державное и как от подданных своих порядка и послушания добиваться…
Шесть лет чуть не каждодневных увещеваний! Иоанн уже очень давно не был для патриарха жалким литвинским ублюдком. Пожалуй, юноша стал для Макария даже не воспитанником – дитем настоящим, сыном истинным. Пусть не по крови – по духовной близости. Столь же образованный, остро мыслящий, набожный и столь же возвышенный в желаниях и стремлениях своих. Мудрый не по годам. Достойнейший из достойных. Мальчик, в которого святитель вложил всю свою душу и которого уже давно любил как родного сына.
– Един бог на небесах, един кесарь на земле, – задумчиво произнес ритуальную фразу пастырь и медленно провел ладонью по глянцевым сине-белым изразцам. – Жрут бояре Русь православную, ровно крысы, под себя куски от плоти ее живой отрывая, о державности Рима Третьего не помышляя. Все себе, себе, себе… Хозяин земле сей надобен. Един хозяин, что окорот даст крысам жадным, каковой образ святой Господа Иисуса на хоругвях поднимет, веру истинную защитит. Набожный, образованный, душою чистый.
Тонкие, сухонькие пальцы бывшего иконописца сжались в слабенький кулачок и ударили по печи.
Осуществлению мечты патриарха мешало только одно. Вся власть, вся сила в Москве принадлежала ныне тем самым родовитым князьям, каковых он желал скинуть, посадив образованного государя вместо разнузданной вольной семибоярщины. Потворствовать своему изгнанию нынешние кремлевские властители вряд ли согласятся.
– Вразуми меня, Господи, – повернулся к иконе в красном углу митрополит. – Дай силу и мудрость деяние благое во имя державности православной свершить. Дай силы мне, Господи, дай мудрости и помоги дланью своей всесильной…
Он несколько раз размашисто осенил себя крестным знамением и склонился в низком поклоне.
Церковь Ризоположения при всей своей скромности была домовым храмом московских патриархов, и потому посторонние люди в этот малый храм, притулившийся к стене Великокняжеского дворца, заглядывали редко. Лишь здесь патриарх всея Руси мог в полном спокойствии заниматься делом, что всегда успокаивало его и приводило в разумное, молитвенное состояние души: предаваться росписи, тщательно, мазок за мазком, нанося яркую киноварь на толстый деревянный барабан, что служил ножкой для подсвечника перед иконостасом.
Он не оглянулся, ощутив дуновение холода от приоткрывшейся входной двери. Митрополит и без того догадывался, кто первым примчится сюда, едва окончится заутреня.
– Рад видеть тебя, чадо, – улыбнулся Макарий и снова взмахнул кистью, заканчивая изогнутый лепесток неведомого, придуманного им самим растения. – Посмотри, Иоанн: место между бутонами я закрою темно-зеленой медянкой. Должно получиться красиво, как полагаешь?
– Доброго тебе здравия, отче! Я знаю, вчера ты с нею разговаривал! – выпалил юноша, не в силах сдержать своих чувств.
– Очень милое дитя, – кивнул святитель, добавил в янтарный мед немного пигмента, тщательно размешал получившуюся краску и перешел к новому ряду бутонов.
– Это все, что ты можешь сказать, отче?! – горячо выдохнул государь, сделав шаг ближе.
– Она действительно красива, – степенно ответил патриарх. – Набожна и чиста душой. Раба божия Анастасия… Чудесная девица! Коса толстая, щеки алые, что сия киноварь, юностью так и пышет, просто ладушка, птичка весенняя. Вот токмо… – Митрополит запнулся, прикусил губу, осторожно нанес еще мазок. – Вот токмо лишь пред ликом Господа мы все равны, Иоанн, – и цари, и смерды. В делах же мирских законы иные. И ладушка сия, считай, простолюдинка обычная. Нищая наследница рода Кошкиных, дщерь боярина Романа Юрьевича. Ты, мыслю, о таком и не слыхивал.
– К чему мне богатства, святитель?! Мне ее голос услышать хочется, дыхание ощутить, губ сахарных коснуться!
– Будь ты воин простой, Иоанн, за слова сии я бы тебя похвалил токмо. – Митрополит наконец-то отвернулся от барабана и посмотрел в голубые глаза воспитанника. – Но государь ты и во первую голову о делах державных мыслить обязан! Что дадут тебе глаза черные да губы сахарные? Сладость пустая, утешение души, не более. Вспомни, чадо, за спиной твоей ныне никакой силы не стоит, дабы на престоле утвердиться и власть хоть какую-то обрести. Коли в жены свои выберешь дочь из семьи знатной, род сей княжеский за тебя и словом, и златом, и силой ратной завсегда встанет! Задумайся на миг, сын мой, что случится, коли ты объявишь вдруг, что в жены княжну Трубецкую, Салтыкову или, тем паче, Шуйскую желаешь взять, на стол московский возвести? У князей сих вмиг сомнения во власти твоей испарятся! Каждое слово ловить станут, все приказы исполнять, костьми на защиту твою лягут! Твердую опору сразу обретешь, дабы державой православной повелевать.
Воевод бывалых, союзников верных, защитников искренних…
– И что проку мне, отче, от сей державности, коли каждое утро вместо глаз любимых лицо постылое лицезреть стану? – тихо остановил увещевания Великий князь. – Прости, святитель, но не желаю я такого величия.
– Ты говоришь мне о любви, отрок? – нахмурился Макарий. – Ты девицу лишь издалека несколько раз искоса лицезрел и уже в любви некоей уверен?
– Да, отче, – сглотнув, кивнул юноша. – Душу мне образ девицы сей перевернул. В уме и сердце моем живет, помыслить себя без нее не могу. Если это не любовь, что же тогда словом сим нарекают?
– Неужели, чадо, ты готов променять звание Великого князя, власть в державе православной на глаза черные, уста сахарные да на голос, коего даже и не слышал вовсе? – укоризненно покачал головой митрополит.
– Мне титулы сии в тягость, святитель, – даже поморщился государь. – Лучше я простым боярином служить буду, в избе крестьянской жить, лишь бы токмо Анастасия та моею стала!
– Звание государя всея Руси не пряник тульский, дабы так легко им разбрасываться, – отложил кисть и досочку с красками патриарх. – Титулы сии токмо с головой правители теряют. Коли ты, Иоанн, вместо княгини знатной простолюдинку в жены себе выберешь, бояр родовитых кланяться ей принудишь, позора столь великого они тебе точно по гроб жизни не простят. И пренебрежения подобного к дочерям их, и унижения местнического. Всех… Ты понимаешь сие, Иоанн? Ты всех знатных бояр супротив себя возмутишь! Не простят тебе этого князья наши. Не простят, нож в спину воткнут при первой возможности! Готов ли ты на сие?
– Готов, отче, – без колебания ответил молодой человек.
– Мне кажется, ты не понимаешь серьезности моих слов, чадо мое любимое, – вздохнул митрополит. – Ты выбираешь смерть. Выстоять одному супротив всех родов знатных не так-то просто. Сомнут тебя князья с боярами, как есть сомнут. Сгинешь безвестно в порубе холодном, ако братья отца твоего. Ни тел, ни следов, ни пятна кровавого не останется.
– Пусть так, отче! Лучше смерть рядом с любимой, нежели трон без нее!
– Уверен ли ты в сем выборе, сын мой возлюбленный? – твердо и холодно произнес святитель. – Третий и последний раз спрашиваю тебя, Иоанн: готов ли ты голову свою положить ради того, что девицу Анастасию урожденную Кошкину женой своей прилюдно назвать? Вот крест святой, перед ним поклянись! Но подумай сперва крепко, ибо данного сейчас слова назад вернуть уже не сможешь!
Юноша внимательно посмотрел на своего воспитателя, прошел мимо него к распятию, глубоко вздохнул, выдохнул:
– Жизнью клянусь! – Он широко перекрестился, наклонился вперед и поцеловал ноги господа. Помолчал, повернул голову к митрополиту: – И что теперь, святитель?
– Теперь ступай с миром, дитя мое, – заметно смягчил голос Макарий. – В Благовещенский собор больше не приходи, дозволяю. Придумай что-нибудь для опекунов своих докучливых. Нездоровым скажись, что ли…
– Н-но… – неуверенно развел руками государь.
Патриарх подошел к нему, положил ладонь на плечо, улыбнулся:
– Веришь ли ты мне, возлюбленный сын мой, Иоанн?
– Да, отче, – настороженно ответил юный Великий князь.
– Тогда будь тихим и незаметным. Забудь про Анастасию свою, про меня, про высокое свое звание. Обратись котенком малым и послушным, немощным и глупеньким. Сюда приходи через месяц. Тогда и узнаешь, дитя мое, счастье тебе выпадет али погибель.
– А-а-а… – открыл было рот юноша, но святитель предупреждающе вскинул палец:
– Против тебя весь мир, дитя мое. Тебе не нужно ничего знать и ничего сказывать. Слишком много вокруг недобрых глаз и лишних ушей. Просто доверься мне, мое возлюбленное чадо. Мне и зову своей души. Нет большего чуда в земном мире, нежели чистая и искренняя любовь. Если Всевышний ею тебя одарил, то, вестимо, сделал сие не просто так. Поверь в свою любовь! И да пребудет с тобой милость Господа нашего Иисуса.
Государь всея Руси склонил голову под благословение, поцеловал руку митрополита и покинул церковь.
Святитель вернулся к работе и потратил на роспись барабана еще несколько часов. Только перед обедом дверь приоткрылась снова, впустив волну морозного воздуха и плечистого боярина в горлатной шапке и ондатровой шубе, с длинной седой окладистой бородой, на левой стороне которой были сплетены три тонкие косицы, украшенные цветными атласными ленточками. Пояс казался простым, кожаным – однако чехол ложки украшали несколько изумрудов, а на поясной сумке поблескивал десяток золотых клепок. На вид гостю было уже за сорок, на лицо успели закрасться первые морщины, нос стал рыхлым, и его усыпали крупные ямочки, густые брови тронула седина. Впрочем, выглядел мужчина еще крепким, стоял твердо, по сторонам поглядывал уверенно.
В храме гость, понятно, тут же скинул шапку, перекрестился, низко кланяясь, на все четыре стороны, после чего прошел к занятому росписью святителю, осенил себя знамением еще раз:
– Благослови меня, отче, – попросил он митрополита, – и прости глупости свершенные, ибо я многогрешен. Токмо на слово патриарха надежда и осталась.
– Коли только на меня надежда, Григорий Юрьевич, – поднял на него глаза святитель, – что же сам не приходишь? Отчего звать к исповеди приходится?
– Ты хочешь исповедовать меня, святитель? – подергал себя за косички в бороде боярин. – Даже не знаю, как расплатиться за подобную честь!
– Честностью, воевода, – замешал еще немного красок митрополит. Он уже приступил к зеленению рисунка и теперь разводил в меду порошок ярь-медянки. – О храбрости твоей в походах литовских и казанских я наслышан. Ты ведь полками командовал?
– Охватными, святитель, – честно признал гость. – Для полков ратных и больших родом я не вышел. Как в народе сказывается, государь может токмо златом али землями наградить, но даже он не в силах одарить знатным рождением. Боярскому сыну в князья не выслужиться. Сие токмо по рождению происходит.
– Всякое случается, Григорий Юрьевич, – легко пожал плечами святитель.
Разухабистость сразу слетела с гостя. Он расстегнул шубу, пригладил бороду. Лицо стало сосредоточенным, даже как-то сузилось в скулах.
– Сказывают, Григорий Юрьевич, – накладывая краску, продолжил святитель, – с князьями Глинскими ты исхитрился вражду завести?
– Литва приблудная полками русскими командовать желает! – презрительно сплюнул бывалый воин. – Где такое видано, чтобы чужаки в воеводах ходили? Нешто своих князей нехватка?
– И с Шуйскими, – ласково добавил Макарий.
– После смерти Василия Немого достойных князей в их роду не осталось! – опять развел плечи боярин. – Ходил я с Немым и Овчиной на схизматиков, били таково, кости токмо трещали! Ныне же сюсканье одно супротив немчуры сей слышно.
– Дабы ссоры подобные затевать, Григорий Юрьевич, надобно думным боярином быть али хоть окольничим, – продолжал гнуть свое митрополит. – Родню хорошо иметь не в полках порубежных, а дьяками в приказах да конюшими али постельничими.
– Худородные мы больно, святитель, чтобы дьяками али даже подьячими сидеть, – напомнил боярин. – То места княжеские. Куда нам, ратникам простым, о сем мечтать? А коли и сядем, так слушать не станут. Бояре родовитые судами местническими замучают, приказов ни в жисть из рук наших не примут. Увы, святитель, но нет такого способа, чтобы сына боярского с князем ровней сделать.
– Ну отчего же? – прищурился митрополит, прокрашивая тонкую щелочку между лепестками. – Вот, скажем, дочь боярского сына Сабурова, Мария, за князя замуж вышла, и с радостью ее в семью приняли, а сам он, Сабуров, ажно до судьи в поместном приказе дослужился.
– Х-ха! – хлопнув в ладоши, рассмеялся боярин. – Так он ведь тесть государев! Соломея Сабурова, даром что худородная, но женой…
Воин осекся, замерев с разведенными для нового хлопка руками. В его взоре возникло понимание.
– Так что и бояре Захарьины, коли повезет, коли хорошо постараются, тоже в день удачный могут нежданно окольничими и дьяками, воеводами и судьями разом оказаться, – невозмутимо продолжил митрополит.
Это было правдой. Звание дядьки, брата, племянника жены государя всея Руси по местническим спорам вполне заменяло самые родовитые княжеские титулы.
– Шуйские, Трубецкие, Глинские… Не дадут, – прошептал боярин. – Не допустят. Не позволят.
– Вы ведь все Кобылины? – покрутил в руках кисть митрополит Макарий. – Богатый, как я слышал, род на сыновей. Кошкиных вроде как двое, Юрьевых трое, двое Яковлевых, шестеро Захарьиных, самих Кобылиных четверо. А еще сыновья сыновей, сватья да племянники, да друзья по братчинам. Сколько же вас, родичей таких, худородных? Ты ведь ныне среди Кобылиных старший, Григорий Юрьевич, коли не ошибаюсь?
– Сразу даже я не сочту, – покачал из стороны в сторону нижней челюстью старый воин. – Род наш не богатый, но обширный. Сие ты верно заметил, святитель. Ко мне, знамо, относятся с уважением. Прислушиваются…
Митрополит прикусил губу, выводя кистью тончайшие линии. Вроде как увлекся работою своею, но на самом деле – колеблясь в последнем шаге на краю пропасти.
Еще слово – и он станет главою заговора. Пусть не против государя, а в его защиту – но ведь княжеской клике таковая крамола токмо страшнее, опаснее покажется! Проведают хоть краем уха – порвут в мелкие кровавые клочья без единого колебания!
Пока еще у святителя есть возможность остановиться, не договаривать – дожить свой век в тишине и покое, закрыв глаза на разор и беззаконие, семибоярщиной творимые. Предоставить Русь православную самой себе, судьбе предначертанной.
Вот токмо как он потом на небесах Господу всевидящему и всезнающему свое невмешательство оправдывать станет? Он, хранитель истинной веры в величайшей православной державе, ее совесть и опора!
Иконописец еле заметно скосил глаза на гостя, все еще торопливо размышляя, оценивая. Не подведет ли Григорий Юрьевич в последний миг, не испугается? Не обманет ли, не предаст? Не выдаст ли князьям и Думе?
Вроде как не должен… Боярина, десятки раз летевшего с рогатиной наперевес на стену немецких копий или в конную сшибку с басурманами, глупо подозревать в трусости. С князьями Захарьин не в ладах, с Глинскими несколько лет назад чуть поножовщину не устроил. Возможности отомстить не упустит. К тому же – возвышение всего рода Захарьиных до государева престола! Таких предложений не отвергают даже под угрозой неминуемой плахи. Соблазн столь великого взлета родной семьи слишком велик, чтобы отказаться или предать. Григорий Юрьевич не может не согласиться. А если он согласится, то юный государь получит то, в чем сейчас нуждается превыше всего в своей жизни: пару сотен боярских сабель, преданных лично ему, Ивану Васильевичу, а не кому-то из князей или поместных сотников, и несколько десятков столь же преданных опытных бояр, способных заменить княжеских ставленников в приказах, на важнейших воеводствах и в службах.
Нужно рисковать. Без риска не бывает успеха.
– Скажем так, – отложив кисть, задумчиво произнес Макарий. – Князья Шуйские, холопов своих кликнув, могут разом сотни полторы людей выставить. Трубецкие, Салтыковы – того вполовину. У Глинских, бог миловал, сторонников от силы десятков пять. Сочтем за три сотни на круг с прочими сторонниками. Род Захарьиных хотя бы две сотни бояр собрать в Москву способен?
– Коли с холопами, то и шесть скликать можно, – мрачно ответил боярин. – Да токмо мы ведь не станем в Москве с князьями рубиться?
– То, Григорий Юрьевич, ни нам с тобою, ни всей Руси святой ни к чему, – согласился патриарх. – Православным ратникам кровь христианскую проливать грешно. Но ведь не в том беда наша, что верных государю воинов мало, а в том, что приказы владетеля всероссийского они чрез руки княжеские получают. Великий князь Иоанн Васильевич в Кремле в палатах сидит, окрест него князья собрались, за князьями бояре, и лишь за боярами люд служивый. Служивый люд голоса государя не слышит. Токмо тому верит, что бояре от имени государева передают. А говорил ли то Великий князь, приказывал ли, али бояре с князьями сами сии указания придумали – поди проверь. Но вот коли вдруг найдутся боярские дети храбрые да, момент улучив, вокруг Иоанна Васильевича внезапно место займут, князей отодвинув и государю дозволив напрямую с народом православным разговор вести, тогда все в момент переменится. Тогда воля Великого князя станет истинной волей, его приказы – настоящими приказами, а храбрецы сии честно места себе в службах, полках и воеводствах заслужат. Места княжеские, не худородные.
– На правах родства с государем? – все же переспросил Григорий Юрьевич.
– Родства с Великой княгиней, – немного уточнил митрополит.
– Кто? – выдохнул боярин.
Святитель промолчал. И это было понятно. Имя девушки, прозвучи оно слишком рано, станет для нее смертным приговором – если, не дай бог, о возникшем заговоре услышат посторонние.
– Государь всегда окружен холопами и боярскими детьми Шуйских, Салтыковых и Глинских, спрятан в Кремле, во дворце, за стенами высокими, за дверьми толстыми, за засовами крепкими, – не дождавшись ответа, сказал Григорий Юрьевич. – Как можно выкрасть его без сечи?
– Через месяц случится нежданное торжество, – пообещал митрополит. – На нем будет государь, малое число его слуг и столько бояр Захарьиных, сколько ты сможешь собрать. А дальше все мы станем всего лишь исполнять приказы Великого князя. Ведь противоречить государю – это измена, верно?
– Всего месяц?
– Чем длиннее планы, тем сильнее риск их разрушения, – пожал плечами святитель. – И не рассказывай никому о нашем разговоре, Григорий Юрьевич. Будет лучше, если посвященными останемся только мы вдвоем. Полагаю, твои родичи не обидятся, коли возвышение случится для них нежданным?
– Они стерпят, святитель, – низко поклонился митрополиту боярин.
15 января 1547 года
Московский Кремль, Чудов монастырь
Митрополит сидел в кресле и внимательно рассматривал опушенную соболем тафью, крытую сверху серебряными пластинами. Пластинки сходились на острие в середине шапочки, к небольшому кресту, отчего драгоценная тюбетейка напоминала скорее ратную ерихонку, нежели мирный головной убор. Работа была тонкая, изящная. Следовало признать, целый месяц мастера потратили на нее не просто так, заказ святителя исполнили на совесть.
– Здесь подождите! – распорядился за дверью юный голос. – Али вы исповедь мою слушать собрались?
Створка распахнулась, в горницу вошел любимый воспитанник Макария.
В этот раз государь был одет в шубу бобровую, дорогую, крытую малиновым атласом, да в шапку соболью. От молодого человека далеко веяло холодом, по подолу одежды сверкал иней. Москва готовилась встретить грядущее крещение крепкими, трескучими морозами.
– Доброго тебе здравия, отче Макарий, – поклонился Великий князь. – С праздниками поздравить тебя желаю, минувшими и грядущими. Сам я, как ты велел, хворал минувший месяц и к молебнам не приходил. Иные дни вовсе в постели провалялся. Чудится мне, князья ужо и рукой махнули, не приходят вовсе. Юрия, брата мого, к возведению на стол после кончины моей готовят. Но назначенные тобою дни, святитель, сочтены. Я здесь, отче, и готов выслушать твое пастырское слово!
– Шуйские князья, Трубецкие князья, Салтыковы князья, Воротынские князья. Хворостины вон землями не богаче обычных детей боярских, однако же тоже князья. И ты среди них первый! – поднял новенькую тафью выше, до уровня глаз, митрополит. – Первый, но все же князь. – Макарий опустил взгляд на юношу. – Един бог на небе, един властитель на земле. Дабы о власти своей, личной объявить, Иоанн, во первую голову ты должен от подданных своих званием отличаться. Не первым средь прочих быть, а собою единым над прочими склоненными головами. У схизматиков средь королей и герцогов император особый имеется, у османов – султан великий. На востоке сарацинском цари над эмирами, беками и мурзами вознеслись. Тако и тебе надобно звание высшее принять.
Патриарх положил драгоценную тафью на скамью возле расписных подсвечников.
– Какое? – Великий князь проводил взглядом головной убор, очень сильно напоминающий шапку Мономаха.
– О сем тебя хотел спросить, чадо, – ласково улыбнулся митрополит. – По отцу своему, Василию, ты есть потомок Рюрика, внука императора римского Октавиана Августа, и потому полное право имеешь на титул императорский и земли отчие римские. По матери ты Чингизид, потомок царя Батыя, наследник титула царского и земель сарацинских от Волги и до пределов восточных дальних. Какой из титулов тебе по душе более?
Юноша облизнул отчего-то пересохшие губы, расстегнул на шубе крючки. Медленно произнес:
– Земли западные нищие, схизматиками погаными порченные. Окромя вина и костров с бабами, ничем не известные. Бедняки оттуда что ни год сотнями к нам бегут… Кто на стройках камни кладет, кто колбасу крутит, кто вино варит, кто на службу нанимается, кровь свою и живот за серебро продавая. Восток же сарацинский трактатами научными богат, астролябиями и обсерваториями, шелками и скакунами резвыми, пушками и коврами. К чему мне титул нищего дикаря, святитель? Коли уж править, то мудрецами и мастерами искусными! Царем, подобно чингизидам великим, зваться куда как достойнее выйдет, нежели императором.
– Одобряю твой выбор, мой мудрый сын. Царь – значит царь, – кивнул седобородый старик, поднялся с кресла, положил ладони воспитаннику на плечи. – Вот и пришло твое время, возлюбленное чадо мое. Пора!
Шестнадцатого января митрополит Макарий повелел сообщить горожанам, что службы в Благовещенском соборе проводить не станет, ибо притомился и до праздника Крещения желает отъехать на отдых в великокняжеский дворец на Воробьевых горах.
К службе без патриарха потеряли интерес и большинство знатных бояр, а потому в Кремле в этот морозный бесснежный день редкие дорогие шубы князей да дьяков почти не встречались – а вот худородного служивого люда оказалось на удивление много, чуть не полные сотни, сбившиеся в небольшие компании у дворцовых дверей, у обоих крылец, у ворот и возле всех местных храмов.
При внимательном взгляде могло бы показаться, что худородных воинов в Кремле собралось уж слишком много супротив обычного – да токмо разве кто к ним приглядывается? Не басурмане, чай – свои, православные. Пришли и пришли.