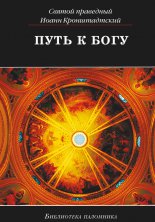Маленький друг Тартт Донна
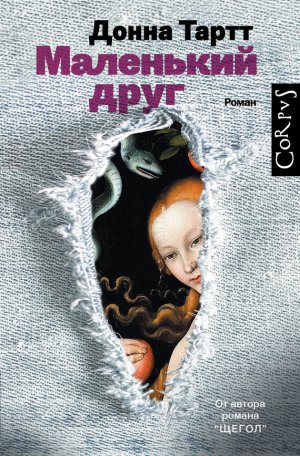
Пролог
Всю оставшуюся жизнь Шарлотта Клив будет винить себя в смерти сына из-за того, что решила в День матери садиться к столу не в полдень, после церкви, как было заведено у Кливов, а вечером, в шесть. Новые порядки пришлись старшим Кливам не по нраву – они, правда, с подозрением относились ко всему новому, но Шарлотте все равно казалось, что надо было тогда прислушаться к этому глухому ворчанию, что то был еле приметный, но зловещий знак – жди недоброго; конечно, знак этот и по прошествии времени было трудно углядеть, но как знать, может, на большее-то в жизни рассчитывать и не стоит.
Хоть Кливы и обожали пересказывать друг другу даже самые незначительные моменты семейной истории – они могли картинно, с риторическими паузами, слово в слово, воспроизвести сцены у смертного одра или предложения руки и сердца, приключившиеся сотню лет тому назад, – но события того ужасного Дня матери они не обсуждали никогда. Не обсуждали они их даже когда пару Кливов сводила вместе долгая поездка в авто или бессонница на полуночной кухне и можно было посекретничать, это-то было из ряда вон, потому что в таких семейных беседах Кливы и познавали мир. Они без устали воскрешали в семейном кругу даже самые страшные, самые непостижимые беды – как еще младенцем угорела при пожаре двоюродная сестра Шарлотты, как погиб на охоте ее дядя, когда Шарлотта была еще школьницей. Мягкий голос бабки и суровый матери гармонично сплетались с дедовым баритоном и трескотней теток, и стоило одному предприимчивому солисту приукрасить мелодию, как хор тотчас же подхватывал и доводил новый мотив до ума, пока всеобщими усилиями не выходила совсем новая песня, после чего вся честная компания заучивала эту песню наизусть и пела ее до тех пор, пока песня не подменяла собой правду, потихоньку стирая все воспоминания о произошедшем. Вот так вот и выходило, что разъяренный пожарник, которому не удалось откачать крохотное тельце, в пересказе принимался трогательно рыдать, а приунывшая охотничья собака, которую смерть хозяина на пару недель выбила из колеи, назначалась вдруг той самой сраженной горем Султанкой из семейных легенд, что безустанно рыскала по дому в поисках любимого папочки, ночи напролет безутешно выла в будке и принималась радостно гавкать, стоило появиться во дворе милому призраку, потому что только она его и чуяла. “Собаки видят то, чего люди не видят”, – как по команде в нужный момент нараспев произносила тетка Тэт. Она была склонна к мистицизму, и призрак был ее изобретением.
Но вот Робин, славный их малыш Робс… Уж больше десяти лет прошло, а его смерть по-прежнему их мучила – на такие подробности не наведешь глянец, такой ужас не поправишь, не перекроишь никаким сюжетным приемом из арсенала Кливов. И – раз уж эта умышленная амнезия не дала сделать из смерти Робина милый семейный рассказец, который и самые горькие тайны обточил бы в понятную, удобоваримую форму – воспоминания о событиях того дня были хаотичными и разрозненными, кошмаром, распавшимся на яркие зеркальные осколки, которые вспыхивали, едва запахнет глицинией, заскрипит бельевая веревка, потемнеет к грозе – как тогда – весенний воздух.
И бывало так, что живые эти всполохи воспоминаний казались обрывками дурного сна, как будто бы ничего этого на самом деле и не было. И только для Шарлотты реальнее этого больше не было ничего.
Традиция – вот единственная история, в которую она могла собрать эту мешанину образов, традиция, которая не менялась с самого ее детства, сюжетный каркас из семейных сборищ. Но и это не помогало. Заведенным порядком в тот год пренебрегли, все домашние правила нарушили. Теперь казалось, что все тогда было сигналом – жди беды. Ужинали они не как обычно, в дедовом доме, а у нее. Букеты на столы всегда ставили из роз, а тут – из орхидей. Или вот куриные крокеты – их все любили, у Иды Рью они отлично получались, Кливы ели их на дни рождения и в сочельник, но никогда они эти крокеты не готовили на День матери, да они в этот день ничего особо и не готовили – обычно обходились свежим горохом в стручках, кукурузной запеканкой да окороком.
Предгрозовой, прозрачный весенний вечер, низкие, растекшиеся облака и золотой свет, лужайка перед домом пестрит одуванчиками и диким луком. Воздух пахнет свежо и остро, как перед дождем. В доме смеются, разговаривают, вдруг взмывает над общим гамом плаксивый, недовольный голосок старенькой тетки Шарлотты, Либби: “Да нет же, ничего я такого не делала, Аделаида, да никогда в жизни!” Кливы обожали поддразнивать тетю Либби. Она была старой девой и боялась всего на свете: собак, грозы, алкоголя в пудингах, пчел, негров, полицейских. Порыв ветра покачал белье на веревке, пригнул к земле сорняки, вымахавшие на пустыре через дорогу. Хлопнула дверь с москитной сеткой. Робин выскочил на улицу, прыгая через две ступеньки за раз, покатываясь со смеху над шуткой, которую ему рассказала бабушка (“Отчего письмо намокло? Потому что бумага с водяными знаками…”).
Но ведь кто-то должен был быть во дворе, приглядывать за ребенком. Гарриет – толстому хмурому и молчаливому младенцу с целой копной черных волос – тогда еще не исполнилось и года. Она была накрепко пристегнута в креслице заводных качелей, которые стояли на дорожке перед домом. Ее четырехлетняя сестра Эллисон тихонько играла на ступеньках с котом Робина по кличке Вини. В отличие от Робина, который в этом возрасте уже вовсю трещал забавным сипловатым голоском и складывался пополам, хохоча над собственными шутками, Эллисон была пугливой, застенчивой и начинала рыдать, едва кто-нибудь пытался обучить ее алфавиту, а потому их бабка, у которой на этакие выкрутасы терпения не хватало, ее почти что и не замечала.
Тетка Тэт была во дворе с самого утра, играла с младшенькой. Сама Шарлотта металась между кухней и столовой, и хоть пару раз за дверь высунулась, но особо за детьми не следила, потому что их домработница Ида Рью, решившая, что, пожалуй, можно и пораньше начать запланированную на понедельник стирку, то и дело выходила на улицу – повесить белье. Потому-то Шарлотта и не беспокоилась, ведь обычно по понедельникам, когда Ида стирала, она и детей не теряла из виду – вечно была то во дворе, то на заднем крыльце возле стиральной машинки, а значит, даже самых маленьких можно было спокойно оставлять на улице. Но усталость, роковая усталость в тот день навалилась на Иду, ведь ей надо было и гостей обхаживать, и приглядывать за плитой, да еще и за младенцем, а настроение у нее и без того было хуже некуда, потому что обычно по воскресеньям она возвращалась домой к часу, а тут не только ее мужу, Чарли Ти, пришлось самому себе обед готовить, так и сама она, Ида, из-за этого в церковь не попала. Поэтому Ида настояла на том, чтоб на кухне включили радио – тогда уж она хоть воскресную службу из Кларксдейла послушает. В черном форменном платье с белым передником она, надувшись, хлопотала на кухне: из динамиков, включенных на всю громкость, неслись госпелы, Ида разливала чай со льдом по высоким стаканам, а выстиранные рубашки крутились и хлопали на веревке, с отчаянием воздевая рукава к надвигающимся тучам.
Совершенно точно выходила на крыльцо и бабка Робина – ведь это она сделала снимок. В семье Кливов мужчин было немного, поэтому вся грубая мужская работа доставалась ей – она подрезала деревья, возила старушек в церковь и за покупками. Делала она все бодро и с бойкой решительностью, которой дивились ее робкие сестры. Из них-то никто не умел водить авто, а бедняжка тетя Либби так боялась любых приборов и механизмов, что принималась плакать, если вдруг надо было разжечь газовую горелку или поменять лампочку. Фотоаппарат вызывал у них любопытство, но они все равно его побаивались и восхищались тем, как легко и невозмутимо их сестра управляется с этой мужской штуковиной, которую надо было заряжать и наводить на цель – точно ружье. “Вот так Эдит, – приговаривали они, глядя, как Эдит сноровисто перематывает пленку или подкручивает объектив, – Эдит все по плечу”.
В семье считалось, что Эдит, несмотря на все ее многочисленные и поразительные умения, с детьми ладила не особо. Она была самолюбивой, несдержанной, да и в манерах у нее не было даже намека на теплоту; за любовью, поддержкой и утешением Шарлотта, единственный ее ребенок, вечно бежала к теткам (к Либби – чаще всего). Гарриет была еще слишком мала, чтоб выделять кого-то из родственников, а вот Эллисон до ужаса пугалась, когда бабка в очередной раз пыталась ее растормошить, и, если ее оставляли у Эдит дома, ревела. Но до чего же, ох, до чего же мать Шарлотты любила Робина, и как же он обожал ее в ответ. Она – почтенная дама средних лет – играла с ним во дворе в мячик, ради забавы ловила ему в саду змей и пауков и пела смешные песенки, которым ее научили солдаты во Вторую мировую, когда она была медсестрой:
- Говорят, что эта Пег
- Была пегой, как на грех…
и он подпевал ей милым хрипловатым голоском.
ЭдиЭдиЭдиЭдиЭди! Даже отец с сестрами звали ее Эдит, а он, едва научившись говорить, обозвал ее Эди – наворачивая круги по двору, визжа от восторга. А как-то раз, когда Робину было года четыре, он с самым серьезным видом назвал ее старушенцией. “Бедная ты моя старушенция”, – сказал он и глазом не моргнув и похлопал ее по лбу веснушчатой ручкой. Шарлотта в жизни бы не осмелилась так фамильярничать со своей резкой, деловитой матерью – тем более когда та лежала в постели с головной болью, но Эди тот случай здорово насмешил, и она любила всем о нем рассказывать. Когда Робин родился, она уже была вся седая, но в молодости волосы у нее были такие же огненно-рыжие, как и у него: все подарки ему – на Рождество ли, на день рождения – она подписывала: “Робину-Красноголовке” или “Моему Лисенку. С любовью, от старушенции”.
ЭдиЭдиЭдиЭдиЭди! Ему было уже девять, но теперь это приветствие превратилось в семейную шутку, в его серенаду для Эдит, и он, как всегда, пропел ее, едва она вышла на крыльцо в тот вечер, когда она видела его в последний раз.
– А поцеловать старушенцию? – крикнула она ему.
Вообще-то он любил фотографироваться, но иногда капризничал и выходил на снимках рыжеволосой кляксой, острые локти да коленки, поскорее вон из кадра – и теперь, стоило ему завидеть, что у Эди на шее висит фотоаппарат, как он умчался, всхлипывая от хохота.
– Ну-ка поди сюда, негодник! – закричала она, порывисто вскинула камеру и все равно щелкнула Робина. Сделала последнее его фото. Сам он – не в фокусе. Зеленый простор лужайки слегка перекошен, возле крыльца, на переднем плане резко выделяются белый поручень да тяжелый глянец кустов гардении. Мутное, влажно-грозовое небо, беспокойная жижа из смеси сизого с индиго, свет спицами проткнул бурлящие облака. В углу снимка – размытая тень Робина, сам он отвернулся, мчится по нерезкой траве навстречу смерти, которая ждет его – почти виднеется – в тени большого дерева.
И потом, когда Шарлотта лежала в наглухо зашторенной комнате, в ее затуманенной таблетками голове билась только одна мысль. Куда бы Робин ни собирался – в школу, в гости к другу, к Эди вечером, ему всегда надо было сначала попрощаться – ласково, а еще – долго и церемонно. Сколько же вспоминалось его записочек, воздушных поцелуев из окошка, как он машет ей ручкой – вверх-вниз – с задних сидений отъезжающих автомобилей: до свиданья! до свиданья! “Пока-пока” он выучился говорить раньше, чем “привет!”, так он и здоровался со всеми – так и прощался. И горше всего Шарлотте было от того, что именно в этот раз не было никаких прощаний. Она так забегалась, что и не помнила толком, о чем в последний раз говорила с Робином, когда в последний раз его видела, а ей нужно было что-то осязаемое, самое распоследнее крохотное воспоминание, чтоб в него можно было вцепиться и с ним вместе – не разбирая дороги, спотыкаясь – преодолеть жизнь, которая с этой самой минуты и до конца ее дней вдруг раскинулась перед ней огромной пустыней. Наполовину обезумев от боли и бессонницы, она все лепетала что-то бессвязное Либби (тетя Либби ее тогда и выходила, Либби – с этими ее холодными компрессами и ее заливными, Либби, которая ночи напролет не смыкала подле нее глаз, Либби, которая от нее не отходила, это Либби ее спасла), потому что больше никто не мог ее утешить – ни муж, да никто вообще, а мать ее хоть внешне и не переменилась (соседям казалось, что она “держится молодцом”) и все так же деловито хлопотала по дому, но прежней Эди было не вернуть. От горя она словно окаменела. На это невыносимо было смотреть. “А ну вставай, Шарлотта, – рявкала она и раздергивала шторы, – давай-ка, выпей кофе, причешись, нельзя же всю жизнь так проваляться”, и даже безобидная старенькая Либби, бывало, ежилась под хрустально-холодным взглядом Эди, когда та – безжалостная, беспощадная, как Арктур – поворачивалась к своей лежащей в темноте дочери.
“Жизнь продолжается”. Любимое выражение Эди. Вранье. Шарлотта, оглушенная успокоительными, бывало, просыпалась, чтобы собрать умершего сына в школу, по пять, по шесть раз за ночь она вскакивала с кровати и звала его. И иногда – секунду-другую – ей верилось, что Робин спит себе наверху, что это все – дурной сон. Но тут ее глаза привыкали к темноте, она замечала отчаянный, жуткий беспорядок (салфетки, пузырьки с таблетками, осыпавшиеся лепестки цветов) на прикроватном столике и принималась рыдать снова – хотя и без того нарыдалась уже так, что ныла грудь, – потому что не было наверху никакого Робина и ниоткуда он больше не вернется.
В спицы велосипеда он навтыкал игральных карт. Она и не понимала, пока он был жив, что по их-то перестуку и отмечала его приходы и уходы. У кого-то из соседских детей велосипед стучал так же, один в один, и стоило Шарлотте заслышать этот звук вдали, сердце у нее на один головокружительный, невозможный, непередаваемо жестокий миг так и подскакивало в груди.
Звал ли он ее? Мысли о последних секундах его жизни рвали душу, но ни о чем другом она не могла думать. Долго это все длилось? Он мучился? Дни напролет она лежала на кровати, уставившись в потолок, до тех пор пока на него не наползали тени, да и потом она лежала без сна и разглядывала светящийся в темноте циферблат будильника.
– Никому не станет легче от того, что ты целыми днями валяешься в кровати и плачешь, – бодро говорила Эди. – Тебе же самой лучше будет, когда встанешь, оденешься и волосы приведешь в порядок.
Во сне он всегда был где-то далеко, ускользал от нее, утаивал что-то. Ей хотелось услышать от него хоть словечко, но он так ни разу и не взглянул ей в глаза, так ничего и не сказал. В самые черные дни Либби все бормотала и бормотала над ней что-то, чего она никак не могла взять в толк. Миленькая, ну вот так ненадолго нам его подарили. Не был он никогда наш. Побыл с нами хоть чуть-чуть, и то радость.
Эта-то мысль и пробилась к Шарлотте сквозь дурман успокоительных тем жарким утром в темной спальне. Что Либби тогда говорила правду. Что всю свою жизнь, всеми возможными способами, с самого младенчества Робин пытался с ней попрощаться.
Эди последней его видела. Что было потом, никто толком не знал. Вся семья собралась в гостиной, паузы между репликами затягивались, все благодушно озирались по сторонам и ждали, когда их позовут к столу, а сама Шарлотта, стоя на коленях, рылась в ящике серванта – искала парадные льняные салфетки (она увидела, что Ида сервировала стол обычными, хлопчатобумажными и – ну как всегда – начала уверять, что никаких других салфеток она в глаза не видала, что сумела отыскать только клетчатые, для пикника). Шарлотта как раз нашла парадные салфетки и хотела было крикнуть Иде: вот видишь, где я сказала, там и лежат!, но тут ее как током ударило – что-то случилось.
Гарриет. Первое, что пришло в голову. Она вскочила, разбросав салфетки по полу, и выбежала на крыльцо.
Но с Гарриет было все хорошо. Из креслица она никуда не делась, на мать взглянула огромными серьезными глазами. Эллисон сидела на дорожке, засунув палец в рот. Она раскачивалась из стороны в сторону и гудела что-то себе под нос, будто оса – вроде цела, но видно было, что ревела.
Что такое? спросила Шарлотта. Ушиблась?
Но Эллисон, не выпуская пальца изо рта, помотала головой.
Краем глаза Шарлотта заметила, будто кто-то мелькнул во дворе – Робин? Она вскинула голову – никого.
Честно-честно? спросила она Эллисон. А может, тебя киса поцарапала?
Эллисон опять помотала головой. Шарлотта нагнулась и быстро ее осмотрела – ни синяков, ни шишек. Кота было нигде не видать.
Но беспокойство не проходило. Шарлотта поцеловала Эллисон в лоб, отвела ее в дом (“Ну-ка, сладкая моя, беги, посмотри, что там Ида на кухне делает?”) и вернулась на крыльцо за младенцем. Такие, похожие на кошмарный сон, приступы паники с ней и раньше случались, чаще всего посреди ночи, обычно пока ребенку где-то полгода не исполнилось, – она тогда просыпалась, подскакивала и мчалась к колыбельке. Но Эллисон цела, с Гарриет все в порядке… Она пошла в гостиную и вручила Гарриет тетке Аделаиде, собрала в столовой с полу салфетки и – двигаясь как во сне, а с чего бы это вдруг, она и сама не понимала – поплелась на кухню за абрикосами для малышки.
Дикс, ее муж, сказал, чтоб к ужину его не ждали. На уток уехал охотиться. Всё как всегда. Если Дикс не в банке, значит, на охоте или дома у матери. Шарлотта толкнула дверь на кухню, подтащила табуретку к буфету, чтоб достать с верхней полки банку с абрикосами. Ида Рью, нагнувшись, вытаскивала из духовки сковороду с булочками. Господь, потрескивал в транзисторе негритянский голос, Господь, он везде.
Эта служба по радио. Шарлотта никому об этом и словом не обмолвилась, но думала она о ней неотвязно. Если б только Ида не выкрутила этот вой на всю громкость, им бы, может, слышно было, что там во дворе происходило, может, они бы поняли – творится что-то неладное. Но, с другой стороны (Шарлотта металась по ночам в кровати, пытаясь отыскать первопричину всех событий), разве не сама Шарлотта заставила набожную Иду работать в воскресенье. Помни день седьмой, чтоб святить его. Ветхозаветный Иегова карал людей и за меньшие прегрешения.
Булки почти готовы, сказала Ида Рью, снова склоняясь к духовке.
Ида, я их сама выну. Похоже, дождь будет. Сними, наверное, белье и зови Робина ужинать.
Когда Ида – надувшись, ощетинившись – протопала обратно с охапкой белых сорочек, то сказала: Не идет.
Скажи, чтоб шел сию же секунду.
Не знаю я, где он. Уж тыщу раз звала.
Может, убежал через дорогу?
Ида свалила сорочки в корзинку для глажки. Хлопнула дверь-сетка. Шарлотта услышала, как та вопит: Робин! А ну домой, не то выдеру!
И потом снова: Робин!
Но Робин так и не появился.
Ох, Господи ты Боже, сказала Шарлотта, вытерла руки кухонным полотенцем и вышла во двор.
Едва выйдя на улицу, она с легким беспокойством, да что уж там, скорее даже с раздражением поняла, что и не представляет, где его искать. Велосипед его вон стоит, прислонен к крыльцу. Знает ведь, что нельзя убегать далеко, если уже скоро ужинать и у них гости.
Робин! позвала она. Прячется, что ли? Сверстников Робина в округе не было, правда сюда, на широкие, усаженные тенистыми дубами дорожки Джордж-стрит иногда забредали чумазые ребятишки с реки – и черные, и белые, но сейчас и этих видно не было. Ида запрещала Робину с ними играть, хотя изредка он все равно ее не слушался. Самых маленьких – коленки ободраны, ноги грязные – было, конечно, очень жаль, и хоть Ида свирепо гнала их со двора, Шарлотта, бывало, расчувствовавшись, давала им по четвертаку или угощала лимонадом. Но едва они дорастали лет до тринадцати-четырнадцати, как Шарлотта только рада была спрятаться дома, и пусть бы Ида гнала их подальше со всей строгостью. Они палили из воздушек по собакам, тащили со дворов все, что плохо лежит, сквернословили и носились по улицам до самой темноты.
Ида сказала: бегали тут недавно мальчишки, шваль всякая.
Швалью Ида звала только белых. Детей белой бедноты Ида терпеть не могла и со слепой злобой валила на них каждую поломку во дворе, даже когда Шарлотта точно знала, что ко двору они и близко не подходили.
И Робин с ними был? спросила Шарлотта.
Не-а, мэм.
А теперь они где?
Прогнала.
Куда?
Онтуда, к складам.
Соседка, старая миссис Фонтейн – в белом кардигане и узких очках в толстой роговой оправе – вышла к себе во двор, узнать, что происходит. За ней плелся ее дряхлый пудель Микки, с которым они были до смешного схожи: острый носик, жесткие седые кудельки, недоверчиво вздернутый подбородок.
Привет-привет, весело крикнула она, что, закатили вечеринку?
Да просто семьей собрались, отозвалась Шарлотта, вглядываясь в темнеющий горизонт за Натчез-стрит, где уходили вдаль железнодорожные пути. Надо было, конечно, и миссис Фонтейн пригласить к ужину. Миссис Фонтейн была вдовой, а ее единственный сын погиб в Корее, но она вечно совала нос в чужие дела, да еще и без конца на все жаловалась. Мистер Фонтейн, владелец химчистки, умер еще не старым, и люди шутили, что жена его, мол, уболтала до смерти.
А что стряслось-то? спросила миссис Фонтейн.
Вы Робина, случаем, не видели?
Нет, я весь вечер на чердаке проубиралась. Знаю, знаю, сама выгляжу как чучело. Видите вон, сколько мусора выволокла? Знаю, знаю, мусорщик теперь приедет только во вторник, и уж так мне неохота, чтоб до тех пор это все на улице валялось, ну а что поделать? А куда Робин-то убежал? Никак не сыщете, что ли?
Да вряд ли он далеко убежал, сказала Шарлотта, шагнув на дорогу, оглядев улицу, но ведь уже пора ужинать.
Сейчас как ливанет, сказала Ида Рью, взглядывая на небо.
А не в пруд ли свалился, нет? с тревогой спросила миссис Фонтейн. Я так всегда боюсь, что кто-то из деточек туда упадет.
Да тот пруд меньше фута глубиной, ответила Шарлотта, но все равно развернулась и пошла на задний двор.
На крыльцо вышла Эди. Случилось что? спросила она.
Взади нету его, проорала Ида Рью. Смотрела уж!
Когда Шарлотта проходила мимо открытого на кухне окна, то снова услышала Идину церковную передачу:
- Зовет нас Иисус
- Ласково, нежно
- Тебя и меня зовет
- Ждет, у ворот
- Тебя и меня
- Он ждет…
На заднем дворе никого не было. Дверь в сарай распахнута: пусто. На поверхности пруда с золотыми рыбками плавает склизкая пленка зеленой пены, целехонька. Когда Шарлотта подняла голову, черные облака взлохматила электрическая вспышка молнии.
Первой его заметила миссис Фонтейн. От ее крика Шарлотта так и застыла на месте. Потом развернулась и побежала назад – быстро, быстро, и все равно слишком медленно, – прогрохотали вдали пустые раскаты грома, под грозовым небом все до странного осветилось, туфли проваливались в грязь, земля будто бы вскидывалась ей наперерез, где-то все пел хор и внезапный сильный порыв сырого от дождя ветра, словно огромными крыльями, зацепил макушки дубов; вокруг нее вздымалась лужайка, колыхалась зеленью, захлестывала ее, как морской прибой, а она бежала, спотыкаясь и ничего не видя от ужаса (потому что уже услышала все, все в крике миссис Фонтейн) – по направлению к самому худшему.
Где же была Ида, когда она туда добежала? А Эди? Шарлотта помнила только миссис Фонтейн, та прижала ко рту кулак со скомканной салфеткой, за дымчатыми очками – вытаращенные, безумные глаза, только миссис Фонтейн, и тявканье ее пуделя, и еще – раздававшаяся откуда-то отовсюду и из ниоткуда – густая, нечеловеческая дробь криков Эди.
Мертвый Робин свисал с нижней ветки черного тупело, стоявшего возле разросшейся живой изгороди между домами Шарлотты и миссис Фонтейн, веревка была переброшена через ветку и затянута у него вокруг шеи. Обмякшие носки кед болтались дюймах в шести от земли. Кот Вини, распластавшись на ветке сверху, обхватив ее задними лапами, ловко, проворно теребил медно-рыжие волосы Робина, которые шевелились и поблескивали на ветру. После его смерти только они и остались прежнего цвета.
- Воротись домой, —
мелодично пел хор по радио, —
- Всяк, кто устал,
- Воротись домой.
Из кухонного окна повалил черный дым. На плите сгорели куриные крокеты. В семье все их обожали, но с того дня на них больше никто смотреть не мог.
Глава 1
Мертвый кот
Двенадцать лет прошло с тех пор, как умер Робин, но никто по-прежнему не знал, как так вышло, что его нашли, повешенного, во дворе его же дома.
В городе о его смерти до сих пор судачили. “Несчастный случай”, так обычно говорили, хотя все факты (которые обсуждали за бриджем, в парикмахерских, рыболовных лавочках, врачебных кабинетах и в банкетном зале “Загородного клуба”) свидетельствовали об обратном. Сложно, конечно, было представить, чтоб девятилетка сам повесился – случайно или по глупости. Подробности все знали, и тут было о чем поговорить и поспорить. Висел Робин на волоконном кабеле, который не везде достанешь – такой разве что электрикам иногда нужен, но никто не знал, откуда этот кабель тут взялся или где его раздобыл Робин. Кабель был толстый, тугой, и следователь из Мемфиса сказал ныне ушедшему на пенсию городскому шерифу, что, по его мнению, маленький мальчик вроде Робина сам узлы ни за что бы не затянул. На ветке кабель был закреплен неумело, кое-как, но кто же знает, это потому, что убийца был неопытный, или потому, что он торопился. А отметины на теле (сообщил врач Робина, который поговорил с судмедэкспертом, который в свою очередь прочел отчет окружного дознавателя) указывали на то, что причиной смерти стала не сломанная шея, а удушение. Одни считали, что он задохнулся в петле, другие – что его сначала задушили, а уж потом повесили.
Но родные Робина, да и все жители города не сомневались, что умер Робин не своей смертью. Но как именно все произошло и кто убийца, так никто и не узнал. С двадцатых годов убийства в уважаемых городских семействах случались дважды, когда ревнивые мужья убивали жен, но то были давние дрязги, и все, кто имел к ним какое-то отношение, уже давно умерли. В Александрии, правда, то и дело убивали негров, но почти любой здешний белый вам скажет, что и убивали их тоже негры из-за каких-то своих сугубо негритянских дел. Другое дело, что теперь убили ребенка – от такого любому станет страшно, богатому и бедному, черному и белому, но никто не мог взять в толк, кто мог сотворить такое и зачем.
В округе говорили, что это все, мол, Жуткий Бродяга, многие рассказывали, что видели его и через несколько лет после смерти Робина. Все сходились на том, что росту он был огромного, но потом описания начинали разниться. Кто говорил, что он белый, кто говорил, что черный, иногда всплывали и яркие приметы вроде недостающего пальца на руке, хромоты, синюшного шрама во всю щеку. Говорили, что он наемный бандит, который удушил ребенка техасского сенатора, а потом скормил его свиньям; что он – выступавший на родео клоун, который хитроумными трюками с лассо подманивал к себе детей, а потом убивал их; что он – сбежавший из Уитфилдского дурдома умственно отсталый психопат, которого в одиннадцати штатах разыскивают за преступления. Но хоть родители в Александрии и пугали детей Бродягой, а в Хэллоуин обязательно кто-нибудь видел, как огромный дядька хромает в двух шагах от Джордж-стрит, изловить Бродягу так и не удалось. После того как погиб мальчик Кливов, каждого бездомного, побродяжку и извращенца в радиусе сотни миль схватили и допросили, но расследование ничего не дало. Конечно, никому не хотелось думать, что убийца прячется где-то за соседним деревом, но страх так никуда и не делся. Особенно боялись, что он так и рыщет поблизости, припарковался где-нибудь в укромном местечке, засел в машине и подсматривает за детьми.
Но такие вещи обсуждали только жители города. Родные Робина о таком даже не заговаривали, ни за что.
Родные Робина говорили о Робине. Рассказывали забавные истории из его детства, про то, как он ходил в детский сад и как играл в бейсбол в Малой лиге, припоминали милые и смешные пустячки, что он говорил или делал. Его старые тетки навспоминали горы подробностей: какие у него были игрушки, какая одежда, каких учителей он любил, а каких терпеть не мог, в какие он играл игры и какие рассказывал им сны, чего ему хотелось, а чего – нет, и что он любил больше всего на свете. Что-то из этого было правдой, что-то – нет, но как тут проверишь, к тому же, если уж Кливы сходились насчет чего выдуманного, как это тотчас же – автоматически и бесповоротно – становилось истиной, хотя сами они об этой своей коллективной магии даже не подозревали.
Сложные и загадочные обстоятельства смерти Робина этой магии были неподвластны. Как бы ни любили Кливы переписывать историю, но на эти разрозненные отрывки сюжета было не накинуть, к логическому знаменателю все не привести, не извлечь уроков, не вывести морали. У них остался только Робин, точнее то, что они о нем помнили, и изысканный абрис его характера, который за долгие годы оброс сложнейшими узорами, стал их величайшим шедевром. Робин был обаятельным непоседой, но именно за ужимки и чудачества все они его так и любили, и когда принялись создавать его заново, порывистость Робина кое-где вышла до болезненного реальной, еще секунда – и он, подавшись вперед, промчится мимо тебя на велосипеде: ветер бьет ему в лицо, а он что есть сил жмет на педали, так что велосипед слегка потряхивает – резвый, своенравный, живой ребенок. Но реальность эта была ненадежной и добавляла обманчивого правдоподобия сказочному по сути сюжету, потому что в других местах историю затерли чуть ли не до дыр, и она стала яркой, но до странного гладенькой, какими бывают иногда жития святых.
“Вот Робин бы обрадовался!” – с нежностью говорили его тетки. “То-то Робин бы посмеялся!” По правде сказать, Робин был егозливым, непоседливым ребенком – то молчит серьезно, то покатывается от хохота, – и львиная доля его обаяния была в этой непредсказуемости. Однако его младшие сестры, которые Робина толком и не помнили, росли, твердо зная, какой у их умершего брата был любимый цвет (красный), какая любимая книжка (“Ветер в ивах”) и кто у него там любимый герой (мистер Тоуд), какое он любил мороженое (шоколадное), за какую бейсбольную команду болел (“Кардиналы”) и еще сотню других вещей, которых они, живые, настоящие дети, сегодня любившие шоколадное мороженое, а завтра уже персиковое – не всегда знали про самих себя. Поэтому их связь с умершим братом была крепче некуда, ведь по сравнению с их собственными, непознанными, переменчивыми натурами, по сравнению с другими людьми, Робин весь был как источник сильного, яркого, непоколебимого сияния, и они выросли с верой в то, что все дело было в редком, ангельском, светлом характере Робина, а никак не в том, что он умер.
Младшие сестры Робина выросли непохожими и на Робина, и друг на друга.
Эллисон исполнилось шестнадцать. Невзрачная белокожая девочка, которая легко обгорала на солнце и ревела почти по каждому поводу, вдруг выросла в длинноногую красавицу с золотисто-рыжими волосами и влажными золотисто-карими глазами. Красота ее была ускользающей. Голос у нее был мягким, движения неспешными, выражение лица сонным, томным, поэтому ее бабка Эди, которая в женщинах ценила живость и огонек, была даже разочарована. Прелесть Эллисон была в ее хрупкости, безыскусности, она вся, словно цветущие июньские луга, была сложена из юной свежести, которая (и кому как не Эди это знать) быстрее всего и увядает. Она витала в облаках, она часто вздыхала, ходила, запинаясь, косолапо подворачивая ноги, и говорила с запинками. Она была красива – неброской, свежей, как парное молоко, красотой, и парни из ее класса уже начали ей позванивать. Эди подсматривала, как она (опустив глаза, раскрасневшись, прижимая трубку к уху плечом) водит по полу носком ботинка и заикается от смущения.
И до чего же жаль, то и дело вслух расстраивалась Эди, что такая прелестная девочка (в устах Эди это слово звучало почти так же, как “слабенькая” и “вялая”) совершенно не умеет себя подать. Эллисон надо убрать челку со лба. Эллисон надо распрямиться, держаться ровно, уверенно, не сутулиться. Эллисон надо улыбаться, говорить погромче, начать хоть чем-нибудь интересоваться, спрашивать, как у людей дела, раз уж она сама не может сказать ничего интересного. Эти советы Эди давала из самых добрых побуждений, но зачастую – при людях и таким нетерпеливым тоном, что Эллисон убегала в слезах.
– Ничего, – громко говорила Эди, нарушая тишину, которая обычно наступала после этого, – кто-то ведь должен научить ее жизни. Я вам так скажу, если б я не держала ее в ежовых рукавицах, она б до десятого класса не доучилась.
И то верно. На второй год Эллисон никогда не оставляли, но пару раз, особенно в начальной школе, она была к этому близка. “Витает в облаках”, сообщал раздел “Поведение” в табеле Эллисон. “Неряха”. “Медлительная”. “Не работает на уроках”. “Ну, надо побольше стараться”, – вяло говорила Шарлотта, когда Эллисон приносила из школы очередные тройки или двойки.
Плохие оценки, казалось, не волновали ни Эллисон, ни ее мать, зато они волновали Эди, да еще как. Она врывалась в школу, требовала, чтоб ей дали переговорить с учителями, изводила Эллисон списками книг, карточками со словами и делением в столбик, с красным карандашом проверяла все сочинения и письменные работы Эллисон, даже когда та перешла в старшие классы.
Бессмысленно было напоминать Эди, что сам Робин, и тот не всегда хорошо учился. “У него был бойкий характер, – ядовито отвечала она. – Но вскоре он бы взялся за ум”. Тогда Эди, пожалуй, почти проговорилась о том, что ее по-настоящему беспокоило, ведь все Кливы прекрасно понимали, что, будь Эллисон такой же бойкой, как ее брат, Эди спустила бы ей с рук все тройки и двойки в мире.
Если Эди за годы, прошедшие со смерти Робина, несколько озлобилась, то Шарлоттой завладело безразличие ко всему, и от этого жизнь ее застопорилась, стала бесцветной. Если она и пыталась вступиться за Эллисон, то делала это неумело и без особого энтузиазма. Она стала походить на своего мужа Диксона – тот сносно обеспечивал семью, но дочерям никогда не уделял заботы. Ничего личного в таком равнодушии не было, Дикс был человек разносторонний, и одна из его сторон маленьких девочек ни в грош не ставила, о чем он всегда сообщал открыто и с беспечной, дружелюбной веселостью. (Его дочерям, любил повторять он, от него ни цента не достанется.)
Дикса и раньше почти никогда не было дома, а теперь он и вовсе там редко появлялся. Его родителей Эди считала нуворишами (отец Дикса торговал сантехникой), и когда Дикс, ослепленный происхождением Шарлотты и ее семьей, на ней женился, то думал, что она еще и богата. Счастливым их брак никогда не был (Дикс допоздна засиживался в банке, допоздна играл в покер, ездил на охоту, на рыбалку, играл в гольф и под любым предлогом старался ускользнуть из дома на выходные), но после смерти Робина даже у Дикса поиссякло терпение. Ему хотелось уже разделаться с этим трауром, он на дух не переносил тишины в доме, воцарившейся атмосферы запустения, апатии, печали и потому выкручивал на всю звук телевизора, раздраженно ходил из комнаты в другую, хлопал в ладоши, раздвигал занавеси, то и дело повторяя: “Ну-ка, встряхнитесь!”, или “Давайте-ка возьмем себя в руки!”, или “Мы же все заодно!” До чего же он удивился, когда его усилий никто не оценил. В конце концов, когда он своими подбадриваниями не сумел разогнать тоску дома, ему сделалось там совсем скучно, и он сначала все чаще и чаще стал сбегать в свой охотничий домик, а потом взял и согласился, когда ему предложили работу в другом городе, в банке, с хорошей зарплатой. Вроде как беззаветно всем пожертвовал. Но всякий, кто знал Дикса, хорошо понимал, что тот перебрался в Теннесси совсем не ради семьи. Дикс любил, чтоб жизнь била ключом – “кадиллаки”, вечера за картами, футбольные матчи, ночные клубы в Новом Орлеане и каникулы во Флориде, – ему хотелось коктейлей, смеха, чтоб жена ходила с идеальной прической, держала дом в чистоте и по первому его слову выносила поднос с закусками.
Но жизнерадостной и развеселой семьи Диксу не досталось. Его жена и дочери были нелюдимыми, чудаковатыми, угрюмыми. Хуже того, после всех этих событий они, и сам Дикс в том числе, стали как прокаженные. Друзья начали их избегать. Другие семейные пары больше их никуда не звали, знакомые перестали к ним заходить. Поэтому Диксу ничего не оставалось, кроме как променять семью на обшитую деревянными панелями контору и бурную светскую жизнь в Нэшвилле – и никаких угрызений совести это у него не вызвало.
Эллисон, конечно, раздражала Эди, зато двоюродные бабки души в ней не чаяли, и все, что Эди находила в ней несносным, им казалось романтическим, поэтичным. По их мнению, Эллисон была в семье не только самой красивой, но и самой славной – терпеливая, безропотная, умеет обходиться с животными, стариками и детьми, – а эти качества, считали бабки, куда важнее хороших оценок и умничаний.
Бабки всегда преданно вставали на ее сторону. Ребенку и без того много вынести пришлось, как-то раз свирепо сказала Тэт, обращаясь к Эди. Ее слова подействовали – ненадолго, но Эди поутихла. Все ведь помнили, что в тот ужасный день во дворе были только Эллисон с младенцем, Эллисон тогда, конечно, было всего четыре года, но она, несомненно, что-то видела, и, судя по всему, что-то очень страшное, потому что с тех самых пор была слегка не в себе.
В тот же день ее настойчиво допрашивали и члены семьи, и полицейские. Видела ли она кого-то во дворе, взрослого, например, какого-нибудь дядю? Но Эллисон, которая вдруг ни с того ни с сего начала писаться в кровать и просыпаться с воплями от жутких кошмаров, отказывалась что-либо говорить. Она сосала палец, крепко прижимала к себе плюшевую собачку и не отвечала даже на вопросы о том, как ее зовут и сколько ей лет. Либби, самой мягкой и терпеливой ее двоюродной бабушке, и той не удалось и слова из нее вытянуть.
Эллисон не помнила брата, не вспомнила она ничего и о его смерти. В детстве, бывало, она часто лежала без сна – в доме все уже спят, а она лежит, разглядывает джунгли теней на потолке и изо всех сил роется в памяти в поисках воспоминаний, но так ничего и не находит.
Милая будничность детства никуда не делась – вот крыльцо, пруд с рыбками, киса, клумбы, все привычное, яркое, незыблемое, но всякий раз, когда она пыталась вспомнить что-то, что было еще раньше, у нее перед глазами возникала одна и та же странная картинка: во дворе никого, по пустому дому гуляет эхо, все ушли совсем недавно, потому что белье развешано, со стола после ланча еще не убирали, а вся семья куда-то делась, пропала, а куда, она не знает, и рыжий кот Робина – не тот вальяжный, мордастый котище, в которого он вырос, а еще совсем котенок – вдруг взбесился, глаза у него остекленели, и он метнулся через весь двор, взлетел на дерево, в ужасе отпрыгнув от нее так, будто в первый раз ее видел. В этих воспоминаниях она сама на себя была не похожа, особенно если воспоминания были из раннего детства. Окружающую обстановку она опознавала с ходу – дом номер 363 по Джордж-стрит, место, где она всю жизнь жила, – но саму себя, Эллисон, не узнавала: вместо нее там был кто-то другой, ни младенец, ни ребенок, так – взгляд, пара глаз, которые оглядывали знакомые места и видели их так, будто за этим взглядом не стояло никакой личности, тела, возраста или прошлого, как будто она вспоминала то, что случилось еще до ее рождения.
Сознательно Эллисон обо всем этом не думала, так, всплывали какие-то бесформенные обрывки. В детстве ей в и голову не приходило, что эти разрозненные впечатления могут что-то означать, а став старше, она и вовсе перестала об этом задумываться. О прошлом она почти не вспоминала и в этом сильно отличалась от своих родных, которые только о нем и думали.
В семье ее не понимали. Но они не поняли бы ничего, даже если б она попыталась им что-то объяснить. В их головах, занятых бесконечным припоминанием того или этого, прошлое с будущим представали повторяющимися сюжетами, и другой взгляд на мир был для них непостижим.
Память – хрупкая, зыбко-яркая, чудесная – для них была жизненной искрой, и с обращения к памяти они начинали почти каждую фразу. “Помнишь, у тебя было батистовое платьице в зеленый листочек? – напирали на нее мать с бабками. – А розовый куст помнишь? А лимонные пирожные? А помнишь, какая замечательная выдалась морозная пасха, когда Гарриет была еще совсем крошкой и вы с ней в снегу искали яйца и вылепили у Аделаиды во дворе пасхального зайчика?”
“Ну да, ну да, – врала в ответ Эллисон, – помню”. И ведь можно сказать, что помнила. Она столько раз уже слышала эти рассказы, знала все наизусть, а если что, и сама могла их повторить, ввернув подробность-другую, которыми другие пренебрегли: как, например, они с Гарриет собрали розовые лепестки, облетевшие с побитых морозом диких яблонь, и сделали из них зайчику нос и уши. Все эти рассказы она знала, как знала еще истории из маминого детства – или из книжек. Но по большому счету с собой лично никак не связывала.
А правда была такова (и в этом Эллисон никогда и никому не признавалась): очень многих вещей она вообще не помнила. У нее не сохранилось никаких воспоминаний о том, как она ходила в детский сад, да и в первый класс, да и вообще она толком не помнила ничего, что с ней происходило лет до восьми. Эллисон этого страшно стыдилась и всеми силами (и по большей части успешно) старалась скрыть. Ее младшая сестра Гарриет, например, якобы помнила события, которые происходили, когда ей еще и года не было.
Гарриет не было и полугода, когда умер Робин, но она утверждала, что помнит и его, и Эллисон, да и все Кливы верили, что, скорее всего, так оно и было. Время от времени Гарриет вдруг выдавала какой-нибудь напрочь позабытый всеми, но удивительно точный факт – какая была погода, кто как был одет и что подавали на обедах в честь чьего-нибудь дня рождения, когда ей еще и двух лет не исполнилось, – так что все только рты разевали.
Но Эллисон совсем не помнила Робина. До чего непростительно. Ей было почти пять, когда он умер. И что было после его смерти, она тоже вспомнить не могла.
Разыгравшееся потом действо она, конечно, знала до мелочей: слезы, плюшевая собачка, ее молчание, и как детектив из Мемфиса по имени Белок Оливет, здоровяк с верблюжьим лицом и ранней сединой в волосах, показывал ей снимки своей дочери Селии и угощал ее батончиками “Миндальная нега”, целая коробка которых стояла у него в машине, как он показывал ей еще и другие снимки – чернокожих мужчин, белых мужчин, остриженных под ежик, с набрякшими веками, как Эллисон сидела на синей бархатной козетке дома у Тэттикорум – они с сестрой тогда жили у Тэт, потому что мать не вставала с постели, – по лицу у нее катились слезы, она отколупывала с “Миндальной неги” шоколад и упорно молчала. Она это знала не потому, что помнила, а потому, что ей об этом рассказывала тетка Тэт – много раз подряд, сидя в кресле, придвинутом поближе к обогревателю, когда зимой после школы Эллисон заходила ее проведать: ее подслеповатые буровато-карие глаза всегда смотрели куда-то вдаль, а слова лились плавно, ласково, с ностальгией, будто героиня ее рассказа вовсе не сидела с нею рядом.
У проницательной Эди не хватало ни ласки, ни терпения. В историях, которые она рассказывала Эллисон, часто прослеживалась занятная аллегоричность.
“Сестра моей матери, – заводила, бывало, Эди, когда везла Эллисон домой с уроков фортепиано, ни на секунду не сводя глаз с дороги, высоко вздернув крупный элегантный ястребиный нос, – сестра моей матери знавала одного мальчика, Рэндалла Скофилда, у которого вся семья погибла во время торнадо. Приходит он, значит, домой после уроков, и знаешь, что видит? Весь дом разнесло в щепки, а негры, их работники, вытащили из-под обломков трупы его отца, матери и трех младших братьев, и вот так они и лежат, все в крови, даже простынку никто не набросил – лежат рядком, что твой ксилофон. Одному брату руку оторвало, а у матери в виске чугунный упор для двери застрял. Ну и знаешь, что с этим мальчиком сталось? Он онемел. И семь лет потом еще слова не мог вымолвить. Отец рассказывал, что он всюду с собой таскал стопку картонок, какие в рубашки вставляют, и восковой карандаш, чтоб писать все, что он хотел сказать. Хозяин местной химчистки бесплатно ему эти картонки давал”.
Эди любила рассказывать эту историю. У нее были варианты: дети то слепли, то откусывали себе языки, то впадали в беспамятство, столкнувшись с ужасными зрелищами. Звучала в этих историях какая-то укоризненная нотка, которую Эллисон все никак не могла полностью уловить.
Эллисон много времени проводила одна. Слушала пластинки. Клеила коллажи из журнальных вырезок и лепила из расплавленных восковых карандашей неопрятные свечи. Рисовала балерин, лошадей и мышат на полях тетради по геометрии. В столовой она сидела за одним столом с группкой довольно популярных в школе девочек, но вне школы редко с ними виделась. С виду она была совсем как они: модная одежда, чистая кожа, живет в большом доме на приличной улице, ну и пусть что не слишком бодрая или смышленая, так ведь и плохого о ней сказать нечего.
– Захочешь, так можешь стать всеобщей любимицей, – сказала Эди, которая все социальные выгоды просчитывала с ходу, даже на уровне десятого класса. – Самой популярной в классе девчонкой стать можешь, стоит только постараться.
Стараться Эллисон не желала. Она, конечно, не хотела, чтоб над ней издевались или чтоб ее дразнили, но если никто особо не обращал на нее внимания, это ее полностью устраивало. Впрочем, кроме Эди, внимания на нее почти никто и не обращал. Она много спала. Одна ходила в школу и обратно. Если встречала по пути собаку, останавливалась с ней поиграть. По ночам ей снилось желтое небо, на фоне которого билось что-то белое, будто простыня. Она страшно пугалась, но проснувшись, тотчас же обо всем забывала.
Эллисон много времени проводила с двоюродными бабками – оставалась у них на выходные, заходила после школы. Она вдевала им нитки в иголки, читала вслух, когда у старушек стало сдавать зрение, залезала на стремянку, чтобы снять что-нибудь с пыльной верхней полки, слушала рассказы про их давно покойных одноклассниц и фортепьянные концерты шестидесятилетней давности. Иногда после школы она варила сладости для их церковных благотворительных распродаж – помадку, ириски, нугу.
Она охлаждала мраморную столешницу, проверяла температуру термометром, выверяла все тщательно, будто аптекарь, ни на шаг не отступая от рецепта, ножом для масла выравнивая уровень ингредиентов в мерной чашке. Ее бабки – сами сущие девчонки, хохотушки с нарумяненными щеками и завитыми волосами – топотали туда-сюда, носились, суетились, звали друг друга детскими прозвищами, радуясь тому, что кто-то хлопочет на кухне.
Хозяюшка ты наша, выпевали бабки. Красавица. Ангел наш дорогой, не забываешь нас. Славная девочка. Миленькая. Хорошенькая.
Младшая сестра, Гарриет, не была ни миленькой, ни хорошенькой. Гарриет была умной.
Едва выучившись говорить, Гарриет внесла в жизнь Кливов легкую сумятицу. Она дралась на детской площадке, дерзила взрослым, препиралась с Эди, брала в библиотеке книги про Чингисхана и матери не давала спокойно вздохнуть. Она училась в седьмом классе, ей было двенадцать.
Училась она на отлично, но учителя никак не могли с ней сладить. Иногда они звонили матери или Эди – все, кто хоть капельку разбирался в Кливах, понимали – говорить надо с ней, она – семейный фельдмаршал и управитель, вся власть у нее в руках, и если кто и может что-то сделать, так это она. Но Эди и сама не знала, как вести себя с Гарриет. Непослушной или неуправляемой Гарриет не назовешь, но она была высокомерна, и любого взрослого каким-то образом ухитрялась вывести из себя.
В Гарриет не было ничего от мечтательной хрупкости сестры. Она была крепко сбита, как барсучок – круглые щеки, острый носик, черные, остриженные в каре волосы, тонкие, решительно поджатые губы. Говорила она резким, пронзительным фальцетом – слишком отрывисто для уроженки Миссисипи, поэтому те, кто видел ее впервые, часто спрашивали, где она выучилась говорить, как янки. Глаза у нее были светлые, проницательные – совсем как у Эди. Все отмечали, как сильно она похожа на бабку, но от стремительной, свирепой красоты Эди в Гарриет осталась одна свирепость, которая многим действовала на нервы. Садовник Честер про себя звал их ястребом и ястребенком.
И Честера, и Иду Рью Гарриет бесконечно и смешила, и доводила до белого каления. Как только она научилась говорить, стала всюду ходить за ними хвостом и расспрашивать обо всем, что они делали. Сколько Ида получает денег? А Честер знает “Отче наш”? А пусть для нее прочитает. Еще их веселило то, что она вечно ссорила в общем-то миролюбивых Кливов. Несколько раз они чуть ли не навеки разругались из-за Гарриет: когда та, например, сообщила Аделаиде, что ни Эди, ни Тэт не пользуются наволочками, которые Аделаида для них вышила, а передарили их другим людям, или когда она просветила Либби, что ее соленья в укропном маринаде, которые Либби считала своим кулинарным шедевром, есть невозможно, а у родных и соседей они пользуются такой популярностью только потому, что ими отчего-то очень хорошо травить сорняки.
“Видела во дворе такой лысый пятачок? – спросила Гарриет. – Возле заднего крыльца? Тэтти туда выплеснула твой маринад лет шесть назад, и с тех пор там ничего не растет”. Гарриет горячо продвигала идею о том, что маринад надо разливать по бутылкам и продавать как гербицид. Либби заделается миллионершей.
Тетя Либби перестала рыдать только три или четыре дня спустя. С Аделаидой и ее наволочками все было еще хуже. В отличие от Либби та любила дуться: целых две недели она не разговаривала ни с Эди, ни с Тэт, холодно игнорировала примирительные пироги и торты, которые они оставляли у нее на крыльце – их потом съедали соседские собаки. Либби в ужасе от такого разлада (она-то была как раз ни в чем не виновата, потому что только у нее хватало сестринской любви на то, чтобы пользоваться уродливыми Аделаидиными наволочками) семенила туда-сюда, пытаясь всех помирить. Ей это почти удалось, но тут Гарриет снова взбаламутила Аделаиду, рассказав той, что Эди никогда не разворачивает подарки от нее, а только отвязывает с них подарочные ярлычки, привязывает новые и рассылает их по всяким благотворительным организациям – даже для негров. Скандал вышел такой, что и теперь, столько лет спустя, стоило кому-то об этом вспомнить, и снова отовсюду сыпались завуалированные ядовитые обвинения, а Аделаида с тех пор на Рождество и дни рождения специально покупала сестрам вызывающе дорогие подарки – например, флакон “Шалимара” или ночную сорочку от “Голдсмита” в Мемфисе, с которых к тому же частенько забывала снимать ценники. “Сама я предпочитаю подарки, сделанные своими руками, – громко сообщала она дамам из своего бридж-клуба, трудившемуся во дворе Честеру или пристыженно склонившим головы сестрам, которые разворачивали непрошеные щедрые дары. – Они куда ценнее. Это проявление заботы. Но некоторым важно только то, сколько ты на них потратил денег. Они подарок за подарок не считают, если он не куплен в магазине”.
“Мне нравится, как ты шьешь, Аделаида”, – всегда говорила Гарриет. И ей правда нравилось. Фартуки, наволочки, посудные полотенца ей были ни к чему, но аляповатым Аделаидиным рукоделием у нее в комнате были под завязку забиты все ящики комода. Впрочем, нравилось ей не рукоделие, а вышивка на нем: голландские крестьянки, танцующие кофейники, храпящие мексиканцы в сомбреро. Она так их обожала, что даже подворовывала аделаидины подарки из чужих комодов, и ее чертовски злило, что Эди отсылала наволочки в благотворительные организации (“Не глупи, Гарриет. Тебе-то они зачем сдались?”), когда они ей самой были нужны.
– Я знаю, что тебе-то нравится, милая, – бормотала Аделаида срывающимся голосом – до того ей было себя жаль – и наклонялась, чтоб театрально чмокнуть Гарриет в лобик, пока Тэт с Эди переглядывались у нее за спиной. – Когда меня не станет, ты будешь рада, что хоть у тебя эти вещи остались.
– Эта штучка, – сказал Честер Иде, – любит воду мутить.
Эди, которая сама в общем-то любила помутить воду, обнаружила, что младшая внучка ей мало в чем уступает. Но, несмотря на это, а может быть, как раз поэтому, им и было хорошо вместе, и Гарриет много времени проводила дома у бабки. Эди часто жаловалась, что Гарриет упрямая и невоспитанная, ворчала, что она вечно путается у нее под ногами, но хоть Гарриет и выводила Эди из себя, та предпочитала ее общество обществу Эллисон, которой всегда было нечего сказать. Эди скучала по Гарриет и любила, когда внучка ее навещала, хотя сама бы, конечно, в жизни в этом не призналась.
Двоюродные бабки тоже любили Гарриет, но она не была такой ласковой, как ее старшая сестра, и ее заносчивость их обескураживала. Слишком она была прямолинейная. Она не умела вести себя сдержанно и дипломатично, и, хоть Эди этого и не замечала, Гарриет в этом отношении была здорово похожа на бабку.
Напрасно тетушки пытались обучить ее вежливости.
– Как же ты не поймешь, милая, – говорила Тэт, – что, если пудинг тебе не нравится, лучше все равно его съесть, нежели обидеть хозяйку дома отказом?
– Но я не люблю пудинг.
– Знаю, что не любишь, Гарриет. Поэтому-то я привела этот пример.
– Пудинги – это отвратительно. Их все терпеть не могут. А если я ей скажу, что пудинг мне нравится, она так и будет мне его подкладывать.
– Да, милая, но смысл-то не в этом. А в том, что если кто-то ради тебя расстарался и что-то приготовил, съесть это будет проявлением хорошего тона, даже если тебе не хочется.
– В Библии сказано, что лгать – нехорошо.
– Это другое. Это ложь во благо, белая ложь. В Библии про другую ложь сказано.
– В Библии не сказано, черная ложь или белая. Там написано просто – ложь.
– Ну правда, Гарриет. Конечно, Иисус велел нам не лгать, но это же не значит, что нужно грубить хозяйке дома.
– Про хозяйку дома Иисус ничего не говорил. Он говорил, что ложь – это грех. Он говорил, что Сатана – лжец и князь лжецов.
– Но Иисус ведь еще говорил, “возлюби ближнего своего”, правда? – сымпровизировала Либби, перенимая эстафету у потерявшей дар речи Тэт. – Разве это не про хозяйку дома? Если она живет близко.
– Верно, – радостно подхватила Тэт. – Ну то есть, – поспешила заметить она, – не то чтобы твой ближний непременно должен близко от тебя жить. “Возлюби ближнего своего” означает, что нужно есть что дают и быть за это благодарной.
– Не понимаю, с чего это любить ближнего – значит говорить ему, что я люблю пудинг. Я же не люблю пудинг.
С этаким мрачным занудством не могла сладить даже Эди. Гарриет могла препираться часами. Уговаривать ее можно было хоть до посинения. И – самое возмутительное – даже в самых своих дичайших доводах Гарриет всегда опиралась на Библию. Эди, впрочем, этим было не пронять. Сама она, конечно, помогала и религиозным, и благотворительным организациям, и в церковном хоре пела, но, по правде сказать, не особо верила во все написанное в Библии – так же, как в глубине души не верила в свои любимые присказки: что все, например, делается к лучшему или что негры по сути своей ничем не отличаются от белых. Но если остальные бабушки задумывались над словами Гарриет, то им – и Либби в особенности – делалось не по себе. Свои софизмы Гарриет неизменно подкрепляла примерами из Библии, и выходило, что они полностью противоречат и здравому смыслу, и их убеждениям.
– Может быть, – смущенно сказала Либби, когда Гарриет умчалась домой ужинать, – может быть, Господь не делает различий между плохой ложью и хорошей. Может, для Него они все плохие.
– Да будет тебе, Либби.
– Может, нам надо было это от малого ребенка услышать?
– Да пусть я в аду сгорю, – взорвалась Эди, которая не застала начало разговора, – все лучше, чем рассказывать всем направо и налево, что я про них думаю.
– Эдит! – хором вскричали ее сестры.
– Эдит, ты ведь это не серьезно?!
– Я серьезно. И что обо мне другие думают, я тоже знать не желаю.
– Ума не приложу, что ты такого натворила, Эдит, – заметила праведница Аделаида, – что воображаешь, будто все о тебе думают только плохое.
Служанка Либби, Одеан, которая притворялась глухой, невозмутимо подслушивала их разговор, разогревая на кухне ужин для старушки: курицу с булочками в сливочном соусе1. Ничего интересного дома у Либби не происходило, зато после визитов Гарриет хоть разговоры делались поживее.
Если Эллисон другие дети смутно одобряли, сами, впрочем, не зная за что, то Гарриет, которая любила всеми покомандовать, мало кому нравилась. Зато и дружили с ней не как с Эллисон – вяло и походя. Друзьями Гарриет были в основном фанатично преданные ей мальчишки помладше, которые после школы вскакивали на велосипеды и ехали через полгорода, лишь бы увидеться с ней. Она заставляла их играть в крестоносцев и в Жанну д’Арк, по ее приказу они напяливали на себя простыни и разыгрывали сценки из Нового Завета, в которых сама Гарриет всегда была Иисусом.
Больше всего она любила тайную вечерю. Они все усаживались за стол на одну лавку – в духе Леонардовой фрески – в увитой мускатом беседке на заднем дворе у Гарриет и, затаив дыхание, ждали, когда она, раздав опресноки из крекеров и виноградную фанту вместо вина, по очереди смерит холодным взглядом каждого из них.
– Истинно, истинно говорю вам, – произносила она так спокойно, что у них мурашки бежали по коже, – один из вас предаст меня. – Нет! Нет! – с восторгом взвизгивали они – и вместе с ними Хили, который играл Иуду, но Хили был у Гарриет любимчиком, и ему перепадали все козырные роли, не только Иуды, но и апостолов Иоанна, Луки или Симона Петра. – Никогда, Господи!
За этой сценой следовало шествие в Гефсиманский сад, который находился в глубокой тени черного дерева тупело во дворе у Гарриет. Здесь Гарриет-Иисуса хватали римские воины – хватали буйно, куда яростнее, чем было сказано в Писании, что само по себе уже было страшно увлекательно, но мальчишкам нравилось играть в Гефсиманский сад, потому что играли они под деревом, где убили брата Гарриет. Его убили, когда многие из них еще даже не родились, но историю эту они все знали, сложив ее из обрывков родительских разговоров или того, о чем перешептывались перед сном их старшие братья, половину сами перевирая или додумывая, а потому дерево отбрасывало густую тень на их воображение с самых их малых лет, с той самой поры, когда им его показывали няньки – замедляя шаг на углу Джордж-стрит, склоняясь поближе, ухватив покрепче за руку, шипя, что нельзя никуда убегать одному.
Никто не знал, почему дерево так и не срубили. Все были уверены, срубить его надо – и не только из-за Робина, а еще и потому, что с верхушки оно начало чахнуть – над рыжеватой листвой торчали переломанными костями унылые серые ветки, как будто в них ударило молнией. Осенью листья делались яркими, яростно-красными, но красота эта держалась всего день-другой, после чего все они разом облетали и дерево стояло голым. Новые листья были блестящими, кожистыми и такими темными, что казалось, будто они совсем черные. Они отбрасывали такую густую тень, что под деревом почти не росла трава, а кроме того, оно было таким огромным и стояло так близко к дому, что, подуй тут ветер посильнее, сказал кронировщик Шарлотте, и однажды утром она проснется, а дерево будет торчать у нее в окне спальни (“А про мальчонку я вообще молчу, – сказал он напарнику, забираясь обратно в грузовик и захлопывая за собой дверь. – Неужто эта бедняга всю жизнь будет просыпаться, глядеть в окно и видеть там вот это?”)
Миссис Фонтейн говорила, что сама заплатит, лишь бы его спилили, тактично притворяясь, будто дерево и на ее дом рухнуть может. Предложение совершенно неслыханное, потому что миссис Фонтейн была такой скрягой, что даже фольгу мыла, скатывала в рулончики и потом использовала снова, но Шарлотта только головой покачала:
– Нет, спасибо, миссис Фонтейн, – отозвалась она так бесстрастно, что миссис Фонтейн даже показалось, что та ее не совсем поняла.
– Говорю же, – взвизгнула миссис Фонтейн, – я сама заплачу! С радостью! Оно и к моему дому слишком близко стоит, а если вдруг торнадо…
– Нет, спасибо.
Шарлотта не глядела на миссис Фонтейн, не глядела на дерево, в высохшей развилке ветвей которого догнивал опустевший шалашик ее умершего сына. Она глядела вдаль – за дорогу, за пустырь, заросший пыреем и кукушкиным цветом, туда, где за ржавыми крышами негритянского квартала исчезала суровая нитка железнодорожных путей.
– Послушай, – сказала миссис Фонтейн уже другим тоном, – послушай-ка меня, Шарлотта. Ты думаешь, я ничего не понимаю, но я-то знаю, каково это – потерять сына. Но на все Божья воля, и с этим надо просто смириться. – Молчание Шарлотты она сочла добрым знаком и продолжила: – А кроме того, он ведь не один у тебя был. По крайней мере, у тебя еще дети есть. А вот у меня только и был бедняжка Линси. Каждый день вспоминаю то утро, когда мне сообщили, что сбили его самолет. Мы как раз украшали дом к Рождеству. Стою я на лестнице в халате и ночной рубашке, прилаживаю к люстре веточку омелы и тут слышу, что в дверь стучат. Портер, упокой его Господь – это было уже после того, как у него первый раз был инфаркт, но еще до второго…
Голос у нее задрожал, и она взглянула на Шарлотту. Но Шарлотта уже ушла. Отвернулась от миссис Фонтейн и поплелась к дому.
Уж сколько лет прошло с того разговора, а дерево так никуда и не делось, и домик Робина так и догнивал в ветвях. Теперь миссис Фонтейн с Шарлоттой держалась куда прохладнее.
– На дочерей она вообще внимания не обращает, – сообщила она дамам в салоне миссис Нили, когда укладывала волосы. – И дома развела бардак. Заглянешь в окно, а там стопки газет аж до потолка.
– Я вот думаю – сказала остролицая миссис Нили, потянувшись за лаком для волос и перехватив в зеркале взгляд миссис Фонтейн, – уж не выпивает ли она?
– Вот уж чему не удивлюсь, – ответила миссис Фонтейн.
Из-за того, что миссис Фонтейн часто выскакивала на крыльцо и разгоняла детей, про нее ходили разные слухи: что она, мол, ворует (и ест) маленьких мальчиков, а их толчеными костями удобряет свои клумбы с призовыми розами. Из-за того, что двор Гарриет был рядом с царством ужасов миссис Фонтейн, разыгрывать там сцену ареста в Гефсиманском саду было в разы увлекательнее.
Иногда на эту удочку кто-нибудь даже попадался, а вот про дерево мальчишкам даже и выдумывать ничего не надо было. От одних его очертаний у них по коже бежали мурашки, от его душной бурой тени – дерево росло всего-то в двух шагах от залитого солнцем двора, но как будто в другом мире – делалось не по себе, даже если не знать, что тут случилось. А уж про то, что случилось, им и напоминать было не нужно, им об этом напоминало само дерево. Была у него своя сила, своя темная власть.
Из-за Робина Эллисон в начальной школе чуть не задразнили. (“Мама, мама, можно мне поиграть с братиком во дворе? – Конечно, нет, ты на этой неделе его уже три раза выкапывала!”) Издевательства она сносила молча, безропотно – никто и не знал даже, сколько это все длилось, давно ли началось, – и только какой-то добросердечный учитель, узнав, что творится, сумел положить этому конец.
А вот Гарриет никто не дразнил – может, из-за того, что характером она была посильнее, а может, просто потому, что ее одноклассникам дела не было до убийства, потому что тогда они были слишком малы. Но семейная трагедия придавала Гарриет жутковатого шарма, перед которым мальчишки не могли устоять. О покойном брате она говорила часто, всякий раз – со странным, своенравным упрямством, так, будто она не только знала Робина, но он и не умирал вовсе. Снова и снова мальчишки скашивали на Гарриет глаза, глядели ей в затылок. Иногда им казалось, будто она и есть Робин: такой же ребенок, как и они, который вернулся с того света и теперь знает то, что им неведомо. Вот оно, таинство кровного родства: стоило Гарриет на них посмотреть, как их так и обдавало взглядом ее умершего брата. Никому из них и в голову не приходило, что Гарриет с братом не были похожи – даже на фотографиях: живой, непоседливый, вертлявый, как малек, Робин и мрачная, надменная, неулыбчивая Гарриет, но это сила ее, а не его характера притягивала их к Гарриет, приковывала их взгляды.
Мальчишки не замечали иронии, не проводили никаких параллелей между трагедией, которую они разыгрывали в тени смолисто-черного тупело, и трагедией, которая произошла тут двенадцать лет назад. У Хили было дел невпроворот: в роли Иуды Искариота он должен был выдать Гарриет римлянам, но он же (в роли Симона Петра) должен был отрезать центуриону ухо, защищая ее. Дрожа от волнения, довольный собой Хили отсчитал тридцать вареных арахисовых орешков, за которые он должен был продать Спасителя, и пока другие мальчишки его пихали и подталкивали, глотнул еще виноградной фанты, чтоб смочить губы. Чтобы предать Гарриет, ему надо было поцеловать ее в щеку. Однажды его подначили другие апостолы, и он с размаху чмокнул Гарриет в губы. То, как сурово она вытерла рот, презрительно мазнув по губам тыльной стороной ладони, пробрало его почище самого поцелуя.
Всем, кому попадались на глаза замотанные в простыни апостолы Гарриет, делалось не по себе. Ида Рью, бывало, поднимала глаза от кухонной мойки и аж вздрагивала – до того странно выглядела эта мрачно шагавшая по двору маленькая процессия. Она не видела, как Хили пересчитывает на ходу арахисовые орешки, не замечала торчащих из-под его облачения зеленых кед, не слышала, как остальные апостолы вполголоса возмущаются, что им не дают защищать Иисуса игрушечными пистолетами. Она смотрела на маленькие закутанные в белое фигурки и волочившиеся за ними по траве края простыней с тем же любопытством и предчувствием чего-то дурного, с каким смотрела бы на них в теплых сумерках дня Песаха палестинская прачка: погрузив руки по самые локти в корыто с грязной колодезной водой, встрепенувшись, утирая лоб запястьем, озадаченно глядя, как мимо нее, надвинув капюшоны на глаза, идут по пыльной дороге в сторону оливковой рощи на холме тринадцать человек – и по тому, как строго и неспешно они движутся, видно, что дело у них важное, но вот какое – трудно вообразить: быть может, они идут на похороны? К постели умирающего, на суд, на религиозный праздник? Уж верно что-то серьезное – она даже на пару мгновений отвлеклась от работы, впрочем, потом она снова примется за стирку, и не подозревая, что маленькая процессия серьезно движется к новой странице в истории.
– И чего вы вечно играете под этим гадким деревом? – спросила она Гарриет, когда та вернулась домой.
– Потому что, – ответила Гарриет, – там темнее всего.
Гарриет с малых лет увлекалась археологией: индейскими курганами, разрушенными городами, зарытыми кладами. Все началось с ее интереса к динозаврам, который потом перерос в нечто совсем иное. Едва Гарриет смогла облечь это в слова, стало ясно – интересуют ее не сами динозавры, не мультяшные бронтозаврики с длинными ресницами, которые позволяли на себе кататься и кротко выгибали шеи, чтоб дети могли съезжать с них, как с горки, не рыкающие тираннозавры и не кошмарные птеродактили. Ее интересовало то, что они вымерли.
– Откуда же мы знаем, – спрашивала она Эди, которую уже тошнило от динозавров, – как они на самом деле выглядели?
– Потому что люди нашли их кости.
– Но, Эди, если я найду твои кости, то не узнаю, как ты выглядела.
Эди ничего не ответила и продолжила чистить персики.
– Эди, вот посмотри. Здесь пишут, что нашли только кость ноги, – она вскарабкалась на табуретку и с надеждой протянула книжку Эди. – А тут нарисован целый динозавр.
– Ты ведь помнишь эту песенку, Гарриет? – вмешалась Либби, перегнувшись через кухонную стойку, где она вытаскивала косточки из персиков. Дрожащим голоском она пропела:
– Кости ног, кости ног сосчитать никто не мог… а за-пом-нить очень просто…
– Откуда узнали, как они выглядели? Откуда узнали, что они были зеленые? На картинке они зеленые! Посмотри. Эди, посмотри!
– Ну, смотрю, – кисло отозвалась Эди, даже не взглянув на картинку.
– Нет, не смотришь!
– Насмотрелась уже.
Став постарше, лет в девять-десять, Гарриет переключилась на археологию и обнаружила родственную душу в тетке Тэт, которая охотно, хоть и путано отвечала на ее вопросы. Тэт тридцать лет преподавала латынь старшеклассникам, а выйдя на пенсию, стала интересоваться всякими “Загадками древних цивилизаций”. Многие из этих цивилизаций, по ее мнению, зародились в Атлантиде. Это атланты построили пирамиды, говорила Тэт, и статуи на острове Пасхи – тоже их рук дело, и если в Андах нашли черепа со следами трепанации, а в гробницах древних фараонов – электрические батарейки, то это все – благодаря мудрости атлантов. Книжные полки у нее дома были забиты популярными псевдонаучными книжками 1890-х годов, которые она унаследовала от своего весьма образованного, но легковерного отца, знаменитого судьи, который последние годы жизни провел под замком у себя в спальне, откуда он то и дело порывался сбежать в одной пижаме. Библиотеку он завещал своей почти самой младшей дочери Теодоре, которую он прозвал Тэттикорум2 (сокращенно – Тэт), и туда входили такие труды, как “Антеделювиальные контроверзы”, “О существовании других миров” и “Цивилизация Му: факт или выдумка?”.
Сестры Тэт эти расспросы не поощряли, Аделаида и Либби думали, что это не по-христиански, Эди – что просто глупо.
– Но если эта Атланта и впрямь существовала, – сказала Либби, наморщив гладенький лобик, – почему тогда в Библии про нее ничего не сказано?
– Потому что ее тогда еще не построили, – несколько бессердечно заметила Эди. – Атланта – это столица Джорджии. Ее Шерман спалил в гражданскую войну.
– Ой, Эди, ну не будь ты такой гадкой.
– Атланты, – сказала Тэт, – были прародителями древних египтян.
– Вот-вот. Древние египтяне не были христианами, – сказала Аделаида. – Они поклонялись кошкам, собакам и всякому такому.
– Они и не могли быть христианами, Аделаида. Христос еще не родился.
– Может, и не родился, но Моисей хоть заставил их соблюдать десять заповедей. Никаким кошкам-собакам они не поклонялись.
– Атланты, – надменно заявила Тэт, перекрикивая смех сестер, – да нынешние ученые запрыгали бы от радости, знай они то, что знали атланты. Папочка знал все про Атлантиду, и он был добрый христианин, и уж образованнее нас всех вместе взятых.
– Папочка, – пробормотала Эди, – папочка меня подымал посреди ночи, говоря, что на нас вот-вот нападет кайзер Вильгельм и мне надо поскорее припрятать серебро в колодце.
– Эдит!