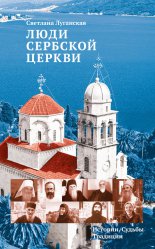Добронега Романовский Владимир

– А ты что же? Я в этом хлеву верчусь с измальства, Ингегерд за косички дергал, нос ей вытирал. У тебя на побегушках был. Где мое состояние?
– Что ж ты мне прикажешь – половину Швеции тебе отдать, что ли?
– Нет, но денег каких-нибудь можно было управиться выдать.
– Денег у меня у самого нет. А то, что она, невеста твоя, предпочла грека этого самого – так ей сердце велело.
– Ингегерд сердце велит предпочесть норвежца.
– Не бывать этому! – крикнул конунг, снова багровея. – Не бывать!
Он налил себе пива из огромного глиняного кувшина, пригубил, и тут же выплюнул на досчатый пол. Пиво оказалось теплое. Вообще март в этом году смахивал на май. Теплынь. Конунгу это не нравилось. Ему вообще не нравилась непредсказуемость северной погоды, и одной из причин его крещения, пусть не главной, была возможность попросить Того, Кто Все Это Создал, чтобы с погодой стало как-нибудь… ну… спокойнее, что ли. Чтобы не было в мае неожиданных снегопадов, а в феврале почти жарких дней, когда дурацкие растения вдруг просыпаются и распускаются почками и цветами, а потом их хрясть морозом, и после этого они все лето стоят, как пьяница горький, которому по роже залепили и к стенке прислонили для равновесия. Не то у Создателя имелись заботы поважней, не то Он не считал нужным удовлетворять погодные пожелания конунгов, а может просто изначально включил в общую гармонию вселенной элемент непредсказуемости, чтобы никому скучно не было – конунг не знал. Но был недоволен.
– Хелье, мальчик мой, друг мой любезный, – сказал он почти умоляюще. – Ну съезди ты в Хольмгард, что тебе стоит. Заодно развеешься. Деньги на путешествие я тебе дам. А? Не знаю, когда вернется из похода норвежская сволочь, но ведь вернется же. И тогда будет поздно. Ну, пожалуйста.
– Ладно, – смилостивился Хелье. – Подумаю.
***
Вот уже полгода любимым местом Хелье было взморье. Сидеть и смотреть на волны – любимое занятие. Даже в холод. Даже в непогоду.
Предпочла грека…
Откуда он взялся, этот грек? Никто и не думал до его появления предъявлять Хелье какие либо претензии по поводу происхождения. Семья Матильды сидела по уши в долгах, ей грозила потеря земель и даже продажа некоторых ее членов в рабство, и все давно с этим смирились! Никто не возражал против брака Хелье и Матильды, никто! Кроме ее брата, конечно, но брат не в счет, с братом Хелье бы как-нибудь сам разобрался. Но вынырнул этот… грек… и заплатил все долги. И как награду взял себе Матильду. То есть попросту ее купил! Большинство людей так или иначе продажны, а женщины особенно, поскольку им почти всегда есть, что продать. Но Матильда была другая. Непродажная. Надменная. Неподкупная. До появления грека.
Неприступная Матильда ни разу не позволила Хелье себя поцеловать. Хелье не возражал – Матильда являлась ему загадочным и возвышенным саксонским божеством, хозяйкой его, Хелье, существования. Ее молчаливое согласие с его планами – женитьба, дальнейшая жизнь вместе – представлялась Хелье великой милостью. Ему, Хелье, позволили подняться на сверхъестественную высоту. Пожелания ее были для Хелье приказами, капризы долгом, он благоговел перед нею. Благоговел настолько, что в жалкую минуту подарил ей семейный амулет, доставшийся ему от матери – серебряный, на цепочке, старинный, с изображением сверда и полумесяца. Такое дарят только невестам. Матильда амулет после уговоров взяла, и даже некоторое время носила его на груди. Грек всех уравнял. Хелье сперва посмел обидеться на любимую девушку, а потом и разозлиться. И злился бы дальше, кстати говоря, и забыл бы о ней в конце концов, если бы не письмо, найденное им в дупле вяза, кое дупло он и Матильда два года пользовали, обмениваясь сведениями. Не веря себе, все еще думая, что Матильда просто ждала все это время, не подвернется ли кто получше, Хелье извлек скрученный в трубку и перевязанный лентой пергамент.
«Любимый…» – так начиналось письмо.
Ого. Ни разу не назвала его так Матильда за все время ухаживания. Хелье устроился под вязом и прочел послание три раза подряд.
«Любимый, я поступила так, как велел мне родовой долг. Уверена я, что на моем месте ты поступил бы так же. Я уезжаю – на юг, посмотреть на дом, в котором мой муж хочет со мною жить. После этого мы предпримем длительное путешествие – он мне обещал. Будущим летом я рассчитываю быть в Каенугарде и задержаться там на полгода: у мужа какие-то дела. Воспользуешься ты этим или нет – решать тебе. Твоя Матильда».
Логика женщинам не свойственна. Что значит – так велел родовой долг? А если бы родовой долг велел бы ей ехать в Африку и быть там съеденной пигмеями, она бы поехала? Что значит – на моем месте поступил бы так же? Как он, мужчина, может оказаться на месте женщины? На юг, смотреть на дом – зачем? Обещал ей длительное путешествие… Хелье представил себе… Каенугард. По-славянски – Киев. Полгода в Киеве. Что же, поехать в Киев и украсть ее? Можно, конечно. Но почему бы ей самой не попробовать сбежать? Почему он, Хелье, всегда должен делать все, а она ничего? И это ханжеское «твоя» в конце. Вот же стерва.
Киев. Каенугард … Город конунга, а по-славянски князя, Владимира. Киев веселый, Киев раздольный, Киев развратный, невероятный, блистательный, Киев – мечта каждого молодого воина. Киев – где никогда не закрываются кроги, где всегда тепло, где люди умны и вежливы, где, говорят, женщины играют значительную роль в правлении. Киев, союза с которым давно и безнадежно ищет немецкий император, Киев, перед которым дрожит и на который надеется Византия, Киев, с этикетом и кодексом чести, Киев на широкой реке Днепр, Киев – бывший колониальный, но давно уже получивший, или взявший силой, все права и привилегии метрополии и свысока смотрящий на бывшего хозяина, а ныне почти вассала – Скандинавию.
Три блистательных города есть на свете – Рим, Константинополь, и Киев. Рим – много раз разрушенный варварами, старый, дряхлый, погрязший в неестественной смеси отживших традиций, южного цинизма, и извращенного, поверхностного христианства. Константинополь – пестрый, наполовину восточный, безалаберный, и тоже старый, многовековой. И Киев – город молодой, кипящий жизнью, город будущего.
Деревенщине все равно, где жить. Даже рожденные в столицах на всю жизнь, бывает, остаются провинциалами. Но каждый цивилизованный молодой человек мечтает попасть в Киев и утвердиться там – в новом Риме, новом Константинополе. Киев – где женщины свободно ходят в одиночку по улицам, где что ни день устраиваются представления, где щепетильные воины встречаются в поединках.
Где, шепнул ему внутренний голос, не прекращается борьба за власть. Где непрерывно интригует и составляет заговоры еще очень молодая, но уже легендарная, Добронега. Где удачливость, предприимчивость и доблесть щедро вознаграждаются.
Неприятная мысль посетила Хелье. А не Киев ли тут причиной? Может, Матильде захотелось покрасоваться, поблистать в обществе, и предвидела она, что, выйдя замуж за Хелье, проведет она всю жизнь в Сигтуне, за два века существования так и не переставшей быть захолустным городком, а то и в Хардангер-Фьорде, где у родителей Хелье имелись какие-то земли, или, того хуже, в лесном Смоленске, среди провинциальной, кичливой и глупой славяно-варангской кодлы, величающей себя аристократией? А ей хотелось в Киев. Хелье с ужасом вспомнил, что она об этом говорила, и даже писала ему в письмах, а он не обратил внимания. Дурак! Следовало пообещать ей, что как только они поженятся, он сразу же приступит к постройке ладьи славянского типа. А грек сразу показал Матильде… драккар, не драккар – здоровенную посудину, на которой, как он сказал, они пойдут морем до самой Венеции (она, захлебываясь, рассказывала об этом изнывающему от скуки, ревности и злобы Хелье). Пойдут – мимо саксонских земель, тех самых, из которых семья Матильды десять лет назад бежала от датских захватчиков. Чтоб они там опрокинулись по пути!
Хелье представил себе… далеко не в первый раз… как старый противный грек раздевает Матильду… а она радостно позволяет ему… и он кладет ее на спину, на ложе, и ложится сверху на атласное тело, всем своим весом… и видна отодвинутая в сторону нога Матильды, чуть согнутая в колене… и ее грудь, которую грек ласкает волосатой греческой рукой… и ее золотые волосы и счастливая улыбка на лице.
Уеду в Каенугард и предамся там разврату, подумал Хелье.
Сам он познакомился с греком случайно. Впрочем, судя по всему, жизнь и действия грека редко посещала случайность. Возможно Хелье, сам того не зная, оказался втянутым в какую-то интригу, его просто использовали, а потом оставили. Хорошо хоть не зарезали.
Грек, с отвращением подумал Хелье. Привлекательный мужчина, да. Хоть и старый. Несмотря на то, что было ему далеко за тридцать, выглядел он… в общем, женщины таких любят. Блондин с сединой. На голову выше Хелье. Крепкий и плотный, несмотря на пластичность. Орлиный нос. Хорошо бы по этому носу кулаком… ага… Красивая вельможная походка, величавая осанка, надменность. И легкий славяно-греческий какой-то акцент, заставляющий девушек и замужних женщин таять и желать немедленного продолжения рода на любых условиях.
И ведь именно он, Хелье, ничего тогда не подозревавший, привел грека к дому племянника конунга. И хотя потом некий Эрик Рауде признался в убийстве, Хелье знал совершенно точно, кто именно убил молодого многообещающего воина, на которого молилась дружина. Будь племянник конунга жив, вряд ли Олаф Норвежский появился бы в этих краях. Следовательно, создавшееся положение с помолвкой и прочим – частично дело рук самого Хелье. А это к чему-то да обязывает. Никто, правда, об этом не знает, но есть такая вещь, как совесть.
Почему Рауде взял вину на себя? Трудно сказать. Хелье ни разу не видел этого Рауде. Какой-нибудь старый проходимец, которому все равно – объявят его ниддингом или нет. Наверное, ему хорошо заплатили греческим золотом.
А когда все решилось, и Матильда ему уже не принадлежала, он, Хелье, как раб какой-то, как побитый щенок, продолжал таскаться в дом родителей Матильды, упорно делая вид, что ничего не подозревает, и мать Матильды, весьма похожая на дочь, только в старом, потасканном исполнении, украдкой ей, дочери, выговаривала на саксонском наречии, что, мол, неприлично это, думая, что Хелье не понимает, а отец Матильды стыдливо молчал. Впрочем, не стыдливо. А – покорно. Мать, улыбаясь, делая вид, что речь идет о повседневном, о кухонной утвари, мать, говорящая по-шведски очень плохо, говорила дочери —
– Thou art rude, my dear. The child visiteth thee twice a week; it must stop now that thou art betrothed.1
– Pledged2, – поправляла Матильда равнодушно.
– I stand corrected. Pledged. I grant thee these folks have a different take on morals, uncivilized savages as they are. However, thou wilt agree, precious, that there ought to be limits. Do reflect, Mathilde. Tis hardly fair. Thou shouldst not encourage him. Thou wouldst do well to tell him the truth3.
Матильда сердилась, оглядывалась, и говорила сквозь зубы, —
– Leave me the bloody hell alone, Mother. Goodness, I believe I have told thee, I know not, forty thousand times or so: keep thy snoopy beak out of mine here life, and especially out of my bed. Cease pestering thy daughter, woman. I shall do as I damn well please4. – И добавляла, понизив голос, ни к кому не обращаясь, – One’s parents are such a fucking nuisance sometimes, I swear5.
Хелье не понимал всего, но суть этих разговоров была ему ясна. А словосочетание «these folks» означало, скорее всего, местное население, на взгляд саксонки вполне дикое. Действительно, как-никак, Римская Империя откатилась от Островов всего лишь пять веков назад, они там до сих пор все сверхцивилизованные.
И, конечно, большую роль в развращении … в соблазнении … Матильды сыграла ее кузина, которую Матильда называла своей сестрой. Будучи на пять лет или более старше Матильды, кузина ее, наполовину полька, удачно вышла замуж еще в Англии, за какого-то славянина, который тут же ее увез – в Киев! Матильда обменивалась с кузиной посланиями, и даже прочла несколько из киевских писем вслух, когда они гуляли вдвоем, чтобы Хелье понял как там, в Каенугарде, здорово. В письмах кузина описывала город, достопримечательности, и свое времяпровождение, таким обыденным, небрежным слогом, что Матильда, конечно же, умирала от зависти – и только сейчас Хелье это наконец понял.
На следующее утро Хелье пришел в церковь – все еще старую, деревянную. Неподалеку строители укладывали фундамент новой, каменной церкви. Третий год уже укладывали.
Нахлобучив новгородскую шапку с мохнатым стильным околышем, модную в тот год среди шведской молодежи, на самые глаза, и закутавшись в плащ, Хелье прислонился к внутренней стороне церковной ограды и стал ждать. Дьяконы распахнули двери главного входа. Процессия подошла к церкви пешком. Громко и нарочито грубо переговаривались норвежцы из свиты Олафа. Девушки и девочки, подружки Ингегерд, хихикали и сплетничали. Процессия вошла во двор, Олаф и Ингегерд впереди. Жених снял шапку, такую же, как у Хелье – возможно, мода дошла и до Норвегии, а может, конунг проявлял чувствительность, как будущий политик, к местным настроениям – и бросил ее кому-то из своих дружинников.
Ингегерд посмотрела восхищенно на норвежца. Какой он бравый и уверенный, и в то же время его жалко – толстый он, и не очень поворотливый. Норвежец воспринял ее взгляд на свой лад и хлестко хлопнул ее по левой тощей ягодице здоровенной своей рукой. Ингегерд вскрикнула, неуверенно хихикнула, а норвежец и дружинники заржали. Некоторые девицы захихикали злорадно.
Дикие они, подумал Хелье. Небось будет ее лупить, если что ему не понравится.
После помолвки имел место пир в замке, во время которого конунг норвежский непрерывно выказывал пренебрежение конунгу шведскому.
– В твоем возрасте, кузен, – говорил он, – пить вообще нельзя. Будешь пить – руки будут трястись. Вот так, – он показал как, тряся мелко руками и жирными щеками. – А слабоумием ты и так страдаешь.
Все-таки Ингегерд, судя по бледности, испугалась. Наконец-то.
После пира, зайдя в опочивальню к конунгу, Хелье обнаружил там Ингегерд, сидящую на ложе отца и дрожащую, как расшатавшийся флюгер на осеннем ветру.
– Что случилось? – осведомился Хелье.
У Ингегерд застучали зубы.
– Он попытался ею овладеть, – сообщил Олоф, яростно ходя от стены к стене и взмахивая коротким свердом. – Убить его надо. Убить, как бешеную крысу. Убить. Ты уж останься, пока он не уйдет. Стыдно сказать, но вся моя дружина им просто очарована. Положиться не на кого. Он всех напоил, и они там до сих пор веселятся.
– Я видел, – сказал Хелье, не присутствовавший на пиру. – Проходил через пиршественный зал. Ладно, подождем.
Наутро бравые норвежцы с трудом поднялись, прикончили остатки пива, съели завтрак, потребовали еще завтрак, и стали собираться в поход, прихватывая в холщовые мешки все, что выглядело дорого – серебренную утварь, например. Перед самым отъездом Олаф потрепал Ингегерд по щеке, притянул к себе, и поцеловал при дружине и свите Олофа в почти детские губы, после чего он хлопнул хозяина замка по плечу одобрительно и затопал, гремя бредсвердом, к выходу. Дружинники и свита последовали за ним.
***
В Старой Роще было все, как всегда, как двести лет назад. Вставали кто когда, но к полудню, облаченные в кольчуги, вояки махали свердами и копьями, упражнялись в стрельбе из лука, всаживали топоры в стволы за тридцать шагов. Время будто остановилось. Разница в том, что два века назад таких лагерей было по Скандинавии множество. В них прятались ниддинги, укрывались изгои, наслаждались жизнью искатели приключений, и все ждали – нового похода. И когда поход объявлялся, вся дикая вольница погружалась на драккары и направлялась куда-нибудь, не важно куда, лишь бы там наличествовало население, и лишь бы у этого населения можно было что-нибудь отобрать, а женщин помоложе взять в наложницы. Награбленное привозилось обратно в лагерь.
Сегодня Старая Роща была единственным и последним серьезным лагерем викингов. Конунги и князья из вождей превратились в политиков, власть укрепилась и стала сносно платить наемникам, у которых появилась возможность получить прибыль, не становясь изгоем. Уже сегодня, несмотря на существование Старой Рощи, дикие и яростные викинги стали почти легендой. Старая Роща, она же Гаммеллюнд, держалась – ей помогала ее вековая репутация. Свердом каждый может размахивать, но тем, кто желает научиться размахивать им правильно, один путь – в Старую Рощу. Каждый может выстрелить из лука, но попасть в яблоко с пятидесяти шагов научить воина могут только в Старой Роще.
Женщин в лагере викингов, помимо наложниц, по-прежнему не жаловали, несмотря на киевско-новгородские веяния. Над этими веяниями в Старой Роще смеялись. Мол, новгородки да киевлянки принимают участие в совещаниях, на равных правах разгуливают по улицам, вступают с кем ни попадя в контакты, и даже дают советы вождям. Эдак они скоро править начнут, как небезызвестная египетская царица! Или как бабка нынешнего киевского конунга. Тем не менее, женщины в лагере имелись – жены старшего поколения, тех, кому за тридцать, вдовы павших, воспитывающие детей – будущих викингов. Были и обычные проститутки, наведывающиеся из Сигтуны и остающиеся на месяц-два, и старухи-ворожихи, злые, ворчащие, но охотно помогающие готовить еду и накрывать на столы. Грозди деревянных хибарок, в которых жили викинги, окружены были кольцом повозок – Старая Роща напоминала походный стан, да и являлась, по большому счету, таковым.
Старый но крепкий Йири, учивший молодежь правильно махать свердом, первым заметил приближающихся всадников. Их было двое. Йири дал знак четверым молодым своим ученикам остановиться и отдохнуть, а сам пошел навстречу. Кони в лагере – редкость. Йири узнал коня Хелье и приветственно махнул рукой.
Подъехав, Хелье соскочил с коня и обнял Йири, после чего он галантно помог своему спутнику, оказавшемуся тощей девчушкой лет пятнадцати, спуститься с седла.
***
Костер начал гаснуть, и Хелье подбросил сучьев.
– Так, стало быть, ты все это собираешься улаживать, – сказал Йири задумчиво.
В лагере давно спали. Ингегерд тоже спала – в доме самого Йири, под присмотром его жены.
– Что смогу, то улажу.
– У тебя доброе сердце, – заметил Йири. – Впрочем, Олоф всегда хорошо к тебе относился. Ну вот и кончилось твое детство, Хелье, дружок. Девчонку я поберегу, не волнуйся.
– Этого мало, – возразил Хелье. – На всякий случай, если, скажем, у меня ничего не выйдет, ее нужно не просто поберечь – ее нужно многому научить.
– Чему же это?
– Ее нужно научить, как ломать руки и ребра пьяным норвежцам, ежели они вздумают приставать. Ее нужно научить стрелять, прятаться, плавать, чувствовать опасность, охотиться, удить рыбу, и прочее.
Йири хохотнул.
– Викинга из нее сделать!
– Да, – подтвердил Хелье серьезно. – Чем больше она викинг, тем спокойнее.
– Последние времена настали, – заметил Йири. – Девушка-викинг. Надо же.
Глава Вторая. Содружество неустрашимых
Будь то не Киев, но какой-нибудь другой город, сошедшая с ладьи пара привлекла бы внимание. Муж и жена шли рядом, а не гуськом, и одеты были в высшей степени странно. Жена – высокая, симпатичная, улыбчивая рыжеватая женщина лет двадцати, с длинной шеей, красивой грудью, тонкой талией – уверенно ступала по плотно утрамбованному грунту ногами, обутыми в грубоватые но, по-видимому, очень удобные и мягкие, норвежские сапожки. Изящная вышивка и тяжелый шелк говорили о средиземноморском происхождении платья, а плетеная причудливо и нарочито грубо шерсть шали о молчаливо вяжущих такие шали датских умелицах. Муж женщины был старше ее лет на пятнадцать. Высокий, стройный блондин с орлиным носом, глубоко посаженными голубыми глазами, лицом узким и губами тонкими. Волосы длинные, борода щегольская, подвитая. Одет в такую же странную смесь южных и северных фасонов, как и его жена, а с плеч его свисал длинный франкский плащ, схваченный у ключицы серебряной пряжкой. Из-под плаща торчал средних размеров сверд в изящной работы ножнах. Мужчина улыбался светски и говорил жене своей серьезные вещи серьезным тоном на странном наречии, похожем на немецкое.
Как мы уже успели сказать, пара привлекла бы внимание горожан в любом городе кроме этого. После Хольмгарда, Киев в году Милости Господней Одна Тысяча Пятнадцатом состоял самым интернациональном городом севера цивилизации, и горожан здесь редко можно было чем-нибудь удивить.
– Дорогая, – степенно говорил муж, – вот мы наконец здесь. Веселее этого города только Константинополь, в который мы заглянем пред самым нашим возвращением домой.
– Лица горожан не кажутся мне веселыми, – заметила жена.
– Это потому, что они скрывают свое веселье, – объяснил муж. – Веселиться открыто – дурной тон. Так поступают только в провинциях. Вспомни Венецию. Смеются открыто только торговки и ростовщики. Вельможи же ограничиваются как правило гортанным хо-хо и вежливым быстрым поклоном.
Не знающие этого человека люди, способные понимать наречие, на котором он вел беседу с женой, подумали бы, что он говорит глупости. Это на самом деле так и было. Будучи в некотором смысле эпикурейцем, человек любил и культивировал разного толка хвоеволия, а произнесенные вслух глупости хвоеволия доставляли ему чрезвычайно много, особенно когда их воспринимали всерьез, как это делала его супруга. Впрочем, возможно, она просто ему подыгрывала.
– Мы здесь заночуем? – спросила жена. – В этом городе?
– Да, наверное, – откликнулся муж. – Если не будет никаких представлений, а тебе вдруг станет скучно, хочешь, я устрою на площади совершенно безобразную драку?
– Ах нет, не сегодня, дорогой, – ответила жена, поднимая рыжие брови и морща конопатый нос. – Хотелось бы мирно поужинать и улечься спать, зная, что ночью тебя не будет кидать из стороны в сторону, брызги не будут хлестать в лицо, не нужно будет держаться за что попало, чтобы не вылететь за борт. Это хорошо, что следующая часть путешествия будет проходить по суше. А то я по ночам кашляю все время от сырости.
– Да, конечно, – живо согласился муж. – А еще на суше водятся всякие забавные зверюшки.
– Какие же?
– Волки там всякие, и еще кони. Кстати, надо будет раздобыть коней. И, наверное, телегу тоже. Поскольку на коне ты долго не высидишь, да и я не очень расположен. Я всю молодость провел в седле. Хватит с меня. А вот и площадь. Посмотри – несколько зданий из камня. Заграждения. Там детинец, выше, и княжеский терем, каменный. Второй уровень – гридница, а еще выше – светелка, видишь? А вон и князь.
– Где? – заинтересовалась жена.
– Вон на крыльце стоит. Видишь, народ собирается? Сейчас он будет говорить, а народ будет слушать, уши развесив.
Да, подумал он, изменился князь. Следя за тем, как он ведет себя, как стоит на крыльце, будто погрузясь в государственные думы, иногда по-доброму поглядывая на толпу, муж решил, что надо будет князя навестить в его резиденции. Он и так собирался это сделать, но теперь решил, что совершенно точно это сделает.
– Какой-то он маленький, – сказала жена, вглядываясь. – Но симпатичный. И старый.
– Да, – протянул муж удрученно. – Старость, старость…
Жена удивленно посмотрела на него. И тут он, наконец, засмеялся.
– Не бойся, дитя мое, – он нежно обнял жену за плечи. – Дядя шутит.
Жена хихикнула.
– Послушаем, что он скажет? – спросила она.
– Нет, зачем же. Князья всегда говорят одно и тоже. Это неинтересно. А вот навестить его – навестим. К вечеру ближе. Впрочем, тебе следует сначала хорошо выспаться.
***
Киевскому князю было пятьдесят восемь лет, и выглядел он моложаво. Не портили его ни солидные залысины, ни проседь в длинных светлых волосах, ни погустевшие от возраста, а некогда очень правильного рисунка, брови. Серые внимательные глаза, когда-то яростные, смотрели мудро. Кожа на щеках и высоких скулах молодая, здоровая, с розовым оттенком. Крупный скандинавский нос, начавший уже загибаться к пухлым славянским губам, выглядел тем не менее по-имперски солидно, а прямоугольный подбородок подчеркивал твердость и решительность натуры. Увы, тело князя после потери любимой жены три года назад, быстро приходило в упадок. Маленького роста, но некогда очень крепко, компактно сбитый, князь обрюзг и растолстел. Округлились бока, появилось брюхо, а на шее под затылком наметилась характерная для махнувших на себя рукой мужчин жировая складка полуобручем, скрытая, правда, длинными волосами. Маленький и круглый – таким бы воспринимался князь, если бы не особый поворот головы, особый взгляд, и особая, величественная манера держаться.
Князь киевский сидел за столом и мрачно смотрел на своего сына. Борис, стоя напротив и отводя глаза, был с похмелья. Одежда на нем висела мешком, темные волосы растрепались и отсвечивали сально, под глазом наличествовал, играя оттенками, синяк.
– Тебе самому-то как, не грустно? – спросил наконец Владимир.
– Башка болит, – с трудом выговорил Борис, объясняя.
Владимир покачал головой, уперся в стол локтем, а подбородок положил на сжатый кулак.
– Что же мне с тобой делать, – сказал, а не спросил, он. – Что мне с тобой, чучело крапивное, делать. Пороть тебя уже поздно. Кричать на тебя бесполезно. Женить тебя, что ли. На какой-нибудь толстой, степенной, сварливой бабе. Где ты вчера пил?
– Ну, известно…
– Не ври.
– На Подоле. У межей.
– И что же, там дешевле, да? А разве на Подоле место тебе, посаднику? Хочешь гулять – гуляй здесь. У меня под надзором.
– Может, ты еще и расписание придумаешь, когда мне гулять? – заворчал было Борис, и вдруг слегка подвыл. Очевидно, ему ударило в затылок. Он прикрыл глаза и качнулся.
– За что били-то тебя?
– Меня не били. Это был честный отважный поединок. Если бы я не споткнулся…
– Какой еще поединок! – Владимир махнул рукой. – Скольким непотребным девкам задолжал, признавайся сразу. На остальных мне плевать, а вот за девок обидно. Они же безответные, скотина ты бессовестная! Говори, скольким?
– Трем, – ответил нехотя Борис и побледнел от боли в голове.
– Добрыня! – крикнул князь.
Большой величественный старик в чистой, богатой одежде появился в комнате и, неспешно ступая, приблизился к столу, жуя на ходу укроп. На Бориса он старался не глядеть.
– Да?
– Отнеси, будь добр… тебе там покажут, каким именно девкам… на Подоле… не знаю, ну хоть по гривне каждой.
– Это много, – возмутился Борис.
– Засупонь хлебало! – злобно рыкнул Владимир, не сдержавшись. Прикрыв глаза, он вздохнул, снова их открыл, и посмотрел на Добрыню.
– Не в службу, а в дружбу.
– Стар я, Владимир, для передачи денег таким особам.
Какие все медлительные кругом, и как туго соображают, подумал князь. Вот поэтому, наверное, я и толстею, хорла.
– Не могу же я холопа послать, – объяснил он. – Если эта свинья ведет себя так, как она себя ведет, надо же это как-то уравновесить. Пошлю холопа, а там скажут – а, так князь считает, что детям его все можно, вон холоп подачку принес. А придешь ты – какое-никакое, а уважение.
Добрыня мрачно смотрел на князя. Лет десять назад он бы густо покраснел и ни слова не говоря ушел бы, уехал бы за тридевять земель дуться. Какое-никакое, надо же.
Князь порассматривал угрюмого Добрыню с пучком укропа в руке и потеплел.
– Ну прости. – Владимир засмеялся. – Люблю шутить.
– Это ты так шутишь? – спросил Добрыня.
Князь опять засмеялся.
– Отнеси, – сказал он. – Будь другом.
– Ладно.
Добрыня вышел. Князь еще раз хохотнул беззвучно. Злость на сына прошла. Пришла жалость.
Хорохорится, думал Владимир. Эх! Помру я, не дадут ему спокойно править. Слабый он у меня. Но очень хочет, чтобы его сильным считали. Во всем мне подражает, а получается глупо и говорит нескладно. Мать его была женщина мягкая.
Вспомнив о матери Бориса, Владимир загрустил. В жизни его было очень много женщин. Мать Бориса была единственной, изменяя которой он чувствовал себя виноватым.
– Теперь можно? – спросил Борис, изображая ворчание.
– Можно.
Борис подошел к столу, взялся за тяжелый кувшин, налил себе в кружку бодрящего свира, и выпил залпом. Некоторое время он стоял, держась за стол и жмурясь. Схватив две редиски с блюда, он запихал их себе в рот и зажевал смачно.
– У Святополка я был вчера утром, – сообщил он некоторое время спустя.
– У Святополка.
– Да.
– Где же это?
– В темнице, где же еще. Куда ты его засадил, там он с тех пор и сидит.
– А ты, стало быть, в гости ходишь.
– Нельзя?
– Можно, – неприязненно сказал Владимир. – Вот только не знаю, зачем это тебе.
– Он говорит, что никакой он не заговорщик. И что все это клевета. И вообще его надо отпустить.
– Это он так говорит, что его отпустить надо, или ты сам так считаешь?
– Я сам так считаю. С ним интересно. То он истории рассказывает разные, то мы с ним в игры играем всякие. Вчера вон в шахматы играли. Он говорит, что хоть ты его и не любишь, он тебя любит, и почитает.
– Отец! – раздался звонкий, но низкий и густой, женский голос. В помещение вбежала привлекательная молодая женщина. – К тебе гости из дальних стран!
– Дура! – закричал Владимир, приподнимаясь из-за стола. – Сколько тебе раз велено не носиться по комнатам как кобыла гривастая по пастбищу! Посмотри в окно! Что там?
– Киев, отец ненаглядный мой, – с притворным смущением и испугом ответила женщина. – Как есть Киев. Я тут было подумала, что Чернигов, или, чего доброго, Лютеция, а тут смотрю – Киев.
– Так вот должен быть в княжьем дворце порядок и, как говорят франки, этикет. Ну и дети у меня. Что сыновья, что дочери.
– А ты вчера опять напился? – спросила она радостно у Бориса. – То-то я слышу вы тут оба кричите, как на торге. Отец! К тебе дорогие гости, много лет не виденные светлыми твоими очами.
– Докладывают слуги, – заметил Владимир.
– Да какие там слуги! Александр приехал. Сам Александр!
– Александр Великий? – переспросил Владимир. – Тот, что узелки развязывает и с этим… который в бочке… болтает?
– Перестань, отец! Будто ты не знаешь, какой Александр.
– Знаю. – Владимир почесал в затылке. – Ты в него влюблена была когда-то.
– Ах, оставь пожалуйста! Женат он, с женой приехал. Будет сегодня пир! Будет он рассказывать! Наконец-то в тереме появился человек, умеющий толком что-то интересное рассказать. А то все очень заняты государственными делами.
Борис икнул и снова налил себе бодрящего свира.
Владимир покачал головой. Дочь свою Предславу он очень любил, по-своему, и позволял ей очень много, и был даже рад, что не выдал ее пока что замуж. Княжьим дочерям ждать не опасно. Их можно и в сорок лет замуж выдавать. А ей только двадцать. Ну, хорошо, двадцать два. Ну, пусть является Александр. Старый воин, не желающий выглядеть старым воином. Бабник и проходимец, но умен, смел, и не враждебен. Женат он? Надо же.
– Что ж, зови Александра.
Александр вошел энергичной походкой, клацая сапогами по мраморному полу. Франкский плащ перекинут через согнутую руку. Владимир не удержался – встал и пошел навстречу. Не давая Александру поклониться, он горячо и искренне его обнял.
– Здравствуй, здравствуй, негодник, – сказал он.
Борис тут же взревновал Александра к отцу. Долговязый Александр и маленький Владимир вместе выглядели глупо. И вообще – является неизвестно откуда, а ему вон какое радушие выказывают. Вот его надо вместо Святополка посадить в темницу. Он быстро налил себе еще полкружки, пожалел, что это не брага, и выпил.
– Пойдем в покои, – Владимир кивнул Александру. – А ты, – он повернулся к Борису, – не пей больше, да выйди разгуляться. Но учти. Не до самой ночи. Если придешь после захода солнца, я тебя запру на месяц, как барышню, в светелке. Не шучу.
Борис проворчал что-то невразумительное и опять икнул.
В покоях Владимир и Александр опустились в венецианские скаммели. Гость тут же закинул ногу на ногу, локоть небрежно отбросил в сторону, и подмигнул Владимиру.
– Ты все такой же, – отметил Владимир, не осуждая. – Что слышно?
– Предпринял я, князь, путешествие по миру с молодой женою моей, – ответил Александр нарочито степенно.
– Жена твоя из каких же родов будет?
– Из италийских.
– Ну да?
– Хотя, по правде говоря, из саксонских.
– Это как же?
– Родилась она на туманном острове, но после долгое время резидентствовала на лазурном южном берегу, и я к ней там присоединился. Дом сейчас строится, совсем рядом с Венецией. А мы пока что ездим по миру. Не по всему миру, а только по цивилизованной его части. Развлекаемся.
– Что ж ты ее не привел?
– Пусть поспит. Она утомлена путешествием.
– Где же ты был?
– У франков был. У немцев был. У датчан был. У норвежцев. У шведов. Ну и по славянским землям поездил такими, что ли, зигзагами, – Александр показал рукой, какими, – как, вроде, ладья против ветра идет. Был, стало быть, в Новгороде, в Муроме, в Ростове, в Полоцке.
Перечисление городов насторожило Владимира.
– А в Черновцах был?
– Не доехал еще. Ну, это как в дальнейший путь соберемся. Да и стоит ли там быть?
– Договаривай.
– Да, вроде, все.
– Нет, не все, – Владимир пристально смотрел на собеседника. – Это неспроста. Перечисляешь города, где в посадниках мои сыновья сидят, либо числятся. Стало быть, мысль есть какая-то за всем этим.
– Есть. Помнишь, когда я уезжал, спрашивал ты меня?…
– Да, – подтвердил Владимир. – Да, точно, было.
– Что же спрашивал?
– Спрашивал, что будет с моим наследием.
– Ты, наверное, шутил, – заметил Александр. – По обыкновению. Но я пообещал подумать и посмотреть. И вот я подумал и посмотрел. И, не заехав даже к батюшке моему, который, впрочем, все равно сейчас обедню служит, на коей наихристианнеший князь почему-то не присутствует… явился я к тебе. Посмотреть – все ли тебе еще интересно, или же нет.
Сейчас будут неприятности, подумал Владимир. Возможно крупные. Алешка всегда разговаривает много, когда крупные. Лень. Не хочется. Не хочется заниматься неприятностями.
– Да я и так все знаю, – уныло протянул он. – Ну, подерутся сыновья, не без того. Я тоже с братьями дрался. Будущее Руси – вон оно, в соседней комнате, похмеляется.
– Нет, – возразил Александр. – Вовсе не там, и вовсе не в Киеве. Но тебе это неинтересно. Расскажу я тебе лучше про немцев. У них есть одна забавная легенда…
– Нет уж, ты договори, пожалуйста.
Александр с сомнением посмотрел на князя.
– Правду сказать?
– Да.
– В темницу не посадишь?
– Сейчас вернется Добрыня, – пригрозил Владимир, – и я его попрошу, по старой памяти, тебя за уши отодрать.
– Ага, – откликнулся Александр, делая вид, что воспринимает это, как серьезный аргумент. – Ага. Ну, раз Добрыня, то придется договорить. Придется. Да. Ну, что ж. Сыновья у тебя, князь – как на подбор. Упрямые, кичливые, недоверчивые, и не любят друг друга – страсть. И каждый заранее готовится занять киевский престол. Для чего ему придется драться с остальными. Каждый думает, что его поддержит народ. Каждому нет никакого дела ни до народа, ни до тебя. Каждый сам себе великий правитель. Кроме одного.
Лицо Владимира ничего не выражало и не отражало, оставаясь спокойным и благодушным. Александр мог острить и язвить, сколько ему угодно – Владимир был абсолютно спокоен, вел светскую беседу.
– Кто же этот один? – спросил он.
– О! Это особый юноша, совершенно особый.
– Юноша?
– Это я в ироническом смысле. Это я шучу так.