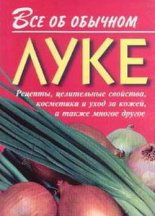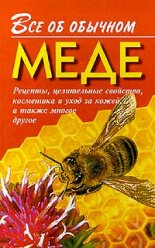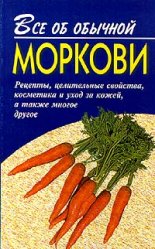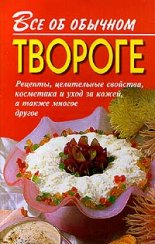Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение Личутин Владимир
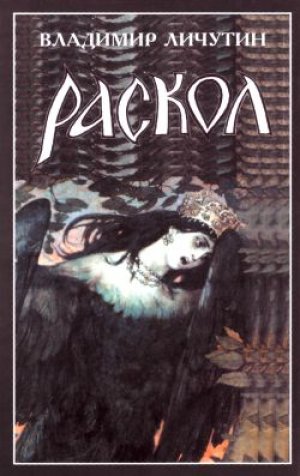
– Клев на уду…
– Хрен на блюде. Не стой за спиной, проходи стороной, – сердито буркнул старец. Но оглянулся.
– Клюет ли?
– Где ей клевать? Она же не дура. Вы вон на рожон не прете, а обхаживаете монастырь, как невесту, уж сколькой год, умасливаете блинами. А он вам фигу.
Губы старца, сжатые в голубую нитку, вдруг ехидно растянулись в ветхой редкой бороденке, побитой молью.
– Может, в этой баклуше и веком рыбы не бывало, все озеро тиной изросло, а вы сидите. Как приросли. Иль слово какое, иль напуск знаете приворотный? Не просто же так мокнете? – привязался Любим, только чтобы завязать разговор. Старик вроде бы скуп на слова, но задирист, и можно распалить его сердце. Ежли воистину молитвенник он, и святые писания сквозь прошел, и своей ученостью известен на Руси, то и знает, поди, какие-то особые наущения, что снимут с души Любима призеры. Насадила бабка-порчельница запуку, иль наслала по ветру печаль-тоску, иль положила злой наговор на след из-под его ноги, вот и не унять с той поры грудь.
Монах был из обители; с отроческих лет пробыл там, изрос в келье, и в том пустынном житье, борясь с бесами, открылась ему, наверное, подноготная всего сущего, что обитает под небесами. И так почудилось служивому: вот бросил старец один лишь взгляд из-под слезящихся сизых век и как бы зацепил Любима удою и потянул на берег, словно ошалелую от боли рыбину. Иначе бы для чего бездельно торчать за спиною у чернца, когда на стане уже колотят вощагою в медную сковороду и сзывают приписных на трапезу. И стремянному самое время быть там.
Но дремотно было, тихо, обавно на краю озерной чаши, утопленной в моховины; болотная прель, настоянная на багульнике, погружала в сладкое оцепенение. На всю округу ныл комар; серой шевелящейся пеленою был накрыт и инок. В круглом вороте заношенного коричневого понитка виднелась беззащитная тощая шея, облитая комаром, но монах не отбояривался, не скрипел зубами, но покорно принимал досаду, словно задресвел шкурою, иль была сладка эта боль.
– Знать, любишь рыбку ловить, старик, раз на пустом месте баклуши бьешь, – снова поддел Любим.
– Ты что, скрозь видишь?
– А хоть и скрозь. Я много всякого места перевидал. Меня Медвежья Смерть кличут, – вдруг похвалился, будто кто за язык дернул.
– Ишь ты? – повернулся старец. – Вон какие люди по белу свету шляются. И что ты здесь позабыл, зрящий скрозь?
– А то и вижу, что зря баклуши бьешь, бездельный человек.
– Сижу и ладно, никому не мешаю, никому не досаждаю. Но отовсюду гоним. Пришел ныне ты и гонишь… Вот промыслю окунька с палец во славу Божию, коли повезет, заварю ушички, похлебаю горяченького и стану молить Господа за пропитаньице. Что дал насущного хлебца позобать, удоволил плоть. Кто многого хощет, сынок, тот опосля свои пальцы грызет, долго плачет о неразумении, паче о глупости, и просит смерти… Ишь ты, Медвежья Смерть, а комара боишься. Велика ли животинка-то?..
Старик не сердился, он так и сидел кульком, просунув ладони куда-то под живот; порою на озерную кулижку наскакивал сквознячок, морщил воду, и перьевые поплавки, смущая, колыхались, отсверкивали черненым серебром. В темную, как смола, воду убегали стоянцы бледно-зеленых, еще не расцветших бобошек; листы кувшинцев были как наливные шаньги, напеченные соловецкой русальницей и притороченные к невидимому дну сиреневым пряденом.
– Значит, любишь рыбку-то ловить? – домогался Любим.
– Да ты што, искушаешь меня?
– Пошто искушаю? Вижу, мается старик, со дна голых баб ловит на крючок да петельку, норовит с има кудесы творить. Иль ты соловецкими мошенниками нарошно сюда спосылан, чтобы на нас запуки насылать, а? Для отводу глаз наплел воеводе сто коробов вранья, а сам измену творишь? Ну, отвечай, старик! – нарочно напустился стремянный и для острастки даже вскинул батог над тощей иссеченной морщинами шеей.
Но старик не ворохнулся, не прянул в испуге.
– А я говорю, что искушаешь, – стоял на своем Терентий. – И ты не кричи на меня, покинувший истинного Бога. Я, бат, не глухой. Я нынче ничего не боюся, как жду конца света. Спаситель грядет, а вы, озорники, и ног-то не омыли, не то душу спасати.
Глазенки монаха, до того точившие слезу, разом просохли, заглубились, и в них высеклись искры. Сколь неуступчив старик, из можжевелого корня свит, хоть карбаса им шей, не поддаст. Вроде бы мозгля видом, червяк, трухлявый обабок, пальцем придавить, так одна воня – и всё; но ты посмотри, как вспрянул, встопорщился, будто на острогу грудью. Недаром маялись с ним соловецкие охальники два года с присыпкой, морили тюрьмой, да и выплюнули вон. И в чем сила его?
Любим заулыбался, бросил шутковать, присел на корточки, погладил монаха по плечу, как ребенка.
– Прости, батюшка. Так мне што, ступать прочь?
– Сам знаешь… Что мне тебе говорить, служивый.
– А как прознал ты про конец света, отче? Иль наснилось?
– А на што тебе знать? Ты вон пришел на святую обитель с пушками, как на злого супостата. Божьей кары, вижу, не боишься, так и конец света для тебя настал преж всех времен. Ты и живой вроде, а уж мертвяк, одна слиня и возгря. С того и малый комарец для тебя несносим…
– Эк ты меня сколь круто!..
– А как заслуживаешь. По чину и кусок, по греху и наказанье. Ты в озере-свят омывался, нет?
– Холодно больно…
– А ты за теплом к нам приехал? за огненной банькой, чтоб на угольях каленых кататься? Ты с войском нашел, чтоб обитель жечь и у пламени того греться? Ты смрадный к нам на остров явился, с дурными мыслями приплыл и с тела мерзкое так и не смыл, худой затейщик. Ты не на воров грудью встал, а на Божьих страдников. Есть средь них мерзавцы, что при жизни истлели, да тех, пожалуй, дьявол скоро к себе приберет заход убирать. А ты с пушками на святые стены. Ой-ой… Ты труды святого Филиппа в пыл пускаешь, черт поганый… Прости меня, Господи. И когда уйметесь-то? когда надоест добрых людей со свету сживать и в костер сажать? Никон-никошной, сатане пособник, заварил кашу безумно да и с лавки слетел; а свет-Михайлович, голова у него кругом, сошел с пути и давай тешиться Никоновыми затейками. Иль и он умом истратился? Скажи, сынок. Ты возле властей отираешься…
– А ты чего хошь? Чтоб царь воров миловал, да ласкал, да горячими блинами угащивал? Вы тут воду мутите на всю Русь, а нам морс кровяный через вас испивать? Вы тут чертей из озер тягаете себе в пособление, а нам ангелов милостивых от себя прочь гнать? Дурни вы, дурни…
– Может, мы и дурни, темная сторона, в скиту груши околачивали и добрый мир позабыли. Но вот мы заветы отичей не отдавали на сторону, как гулящую девку.
– И что ты на меня взъелся? Я тебя-то как увидал на озере, будто елейницу возжженную в ночи. Хотел росным ладаном напитать душу. А ты напустился, что дворной пес! – вскричал Любим, с изумлением уставясь на монаха. И тот вдруг смутился, глазки заточили влагу; слеза скоро скатывалась по иссохлым щекам и терялась в морщинах, в седой бороденке, сбившейся на сермяге клочом.
– А ты не возгоржайся, сынок, в чужом стану, – ответил Геронтий уже иным тоном. – Я тебя кляну, а ты пуще того срони голову и будешь прав… Я пошто на тебя собакою?.. Ты бы, как с кораблика слез, белье бы чистое взял, да отошел бы в купель на озеро свято, да погрузил бы себя в студеные струи, и тебе бы Господь бодрость телесную дал, голове разумение, а душе смущение. И побежал бы ты прочь с острова, только тебя и видели, лишь бы не мараться в грязище, что натаскали худые людишки. А ты, поганый, по острову шатаешься, людей смущаешь, да и ко мне вот приплелся смущать.
– Да чем же, отец, я такой скверный, что со мною вам и поговорить мерзко?
– Что с тобою говорить? Одно согрешенье. Не столкуешься с тобою. Ты и образом-то шатун, лесной архимарит, добрый человек со страху помрет, право дело. Ты бы прах-от отрес. Ты еще во чреве у матери был, а я здесь в обители жил, преподобным трудился, Зосиме и Савватию. На мне лик уже ангельский, мантия есть, а ты вот пришел и меня искушаешь… У тебя братовья-то другого пути.
– И вы знаете, чей я брат? – изумился Любим и неожиданно покраснел, смутился, опустил взгляд: и сразу стало видно, как молод служивый, еще не замордател и не забрюхател от тягостных походов и бражной жизни.
– А пошто не знать-то? Я на сто пядей в глубь земли вижу, а ты для меня мелкий, как зеркальце, – усмехнулся старик, и глаза его снова просохли от влаги, и что-то в них проявилось острое, рысье. – И Федьку юрода знавал, строгих правил был чернец и за святость свою вознесен был к Господу. Правда, путаник был великий, Бога четверил. Там-то уж ему откроется вся правда… И с братом твоим Феоктистом двадцать лет одни житенные колобы ел и не подавился от попрека. Он тоже путаник большой, во хмелю буен и хвастлив, на руку не чист, ловко прибирает все, что близко лежит, но в писаниях силен, спорщик великий и Спасителю нашему верен до гроба. Я вот казну монастырскую бросил и бежал поскорее, чтобы с чертями не сосмеситься, одной каши не хлебать, одной мутовкой щей не мешать… А он за гобину братскую удавиться готов. Думаешь, пошто не сошел-то? Ведь он государю не враг, давно бы мог скинуться, да боится: де, без него всё пограбят, всё нажитое добро пустят в распыл… Бог-от, сынок, он все видит, он всему пособляет во сто крат, на чем человек замешан, доброму и худому, чтобы стал христовенький явленным, как зеркальце… Однажды Феоктист, еще будучи в будильщиках, у старца Иова часы стащил со стола, поймали, били палками по пяткам, отправили в мукосейную на четыре седьмицы муку на хлебы сеять; так нет же, другой раз не стерпел и у брата келейного украл пятьдесят рублей… И так было много раз. И Бог-от посмотрел на Феоктиста и нашими же руками выбрал его в келари: де, хозяинуй, милок, сам у себя не своруешь. Вроде бы кота да к сливкам?.. И такой строгий вдруг хозяин сыскался…
Геронтий внезапно замолчал, словно бы устыдился за свое многословие; свет небесный перламутровый, какой бывает лишь у моря Студеного, разлился по луковично-желтому лицу, разгладил морщины, и повиделся монах доброчестным юношей, что задумался у начала пути. Озеро было как аспидная доска с редкими залысинами по середине чаши; по-прежнему поплавки лежали недвижны, только редкий жук-плавунец чертил лапками по водному зеркалу, оставляя на нем рассыпчатую дорожку. В монастыре перестали стрелять, запах гари и смерти оттянуло в морскую даль, и над островом установилась глубокая святая тишина. И даже громкий голос тут показался бы кощунным и дерзким. Неведомо почему Любим был встревожен сердцем и устыжен, и каждое теплое слово о родимом братце доставляло ему неожиданную радость. Это чувство было новым и сладило. Вроде бы отряс семейное родство, как прах со ступней, покидая очаг, годами многими не встречался с Феоктистом, да, оказывается, жил тот в груди неотлучно, как косточка в вишне. И спросил Любим с тайной мыслью, которая была пока неведома ему, но уже прочно заселилась в душе:
– Да как же ты-то попал в монахи?
– Видение было, – не удивился Геронтий, уже с любопытством оглядывая служивого. Дрожь в голосе жила… Ах, припекло, ах, клюнул в сердце Божий ангел, ах, навестила судьба, записанная в небесной книге…
– Видение?
– Да… Еще отроком был. Видение было во сне. И представился мне остров зеленый, и так на том острове тихо, что иду будто я и радуюсь в сердце своем. И дошел я до ямы глубокой, а около старец стоит и мне говорит: младе, уготовано место твое, ляг и лежи. Проснулся я утром, и запала мне в душу тоска, такая тоска, Господи Боже. Вот я и пошел тоску разгонять по обителям. Куда я иду, туда и тоска со мною. Ходил я, ходил, думаю, дай-ко схожу в Соловки, ну и пошел. Сколь это мы шли. О Господи, сколь недель мы шли, и не упомню. Лесами большущими. Ногами оббились, ослабли все, пообтрепались. А потом в карбасе ехали морем, сами гребли. Прибыли мы в святую обитель, походил я везде, помолился, пришел на это кладбище здешнее и вижу яму глубокую. А крестов-то, крестов-то кругом. И под каждым все инок лежит, и годы трудов его обозначены. Посмотрел я в ту могилку, и тоска пропала. Так на душе покойно мне стало… Вот так и живу на острове, забыл, сколько годов, ямку свою караулю… А где же твоя ямка, сынок? – многозначительно сказал монах, смотал удочки и пошел прочь. Любим было направился следом, но Геронтий оглянулся, погрозил пальцем, будто служивый своим любопытством запирал ему путь…
Любим вышел на гору невдали от губы Кислой. Он долго оглядывался, провожая взглядом старца, пока тот не исчез в березовой ворге.
Море накатило сразу, подавляя простором, но и позывая к дороге. Оно горело белым пламенем; в голомени, блещущей алмазным крошевом, плавились белухи, плевались водою, выгибая над волною лоснящиеся жирные тулова; солнца точильный круг, нестерпимо сверкая, извергал с крутящегося ободья снопы ослепительных брызг. Мирная обитель вставала пред глазами, как драгоценный камень яспис, вырастала прямо из океана, как неведомый блаженный град; над ним клочьями хлопковой бумаги вились неугомонные чайки; поверстав монастырь за огромный трапезный стол, они неотрывно кружились над ним, изымая с монашьих рук хлебные крохи и тем посчитав свою жизнь самой счастливой. На берегу же зарделась морошка, вылупливаясь из бархатной темно-зеленой кожи; дух моря и болота был здесь особенно терпок и сладок, и уж в который раз у Любима закружилась голова. Он с тоскою поглядел на мирный монастырь, желая войти в него не паломником иль гостем, не осадником с бердышом, но желанным Христовым сыном, чтоб всякий насельщик побратался с ним, и, усевшись за семейный монаший стол, стать для всех братом. Любим снова взглянул на солнце, считывая с него вещие знаки, и все в его глазах помрачилось, оделось теменью.
И вдруг над обителью хлопнуло с треском, будто порвали навдоль огромную холстину, иль ударили в пастуший бич, иль бабы-мовницы, полоща белье, хлестнули простынею по воде, и эхо гулко разнеслось по всему острову; над городовой стеною вспыхнуло кудрявое белесое облачко с оранжевым глазом изнутри и лениво потянулось по ветру. Нет, остров не колыбнулся под ногами, но вроде бы что-то с болью отдалось в нем, ибо все живое на пять верст в округе сразу скрылось, затаилось, погрузилось в глуби, и даже сам свет небесный слинял и потух.
В той стороне снова заговорили пушки: монахам хотелось воевать. Любим сплюнул с горечью в сторону Соловецкого города и отправился в лагерь.
Оттуда на отводные караулы ротмистра Гаврилы Буша к Белой башне, гулко топоча по каменьям, спешили стрельцы во всем военном тяжелом сряде. Впереди бежал холмогорский сотник Ефим Бражников под знаменем. Любим уступил дорогу, но не подхватился вслед, а отчего-то подождал последнего служивого и пошел неторопким шагом. Он смерти не боялся, но помнил отцов наказ: де, от Невеи не бегай, лихоманка ее задери, но к ней не поспешай, сама, собака, тебя сыщет в свой час.
Все боевые затеи творились без стремянного, и он, царский отосланный, живущий для особых посылок, был в таборе как бы лишним: ни подначальных не было под ним, ни властей сверху.
Любим подивился виду сотника: обычно рыхлое, мучнистой белизны лицо Бражникова с рыжими хвостиками бровей было сейчас багрово от возбуждения и бега, словно бы вся телесная кровь кинулась в щеки. Глаза же, несмотря на весь воинственный пыл в них, оставались пустыми, водянистыми, готовыми вытечь вон. Сотник кинул на стремянного безразличный взгляд и выплюнул сквозь зубы вместе с харкоткой что-то похабное, солдатское, «в бога и в мать», что обычно кричат слободские парни, выходя на кулачки, чтобы распалить в груди азарта. До шанцев было еще далеко, и навряд ли воры могли слышать проклятья сотника, но эти-то слова только и нужны были сейчас для розжига. Любим проводил сотника взглядом и вдруг подумал, что видит его в последний раз.
… Когда он прибрел на отводные караулы, кашу уже расхлебали, команда подсчитывала синяки и шишки; раненые стонали за тарасой на расстеленном парусном буйне. Ефим Бражников, алея стрелецким кафтаном, неряшливо лежал под Белой башней у самых ворот; почти напрочь срубленная голова его, едва державшаяся на лафтаке плоти, была неестественно повернута в сторону шанцев. Чайка-моевка уже вилась над трупом, пыталась усесться на полусогнутые колени покойного. На стене толпились мятежники, потрясали пищалями и винтованными карабинами и, при всяком случае стреляя, не давали команде приблизиться к погибшему сотнику и прибрать его тело.
«Мы воеводе вашему, скотинью сыну, дрын в эфедрон, – вопили со стены и в бойницы башни. – Доскочит ишо на четырех лапах во ад, не будет больше хрюкать на Спасителя нашего, сатаненок. Кипеть кабаньему рылу в жупеле огня, зачтутся тамотки сиротские слезы. И жена-то его первейшая б… на Москве, и детишки его уроды, от чертей суразенки, вычинены из ослиного мосла и свиной щети. Таких уродов свет Божий еще не видал. И ноги-то у них кочережками с копытцами, а во лбу по две шишки…»
Плели воры несуразицу и, не стыдясь, спускали штаны, мочились сверху на сотника, поливали его соленым дождиком, чтобы лучше, прочнее сковала его соловецкая глина. А он, храбрец пустоголовый, кому чужая голова – репка, а своя – Божья луковка, сейчас безмятежно, расхристанно полеживал на рассыпчатом камени, как кабацкий ярыжка, вконец пьяный, и в головах-то у него оказался сизый валун-одинец, а по белому остылому лицу уже ползли мураши, точа норки…
Из бессвязных стрелецких рассказов, еще нервных и путаных, понял стремянный, что мятежники средь дня вышли за Белую башню подлазом, навалились на караул гуртом, да втихомолку, работая ножами и бердышами, порешили на отводном городке пятидесятника Першку Преткова да стрельца Гайдуцкого приказу, родом литвина, Фильку Трофимова, а десять человек ранили, иных смертельно. И когда в подмогу, не разобравшись толком, кинулся шальной сотник Бражников на мятежников, то воры, не промедля, пустились наутек за стены, а холмогорец в горячке стал преследовать их с саблею и тут под воротами Белой башни и был срублен до смерти…
Вскоре прибыл воевода на красном коне. Воры на стене поначалу оторопели, стихли, словно бы ранее потратились словами; потом, опомнясь, засуетились в башне возле пушек, принялись банить большие застенные пищали, подымать воротком из кладовой ядра в корзинах и складывать в грядки.
«Чего ращеперился, зверь окаянный, иль добрых людей не видал? – закричал с облома высокий мужик в кудлатой черно-синей бороде ожерельем и вскинул солистр, оперши его на левую культяпку, туго обтянутую кожей. – Вот ужо днями и тебе гнить туточки», – вор ткнул пальцем вниз, где у подножья лежал сотник, и снова стал выцеливать воеводу. Мещеринов же труса не праздновал, хотя ротмистр Буш и пытался стянуть его за полу кафтана за накат, в глубокую яму, где сидела стрелецкая вахта. Коренастый, супистый, большерукий, воевода вроде бы врос в насыпь, воткнув кулаки в боки; его мглистые лупастые глаза были темнее малороссийской ночи.
«Чего уставился, окаянный, на чужое добро? Не нам ты хозяин! У тебя своего то и есть, что в штанах болтается. Да и то, поди, заржавело», – зареготал на стене мятежник, сбил на затылок курпейчатую шапку с суконным верхом.
«Так его, Морж! Припечатай сатаненка промеж глаз, чтобы место свое знал!» – надсмехались на городе чернцы, задоря вожака.
Но Морж стрелять не стал из пистоли, заткнул ее за опояску.
«Живи пока, сучонок! Нынче гостей жди!»
И валкой походкой прошел с облома в Белую башню.
«Отдайте сотника! – закричал воевода, пропустив угрозы меж ушей. – На вас что, и креста уж нет? Иль вовсе ляхам продалися?!»
«Еретника не погребают. Иль запамятовал? Христопродавцам по Стоглаву место в скотиньей яме, где псы жируют».
«И-эх, собаки, чертей заступники! Где настоятель-то? Мы послов зашлем!»
«Твоими заботами горло пересохло… Шли гостей, хоть кровушки попьем», – беззаботно грозились со стены.
Мещеринов еще помялся на раскате, но видя, что пустословьем гилевщиков не пронять, спустился в копанку за насыпь и, подсунув полу кафтана, уселся на завалинку из хряща. Тут-то и пался ему на глаза стремянный; тот бездельно маялся, обвалившись спиною на каменную сыпь; заложив руки за голову, служивый бездумно смотрел в небо, где проплывали, кучась, белояровые облачки, уже густо позлащенные снизу. Там случились скорые перемены: мир тускнел, становился бусым; дальние елинники уже густо посинели; за моховым болотцем, где проблескивал край Святого озера, ложилась вечерняя паморока. Все кругом будто присыпало серебристой пылью со свинцовым отблеском, и хотя ярило скоро западет на какой-то прощальный миг, запечатлев на окоеме огненную царскую коруну, но тут же и сползет с постелей, бессонное, потащится обратно на небесную кручу будить богомольников и раноставов. Как ласково в эти минуты, как мирно, благорастворение; даже стоны раненых за раскатом не задевают слуха, а запах крови и пороха не бередит груди.
Такой беззаботной легкости на сердце не испытывал Любим, пожалуй, с самого детства, когда хаживал с отцом в помытчиках на соколиные ловища; в самое негодящее время вдруг растворилась душа для студеной струи, истекающей из Божьей криницы. Подумалось отвлеченно: все ерестился, гордец, все выхаживался пред старшими, чтобы выказать себя в первостатейном виде, все в лучших хотел быть, надеясь на кулаки и стати; а оказалось, что как ни карабкайся по Спальной лестнице по чужим спинам поближе к державному, чтобы зреть его темные, сголуба, очи, да увидишь лишь зеленый в травах юфтевый сапожонко с серебряным гвоздьем да позлащенное стремя. И коли нажито что в короткой жизни по Божьему изволу, так все прах и тлен, некому после себя оставить, ежли не отымут за провинности назад в казну; загряз, малец, на юру, как креневое сухостойное дерево.
Любим с туманной надеждою устало смежил веки, ожидая странного любовного зова, его медвежеватые глазки густо опушились темными ресничками, и сквозь колышащую тревожную завесу он всмотрелся в бронзовеющий купол над головою с алыми пролысинами наступающей зари; и почудилось ему небо громадным праздничным столом, уставленным брашном и питиями, где среди позлащенных сосудцев, и кубков, и серебряных росольников, и тарелей мостятся бородатые и кучерявые мужи и вовсе вьюноши с ангельским взором. И пристань тут же позади трапезы, состроенная из бело-розового мрамора, и у прибегища, полоща полуспущенными парусами, толпятся лодьи, и шняки, и кочмары, и барки, и всякая мелкая речная посуда… Вдруг над гостевым столом распахнулось косящатое оконце, и просунулась огненно-рыжая борода и стрельчатые усы… Но дальше Любим ничего не разглядел: сквозь наваждение просочился грубый голос воеводы:
– Эй ты… Разлегся. Как у бабы на перине… Да, ты, стремянный! Слышь, Ванюков? Не баринуй, когда другие сопли на кулак мотают. Не услышишь, как и голову под топор…
Но Любим лишь лениво, сквозь дрему, скосил взгляд на Мещеринова. Тот мостился на завалинке, набычившись, не зная, на ком умирить гнев; меж колен сабелька турского дела, правая рука на крыже, изукрашенном чернью. На боку кинжал шкоцкого дела со вчиненным пистолетным стволиком, у стены окопа прислонен бердыш с хитро вставленным в ратовище дульцем солистра. Любил воевода ухищрения и ухорошки, и красовитое доброе оружье, коим лишь и стоит похвалиться служивому…
… Да кто ему воевода? Пристал, как репей в собачий хвост… Как телеге пятое колесо, как смычок барабану, что козлу коний хвост. Чего хочу, то и ворочу! И даже слезная жалоба Мещеринова в Тайный приказ навряд ли смутит тамошнего дьяка и наведет на стремянного грозу. Кто ближе всех к царю? кто пред очима постоянно стоит, как только сбирается государь на войну, иль в ближний поход, иль на службы по монастырям, иль на птичью охоту и зверные ловища? Да это он, Любим Ванюков, по прозвищу Медвежья Смерть, ведет запасного царского коня; это он угождает державному в тягостях и ловит его желанья, и своею грудью караулит изменщицкую пулю и стрелу. А Мещеринову и удастся-то предстать пред государя, ежли шибко похлопочут именитые родичи…
Взгляд у воеводы стух, глаза затосковали, стали собачьими.
Подкузьмили Кузьму, подъеремили Ерему; не будь к каждой бочке затычкой; глядишь, и Господь повернется к тебе лицом, – зажалел Любим воеводу. Ведь и тому несладко жилось, не одни меда и сдобные перепечи; и над ним, борзым кобелем, свой псарь с арапником.
Любим сдался, придвинулся к воеводе.
– Толкуют с Москвы: де, улести их, воров, медами; де, сахарной головой примани. Да их не поколеблешь посулами, раз на смерть встали. Этих злодеев огнем-дыбою разве и проймешь, – зажалобился Мещеринов тусклым голосом. Говорил он почти шепотом, оглядываясь по сторонам, словно бы кругом чужие невидимые уши понасажены. Любим же молчал, лишь сверлил пустым взором туманную даль, где просеивались первые искорки звезд. За спиною в двадцати саженях лежал Ефим Бражников, а душа его уже воспарила над Большим Соловецким островом и, успокоенная, нетревожная, теперь не жаждала чужой крови и мятежной головы.