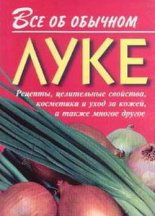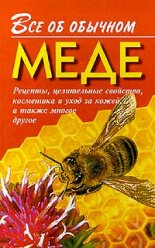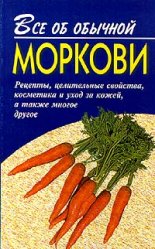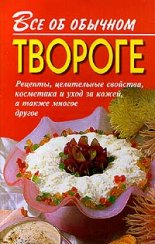Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение Личутин Владимир
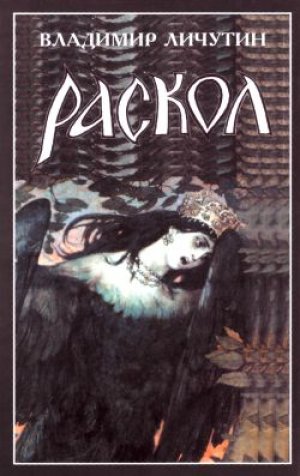
Всему на земле свой срок быванья
Вот и Кирилл Белозерский, любимый отеченька и заступленник, почил в бозе. И ученик его Савватий, постник и плакальщик по Христе, удалился из учительской осиротелой келеицы искать на Руси безмолвного жития. Не чудно ли, братцы мои?! У Белого озера посреди глухого суземка, где леший да девка-маруха монаху за обыкновение, шумно и людно показалось чернцу. Заткнул постриженник ветхую струистую бороду за широкий лосиный пояс, поверх домотканого понитка покрылся холщовым лузаном – странническим мешком, собрал туда подорожного харчишку, шесть пар лаптишек, Псалтирю и «Маргарит» с житием почтенного Златоустого, посунул на гуменцо головы сермяжную еломку, взял в руки можжевеловую ключку подпиральную и, низко поклонившись монастырской братии, побрел таинственной тропою от скита к скиту в поисках того крайнего прибегища, где доведется пристать до скончания веку…
Видел: в суете прозябает народец, все суетится, спешит куда-то на рысях, о гобине много печется, стаскивая нажитое в сундуки и чуланы, будто век достанет куковать на земле-матери; оттого и голка, свара вокруг, и то немирие, что изтиха изъедает мятежное беспокойное сердце, сгущаясь невдолге в темную непогодную тучу, и вздымается к Божьему престолу, как сатанинское зловонное дыхание… Еще по Сергию слезы не просохли, а уж и Кирилла не стало; упокоились адаманты веры, светлоблистающие камни-ясписы в основании православного дома, неиссекновенные стулци под Христовой церковью. И невольно тут воскликнешь: ах и ох! Долгая мрачная гнетея улеглась на русском сердце.
Как почтарские дороги государевы строятся от яма к яму, от одной кушной зимовейки до другой, так и скитские путики торятся и развешиваются монашьими вздохами; и покуда слышен сердцем чернецкий молитвенный глас, ступай себе, старичище, не робея; но как начнет испотухать, там обязательно в распадке близ гремучего студенца, иль на крутом юру в сосновой роще, иль на медовой таежной чищенке, иль у речной излуки встретит тебя келеица с поклонным крестом осторонь. И в том пути пался Савватию на глаза монах Герман, зимогор из кушной хижи, бирюк и молчун с прозрачными льдистыми глазами, с сажной чернью в обочьях; но зоревые тугие щеки из-под суконной шляпы торчат и пестрая борода ухватом. Вот тебе, Савватий, споспешник, подпорка ненадоедная под одесное плечо; что одному в тягость поднять, вдвоем куда сподручнее; да и легше станет борониться от лихого супостата, что наступает на пятки и дышит в затылок всякому монаху в его подвиге.
А не вещий ли это знак?! Де, слабосилый и хворый ты, Савватий, но хоть духом святым напитай ту вотчину, в коей бытовать Герману в его долгих неотзывчивых строительных трудах. Будто по руслицу невидимой подземной протоки, минуя многие мирские прелести и держась за вещую куделю, отошел ты, Савватий, однажды от Белого озера, а прибежал к Белому морю.
Монахов подобрали в карбас кемские промышленники, улестили страдников Соловками: де, найдете там воистину угрюмое безмолвное житье средь студеных вод, и только дикая гагара, седой ворон да ветер-морянин станут вам за совсельника.
По пути к Соловкам пристал карбас на Кузовах к Немецкому острову щербы похлебать. Пока готовили рыбаки еству, взлез Савватий на замшелый камень и вдруг над лосной покатью моря, будто присыпанного толченым жемчугом, разглядел вдали млечно-белый город с золотыми шеломами. Не так ли прекрасен Спасителев град Иерусалим, куда стремится по смерти всякая безгрешная душа? Савватий окстился в изумлении, попытался прогнать наваждение; обавники-искусители, слуги диаволовы еще и не то насулят тебе, ежли подпадешь под их чары.
… Эй, не дивись, старче! То град Китеж, полоненный водами Светлояра, разъял земные толщи и воспарил из студеной пучины за тыщи поприщ от заволжских старорусских скрытен. Пока ангельские крыла не вознесли его к небесным Чертогам, обведи дивный лик перстом, чтобы сохранить то явленное послание Господа на серебристом крутосклоне, как на пергаментном нетленном свитке…
Тут дегтярной темени стена скоро наползла ниоткуда, из полуночной страны, и схитила тонкий волокнистый облак и стоящий на нем пречудный град. Грянул Савватий ниц на тундряной камень, облитый морошкой и брусничником, и радостно восплакал.
С этой сердечной радостью Савватий на другой день пристал к берегу в губе Сосновой и, отступя малость от моря, возле глухого озера, опушенного чащинником, келью поставил и часовенку срубил. Но жизнь в отоке морском не заладилась; года пали неродящие, то замоки, то зябели, то штормину Всемилостивый нашлет в испытание, то снега ранние с морозами; репой кормились да грибами, сосновую кору да олений мох сушили, в деревянной ступе терли, да из той лешевой мучицы пекли колобы, помалу примешивая ячменных высевок. Шесть лет маялись беззавистники, набедовались сполна; однажды после Ильина дня, когда брат Герман съехал в Онежскую слободку промыслить харча, монах Савватий закручинился зело, занедужил. Почуяв близкий конец, сплыл Божий страдник на Корельский берег и там преставился на рыбацкой тоне. А случилось это в лето Господне тысяча четыреста тридцать пятое…
Ничто не делается без Божьего попущения.
Облик града, вставшего из вод морских и запечатленного на небесных свитках, дождался своих послушников. Уже в другое лето осиротевший Герман встретил на Суме-реке монаха Зосиму и увлек за собою обратно на Соловки в благое место. И принялись они, уповая на милость Творца, труждаться, как пчелы в борти, вылепляя топором, да долотом, да мотыгою сокровенные соты будущей обители. Уверился Зосима, что здесь-то средь камня и поклончивого леса и покоится та скрыня с елеем, нардом и миром, коих достанет для всей святой Руси. Через сто лет приплыл на игуменство бывший московский боярин и будущий митрополит и святомученик Филипп Колычев, павший от руки опричника Малюты Скуратова…
За два века радениями трудников и монастырской братии, старцев и служек, и наймитов, недорослей и приписных крестьян деревянный скит, вроде бы навсегда затерявшийся в студеной морской голомени, не только оделся в каменные вдохновенные ризы и оградился валунной крепостной стеною от всякой нечистой силы, но стал обетованным святым местом для всякого благоговейного богомольника и заслужил повсюдную молву великого Господина, защитника и заступленника сирых, радетеля и благодетеля. Даже самый-то душегубец, безжалостно окорнанный палачом, лишь захоти своею волею очистить грешную душу свою, будет оприючен в Соловецкой обители до гробовой доски. Помнят, помнят еще монахи: и последние станут первыми, ибо никому не закрыты врата в Царствие Небесное.
Исполнились мечтания преподобных старцев. Лики их засветились на иконных досках, а слава монастыря проникла во все укромины Руси. Уже к царствию Алексея Михайловича обитель прикопила дареньями великих государей и вкладами ревностных молитвенников да закладными многие поморские волостки и селища, и слободки, погосты, деревни, выселки: Пияль и Нюхчу, Анзеры и Золотицкий берег, Кушерецкое, Варзугу, Вирму, Шижню, Сороку и Колежму, Сухой наволок, Лямцы и Кильбоостров, богатые угодья по Двине и Выгу, и Керети, и Золотице, и Кеми. Монастырь не только оброчил поморцев, изо всякого промыслу – зверного и пушного, и рыбного, и кузнечного, и сермяжного, и скорняжного – забирая в Божий дом десятину, но и отошли во владения монахам солеварницы и салотопни, канатные и сетные избы, семужьи и сельдяные тони по морскому берегу, и ловища мелкой рыбы по лешим местам в речках и озерах, и сенокосы, и страдомые пашенные земли, и лешие звериные ухожья.
Вверх по Двине тянули бурлаки насады с рогозницами соли (до ста тысяч пудов соли вываривал монастырь в цренах из беломорской воды), а с Вологды и Устюга рекою и морем, с перевалкою в Архангельском городе с барок и полубарок на лодьи и кочмары, везли приказчики на общежительский монаший стол рожь, и ячмень, и овес, и пшеницу, крупы всех видов, масло конопляное и коровье, горох, мед, черную икру, мясо свиное, вина (романею и ренское), сукна старческие, свиточные, манатейные, сукна сермяжные, овчины, кожи задубные, юфть белую и красную, полотна разных сортов, ложки и блюда иверские, да мыла костромские и борисоглебские, парусное полотно, пеньку, вяземскую пряжу, холсты рубашечные, сукна кирилловские и заозерские, рогозины, посконь, лыко, смолу, деготь, воск, ладан, медную и оловянную посуду… Зерно закупали по обыкновению в урожайные годы, когда дешев был торг, и того хлебного запасу хватало при нужде лет на десять и более: во время хлебной дорогови монастырские приказчики терпеливо дожидались милостивой цены.
Но ведь и сидел-то монастырь на островах не как старый скряга-процентщик на сундуках с золотом, но кормил и одевал не только братию и трудников, и наймитов (тысячи с полторы едоков), но и всякого богомольника, что притек на лодье за духом святым, и всякого вконец обнищавшего казачка, бобыля и детеныша на морском берегу, кого догнала крайняя бесхлебица; да и погорелец иль болезный мужичонко, попросив милостыньку, получал от игумена не только доброе благословение, но и ту полтину, что помогала семье вытянуться из нужды… Вот и царская казна забирала оброком шестьсот рублей ежегодно; и войны, что донимали Русь с угрюмым постоянством, не раз приопустошали монастырские запасы. Только Алексею Михайловичу на войну с Польшею соловецкий игумен отвез сорок пять тысяч рублей серебром.
Но и такие траты не разорили обитель: ризница постоянно пополнялась дорогой церковной срядью, а казна – ефимками и угорскими корабельниками, и русскими рублями, и прутяным золотом, и серебряной посудою, аксамитами и бархатом, и кованым узорочьем, и меховой рухлядью. Если торговля солью давала обители одну пятую всех доходов, то и оброчные деньги, земная дань с монастырских угодий – мельниц, варочных цренов, рыбных и звериных ловищ, слюдяных ломок – изрядно пополняли казну. А куда деть многие щедроты в дом Спаса Преображения от царского Двора и боярских вотчин? А вклады на случай житейских превратностей и деньги на помин родителей и своей грешной души? А дачи от черного люда, от деревенского бобыля, ютящегося в своей похиленной хиже, до казачка, бродящего по найму меж дворов, что последний грошик с чистым сердцем посылали на остров с попутьем? А молебные и кружечные деньги богомольцев, увозивших с монастыря во все уголки Руси «промененные» образа, «чудотворцевы жития», и свечи, и освященную воду бочонками?..
Щедрою рукою вроде бы раскидывала обитель милостивую гобину, но и неслышимо, с чувством скупца-крохобора собирала пчелиную взятку со всякого скромного цветка на необозримом лугу, ибо крепость молитвенного Дома стоит не только слезными стенаниями за всех страждущих, но и той деньгою, грошом и алтыном, что, не гния, укладывается в могущественные скопы по каменным чуланам, погребам, сундукам и скрыням. Ведь не только слабая душа требует постоянной укрепы словом и подмогою, но и самый возвышенный цветущий храм, чтобы не обрушиться до времени, любит хозяйский глаз и сметку. С богатством же, братцы, приходит однажды и свобода, и смелость в чувствах, и решительность в делах, и милость к падшим, и щедрость к нищим; в стенах такого дома (пусть и не всегда) заселяется та полнокровная жизнь, с которою ой как трудно распрощаться его хозяину…
И когда русский окоем охмарило внезапной непогодою, когда новины на православную землю полились не ложкою или чаркою, но ведром и четвертью, когда все моления к государю соловецких старцев остались тщетны, когда царские поползновения протянулись не только на сундуки с монетою, но и на сам монастырский устав, когда еретики-чужеземцы и клирики-латиняне, одевшись в православное платье, окружили престол, а свет-царь не захотел увидеть всей беды, приступившей к родному порогу, – тогда-то соловецкие монахи и решились на отчаянный шаг: они закрылись в монастыре. Но все еще оставалась надежда, что одумается батюшко под присмотром чудотворцев Зосимы и Савватия, протрет опойные вежды, стряхнет с себя дурь и враждебные невидимые путы; но… пошли отовсюду вести: де, круто государь взялся за искренних богомольщиков, жжет их в струбах, повсюдно сует в петлю, режет носы, и уши, и языки, ломает страдальцам кости, пятнает чело, яко скотине, и вкидывает в темницы; и тюрем тех стало недоставать на Руси. Хотя и много кровищи пролил Грозный царь, но и тот до черносошного народу так круто не домогался, блюл кормильца, не отбирал воли, не приступал к праотеческой вере и чтил стародавний обычай. Ибо верностью преданиям крепится всякая держава. Но печальные слова митрополита Филиппа, воскликнутые прилюдно век тому в защиту боярам, вдруг вытаились из нетей, обрели ныне вещий суровый смысл и стали понятны самому убогому человечишке, ибо тучи ныне сгустились и над ним: «У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды; везде славится милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым. Сколько невинных людей страдает. Мы здесь приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Грабежи и убийства совершаются именем царя…»
Но не гадал митрополит, что наступят грешные времена, когда и Грозный покажется за праведника. Исказя веру, последней свободы лишил Алексей Михайлович свой народ; заповеданное и нетленное православное слово, данное самим Господом Богом, может, оказывается, править и иначить земной человек, хотя бы и был он в чести и славе. Посеянным сомнением в своей праведности Алексей Михайлович подточил свой престол, и только жесточью можно было удержать его. Этот царь по жизни своей стал куда безжалостнее и круче Ивана Грозного, хотя при Дворе был обвеличан Тишайшим.
Но знайте: где свары и суторщины лишь вкинуто семя, где искра пожара чуть тлеет в разворошенном уме, тут обязательно сыщутся люди в подмогу, что подбросят, даже из любопытства, и бересты, и сушинку приволокут, и пороху подсыплют, чтобы разживить огонь… Вот и в Соловецкую обитель, словно бы чуя великую брань, кровь и смуту, пришли в разиновщину многие капитаны чернцы и бельцы из понизовых городов, исторгнутые из церкви, да собралось много беглых московских стрельцов, и донских казаков, и боярских беглых холопей, кому уже нечего терять в сей жизни, да приплыли богомольниками разных государств иноземники – свинские немцы, и поляки, и татарове, и турки – и тоже остались за стенами. А сбежались всего человек с четыреста. Вот и пушечный городовой наряд пригодился, и амбары с зельем, и хлопковая бумага, и льняное масло, ибо много лихих умельцев сыскалось среди пришлых…
… Ефимко Скобелев, бывший келарь скита на Суне-реке, угодил в разиновщину в плен под Астраханью и, лишившись уха и шуйцы по локоть, попал на вечную ссылку в Кольский острожек, в землю полуночную, откуда до ада всего с три версты. А ему ли, слуге Иудину, вертепа пугаться? ведь не в чан со смолою ввергнут, но дадут кокот кованый, чтоб уголья ворошить… От старца Александра напитавшийся блудословия, набивший руку уставным письмом в капитанских заволжских скрытнях, где самому Капитану вошел в сердце, он и в Коле обавил воеводу Василья Эверлакова самой малостью: за полгода списал «Гранограф» с книги Кандалакшского монастыря, хотя встала бы рукопись стольнику в девять рублей, закажи ее монаху в переписку. Ишь вот, злодей лукавый: образом своим видок, речами сладок, статью дороден и в письме ловок. И за ту услугу была дарована сосыланному Ефимке полная свобода в Кольском острожке и келеица окнами на морскую губу; и, пользуясь милостью воеводы, стал он сбивать вокруг себя городовых стрельцов и, похмелив кабацким вином, ловко втолковывать сердешным: де, ныне живет на земле антихристово учение, и дело его, собаки-антихриста, людей мирских всяко мучить да мазать любодейным перышком печать ту диаволову на лбу православном. И кто воображает на себе тремя персты крестное знамение, тот сатане первый потворщик и антихристу прислужник; и что три первых перста – эта поганая щепоть – означают зверь, змий и лжепророк. Повязались в одну тройку борзые кобеля и ну обесивать народ, толкать в геенну. И еще втолковывал Ефимко: де, надобно от церкви никонианской бежать прочь; лучше с грехом смеситься и Иуде лобызать плюсны, чем причащатися из скверных любодейских рук; ведь и попы-то ныне суть не попы, ходят в ляцких рясах и в римских колпашных камилавках, а иные, как простые людины, простоволосы бродят по Москве и шапку с заломы и соболем носят…
Ну как стрельцам не поверить Ефимке? у того голос зычный, с раскатом, рожа багровая, набитая ветром, глаза навыкате, дерзкие, левая рука кожей обтянута, и этой культей каждое слово будто приколачивает косорукий к столешне. И хоть молвят в Поморье: де, кто в Коле с три года проживет, того и в Москве не обманут, но двое стрельцов скоро купились на Ефимкины речи: де, ежели где и стоит пока вера истинная на Руси, так в Соловецком монастыре, и хоть закрылись там православные накрепко, но подмоги ждут и в той надеи их никак обмануть нельзя.
На одного служивого бродяга-обавник особенный глаз положил. Выл Ивашка Шадра, московский стрелец, еще не обсемьенен, с чистым девичьим лицом, слегка побитым оспою, с льняным косым чубом на хмельные зеленые глаза. Э-э-э! такой человек спит не спит, но всегда бодр и весел, словно молодильной водой окачен из бадьи; и губы брусничной спелости полуоткрыты выжидательно, выказывая сверкающую зернь зубов. Он носил червчатую мурмолку набекрень, опушенную рысью, не снимая шапки и в избе, и серебристый остистый мех, затеняя взгляд, придавал Шадре какой-то бесстрашный задиристый вид. Ивашка был столь молод и беспамятен, что светлая шерсть едва обметала скулья. Иногда он смеялся, запрокидывая голову, так что синели жгуты жил на шее, и скоро опомнивался, до крови прикусывая нижнюю губу. Ефимко обычно усаживал его возле себя и, будто забывшись, прихватывал за плечи здоровой рукою, как девку на посидках, и прислонял к себе…
Другой, Самушко Васильев, был молчалив, плешеват, остронос, видом болезненно бледен, в правом ухе качалось серебряное дутое кольцо, когда стрелец встряхивал головою.
«Я-то в разиновщину лихо погулял. Я всего повидал. В крови-то по шею купывался. Я-то пожил не с ваше, молодцы, – ставил мережки Ефимко, перекидывая разговор на иное. – А вы, робятки, молодяжки еще, и мохом-то не опушились. Вас-то, сердешных, за что в тюрьму без стен утолкали? С одной стороны море, с другой – горе, с третьей – мох, а с четвертой – ох. Лучше помереть, кабы в один час, чем эдак-то тлеть…»
Еще долго бы вечерами тянулась словесная канитель, кабы жизнь не подтолкнула. Московские уши по всей Руси понасажены. По извету дьякона Ивана Григорьева стрельцы Ивашко Шадра и Самушко Васильев были расспрашиваны пред воеводою, трижды пытаны на дыбе, да каждому вложили в науку по пятнадцать плетей. Но стрельцы стояли на своем, вины не признавали, но и покорения не приносили, милости не просили и от раскола не отставали, уверяя, что антихрист воцарился на всей земле, и кто осенится поганой щепотью, да будет проклят.
Суеверы были посажены в съезжей избе в железах за решетку, а дело их отослано в Москву. В апреле семьдесят третьего года в Кольский острожек прибыл из столицы воевода Зот Полозов с государевой грамотой: по указу царя велено было еретиков Ивашку Шадра и Самушку Васильева, сказав их вину, сжечь на площади в костре. Но стрельцы еще за полгода до приезду воеводы Полозова выломились из тюрьмы и осенней ненастной ночью утекли неведомо куда.
А путь их лежал в Соловецкую обитель. Кормщиком увязался Кольского уезда бобыль Матюшка Леонтьев по прозвищу Кеда. И как отошли на карбасе в море, Ефимко Скобелев открылся вдруг спопутчикам: де, никакой он не Скобелев, а есть служивый астраханский человек Фадейко Кожевников; де, пристало время всякому православному открыться в истине, и будет он жить отныне под родителевым именем.
… Ветер пался на тот случай отдорный, бережной, бойкий, и в двое дён под парусами добежали беглецы до потаенных островов.
Часть первая
Глава первая
Царица Марья Ильинична запомирала.
Знать, послабли обручи, рассохлась утробушка, занедужила от многих родин; ведь каждое дитятко, напитываясь под грудью материнским соком, один за другим потиху испили из нее жизненные силы. Вроде бы только давече выкрикнул рында от переграды Красного Крыльца сердечную радость: де, восьмой дочерью Евдокией пожаловала матушка великого государя, и тем же днем выкатили на Ивановскую бочки с пивом и медом да раскинули по цареву тесовому помосту, что тянулся через волглые снега от Дворца к Успенскому собору, обильный кривой стол со всякой снедью, чтоб всякий простолюдин мог попотчеваться и принять чару на грудь; еще вроде бы и колокола не утихли на Иване Великом, и звоны, вплетаясь в воздушный аер, покойно потекли в дальние укромины Руси с благой вестью, – а уж ныне зеркала завешаны черными портищами, и свечи возжены пред младенцем; едва продрав глазенки, отплыла безгрешная в райские кущи…
К матери с худой вестью не прихаживали, чтоб не всколебать ее горем, но огневица, восьмая иродова дочь, змеей-медянкою втянулась в прорешку Теремного окна, вроде бы плотно затянутого в частую медную ячею, и улеглась в Марьюшкиной родильнице, смертно прокусив боевую жилу. Дворцовый лекарь Данилко Жид потчевал немецким аптекарским зельем, полагал льду на живот, поил и корнем барбариса, и настоем кровохлебки и зверобоя, но не смог унять точащуюся кровицу. Лекаря Давыдку Берлова из Немецкой слободы срочно скликали на Верх: тот давал царице вернейшего снадобья от кровотечи – вкладывал в хладеющую влажную ладонь государыни египетскую яшму, серо-зеленый в красных брызгах камень, потуже сдавливая в безвольной царицыной горсти. Но и самохвал Давыдко не помог. Тогда поскочили верховые боярыни к дворцовым нищенкам, что жили в нижней клети под Красным Крыльцом, притащили их в спальный чулан к Марье Ильинишне. Богомольницы поили хворую освященной крещенской водою с серебра, да трижды окатывали накрест из чудотворного жбанчика, да смачивали грудь против сердца заговорной ключевой водою, нашептав на нее и вкинув в мису горячих угольев, печины и щепоть соли. Но… пришла беда – отворяй ворота; воистину от смерти не убежишь; и коли Господь попустил, своею кровью умоешься. Обложили царицу хлопковой бумагою и послали юного стольника звать государя.
Алексей Михайлович прошел в царицын Терем тайным переходом через домовую церковь; этим путем почасту бывал государь, чтоб любить супружницу; он вступил в опочивальню с какой-то дрожкой опаскою, так вкрадчиво, что не скрипнули жиковины неприметной дверцы, обтянутой обойной кожей. Встал у задней грядки кровати, ухватившись за резную соху полога, и сквозь пенное облако цветастой кисеи вгляделся в призрачное лицо жены, глубоко утонувшее в наволоке. Когда-то смуглое, кровь с молоком, скуластое лицо жены вдруг скоро вытончело, заострилось, и смертная белизна щек сравнялась со сголовьицем. Прежде изумрудистые, такие любимые глаза жены стали какого-то крапивного, перестойного цвета, и в них застыла смутная талая полуулыбка. Царица вроде не видела мужа, она не снимала взгляда с подволоки, где художной рукою были выписаны страстные муки Христа; вялые, горестно полуопущенные губы пришептывали беззвучно Исусову молитву. Сердце государя вздрогнуло и облилось кровью. Он любил супругу, даже когда изменял ей мимолетно с верховыми боярынями (ведь матушка так часто ходила на сносях), и сейчас Алексей Михайлович устрашился тому, что Марьюшка навсегда покидает его.
Царь сделал знак рукою, и верховая боярыня Анна Петровна Хитрова, низко поклонившись, с постно поджатыми губами удалилась из чулана. В золоченой клетке свистнула канарейка, сердито заворчал папагал; Марьюшка очнулась, выплыла из забытья, ласково вгляделась сквозь кисею в родное лицо. В голове как-то странно прояснилось то ли из песни, иль из старинного домашнего причета: «Прощай, милый, не горюнься, уезжаю навсегда; уезжаю-отплываю, не забудешь никогда…»
Еще подумалось неторопливо: снова солоненького поел, родимый, огурцов да грибков тяпаных гретых откушал, а после и опился квасов. Нисколько, сердешный, не бережет себя. И кто за ним досмотрит без меня?..
– Ишь ли, батюшко, помираю я, – выдавила слабым мерклым голосом, словно бы из груди вовсе выкачали воздух. В черевах пекло негасимо, этот жар проливался в подвздошье, и вся телесная мочь медленно вышаивала, как уголье в печи.
От жалости у государя слеза навернулась. Он, не чинясь, не доставая из зепи шелковой фусточки, надушенной французскими вотками, смахнул влагу тыльной стороной ладони, хлюпнул носом. Но тут же пересилил слабость. В горле так пережало, что и голос захряснул.
– Подымешься, государыня. Вот те крест. – Перекрестился, добавил скрипуче: – Вспомни… И не так прижимало. Бог-от пасет. Неровен час и всякого загрызает немочь, да после и отпустит. Оклемается человек и снова как яблочко наливное.
Царица лежала, глубоко, бесплотно утонувши в постели, будто покоенка в белой домовине, покрытая смертными пеленами; из подушки выпячивался наружу заострившийся птичий нос. Две приступки, опушенные брусничным бархатом, вели к ложу; давно ли на руках нашивал жену в кровать и там горячо тешил ее, податливую и охочую до ласки.
– Нет, не подымуся, – помедлив, с тихой улыбкой возразила царица. Эта улыбка снова испугала государя.
– Не бери в ум, – горячо зашептал Алексей Михайлович. – Очнися от туги, душа моя. Все будет хорошо, слышь? Чего хоронишь себя допрежь времен? Почасту смерть за нами присылывает, другорядь и отступного вроде не даст. Да не всякого к себе забирывает. И она не вольна… Судьбы-то не перескочишь… Тебе, Марья Ильинична, помирать не время. У тебя детки по лавкам мал-малы, – бормотал государь, не решаясь выступить из-за кисейной завесы, будто хоронился за нею.
Вечер наплывал на Москву, и стрельчатые оконницы, взявшиеся морозным инеем, уже темно посинели. Свет паникадила загустел, пряно запахло воском и кровцою. Они вдруг замолчали, каждый думая будто и о своем, но мысли их сплетались. Нет, не смерти страшилась царица, но разлуки с благоверным… Тепа, ой тепа… Всяк тобою закусит да и выплюнет. Как без меня станешь?.. Грешна, ой грешна, богоданный, что отправляюсь не вем куда ранее тебя. До какой страсти приневолят архангелы, в какое место прикуют Тамотки? и коли взаболь не свидеться нам, вот и будет тот самый Страх, коего никакими медами не усластить…
Нутряной жар вдруг устремился из брюшины в гортань, забил голову, но зубы, плотно стиснутые, застучали в лихорадке, и неутолимый озноб скрутил сердешную. Словно бы льдом обложили Марьюшку с макушки до пяток, так стало студно ей. И поняла тут христовенькая, что часы осталось ей жить.
– Может, детей позвать? – спросил царь, невольно отхватился от сохи и вытаился из-за полога.
– Нет-нет, – спохватилась Марья Ильинична, приподнялась в подушках, выпростала из одеяльницы покатые полные плечи, прикрытые полотняной сорочкой. – Согрей меня, Алексей Михайлович. Муж богоданный, может, и сглупа что примолвила… Морозит, ишь ли, всю, а внутри жар баенный. Спеклася, как сдобная перепеча… Князинька мой, я была тебе женою верною, любила тебя, мое счастие. И ты пас меня без острастки, с охотою. Уж не похулю. Уж тут тебя не ославить, и помнить буду и по скончании века, и ждать Тамотки стану. Куда деться, милый? Куда мне деваться без тебя, Алексеюшко?! – вдруг вскричала государыня истлевающим нутряным голосом, едва распахивая жеваные в родильных муках белесые губы. – Не смотри на меня! Ой и страшная я! Вели, батюшко, гасить свет. К чему свет? От лампадок глаза щемит, водою смертной заливает…
Но не успел Алексей Михайлович и рта раскрыть, как что-то сдвинулось в государыне, будто махнули по лицу колонковой кистью, и по впалым щекам из серебряного бочоночка мазнули румян. Ах, да то ангел прилетел, прощаться пора. Марьюшка оживела, стала вовсе юной обличьем, будто на нее снизошла благая весть, дарующая долгой жизни; царица сшевельнулась в подушках, пытаясь приотодвинуть растекшееся беспомощное тело и уступить место. Ей казалось, что богоданный стоит где-то за тыщу поприщ от нее и не слышит сердечного зова. А государь действительно застыл истуканом у приступки, плечи, прикрытые лиловой епанчою, сникли, отекшие ноги налились свинцом; Алексею Михайловичу хотелось присесть, невидимая сила притягивала его к постели. Царь прислушался, ему почудилось, что в сенях хихикнула постельница; в неплотно притворенную дверь сквозило, стоявший у порога в медном коробье цветной ночник, недоправленный мовницей, угасал, пламя свечи меркло, заливалось воском… Все творилось вокруг государя как-то не по-Божески, по воле распустихи, злой молвы, сглазу и напуску; позавидовали лихие супостаты государеву счастию и взгромоздили на его дороге медяную гору, кою не обойти, не объехать… Надо комнатным боярыням дать встряски, чтоб не забывались: вишь вот, двери полы и всякому обавнику в опочиваленку прямой путь.
– Алеша, где-ка ты? – вдруг простонала царица потерянно, замрелое тело снова выгнулось рыбкою, подпруживая дыханье, и взялось крупной дрожью; Марьюшке показалось, что ее развалили саблей наполы, в подброшье у самой родильницы стало так тяжко, словно насовали туда дресвяных окатных каменьев, раскаленных в печи.
– Тут я, матушка, – прошептал царь. – И взаправду, знать, ты взялась болеть?
Алексей Михайлович грузно поднялся по ступенькам к ложу, откинул кисейный полог и с охотою опустился на край пуховой постели, стараясь не утонуть в ней; что-то подтолкнуло царя, и он, скидывая всякую чинность, порывисто принагнулся к жене, слепо нашаривая напухшие губы. Они оказались холодны, неотзывчивы и шершавы, как бы осыпанные дробным пашеном. Но царь пересилил мгновенную брезгливость, подтыкнул ладони под сголовьице, приподнял голову Марьюшки, прижал к груди.
– Але-ша, ой, Але-ша-а, – повторяла царица, уливаясь кроткими слезами. – Куда ты подевался, Але-ша?..
– Здесь я, Марьюшка. Эко тебя распалило. И куда лекаря-пройдохи смотрят?.. Я люблю тебя, княгинюшка, я тебя никуда не спущу…
– И не спускай… Веком бы так.
– Отдам нехристей в разбойный приказ… Считывают с черных книг лекаришки, да насылают, алгимеи, всякой призеры и напуску. А я вот не доглядел. Ты прости меня, государыня, и грехи мои отпусти.
Царь гладил болезную по тяжелым, каким-то остывшим, негнучим волосам; когда-то шелковые, с каштановым отливом косы он так любил распрядывать, а после расплескивать по плечам, погружая в их глубину ладони.
– Ты, батюшко, не страшись. Ты в рай прямо. Куда мне до тебя… А где и спотыкнулся ты, так не с осердки и не по распутству… Блазнило, и ты чурался, бежал прочь. И спотыкнулся. Это я грешница, прелюбодеица. И в смертный-то час охапила тебя, завистница, висну на шее…
– Очнися, матушка. Не клепли на себя понапрасну. Бог не оставит без призору твоей плодильницы, опечатает в свое время. Проснешься поутру, а уж здорова, как пасхальное яичико…
– Алеша, ты по мне шибко не убивайся. Хоть и была тебе пряником медовым… Долго не вдовей, не горюнься. Не насылай на царство печали и скорби. Веселися не натужно, коли нужда придет, и не постися через край. И Христос того завещал: де, чтоб не смел мирской человек напрасно плоть мучить… Гли, милый, на кого стал похож? – шептала государыня, водя тонким влажным перстом по мужней узловатой руке, по набухшим до черноты росстаням жил. – Солоного абы прокислого много не ешь, с того на воду позывает, – подсказывала государыня, как истинная домовица-большуха, отъезжающая накоротко по монастырям с богомольем. И ни тени печали в просветленных, уже не здешних глазах. – Да бери, Алексей Михайлович, в жены девку здоровую, непорченую, несглазливую, не из розлива московских шептунов, что видом агнец, а нутром волк. Да Ивана-то Мусина не обижай, блудня, далеко от себя не отсылывай парничка; хоть и сколотыш, но твоих, царских кровей. Не бойся, что люди скажут, но бойся, как Господь на то взглянет…
От последних слов смутился царь, кровь кинулась в лицо, и чтобы скрыть стыд и внезапные жалостные слезы, уткнулся в сголовьице, пряно пахнущее женою. Марью Ильинишну от долгих наставлений как бы опрокинуло в короткий сон, она забылась на миг, даже потеряв дыхание; и царь боялся сшевельнуться, чтобы не потревожить болезную. Он дышал в щеку супруге, и блазнило ему, что их слезы, так угодные Господу, сливаются в единый родник печали. Ах ты, Боже наш, помилуй нас.
А Марьюшка вдруг ясным голосом, будто и не задремывала, сказала государю, слегка колыбнувшись головою:
– Алексей Михайлович, приотодвинься от меня. Ты живой, а я смертью пахну… Попрыскай на меня из ароматника розовой водицей абы укропной. Ско-ро с трав-кой смешаю-ся… Посеюсь цветочком лазоревым под твой сапожок. Да ты не соступи на меня, слышь?
Государыня разжала кулачок, в нем, как в скудельнице, покоился запотевший камень египетской яшмы. Держалась за него до последнего, как за якорь спасения, да ишь ты, не пособил родименькой, но увлек на самое дно. Прислушалась к себе: кровотеча прервалась, да и откуда было взяться кровце, коли из самых глубинных боевых жил, омывающих сердце, источилась она по капле. Глаза у царицы округлились, а обочья свинцово посинели. Дыханье стало пресекаться, и больших усилий стоило выдавить каждое прощальное словцо.
– Детей позвать? – снова тревожно спросил государь, уже зная верно, что светлый ангел прилетел за женою. Марья Ильинична слабо улыбнулась, не ответила на вопрос.
– Сбрызни на меня французской воткою, – попросила настойчиво, едва шевеля языком, облизнула губы: ей и на смертном одре хотелось выглядеть перед благоверным приглядчивой. Вдруг боль покинула тело, льняной белизны лицо разгладилось, стало прозрачным, как стень; тонкая жилка, почасту, замирая, билась на впалом виске. Крупная, тельная, дебелая, государыня как-то скоро теряла очертания, погружаясь в крахмальную наволоку, в копешку хлопковой бумаги, невидимой для царева взгляда. Марьюшке еще что-то хотелось сказать важное, и она, уставя взгляд на подволоку, где Сын человеческий терпел крестные муки, вдруг добавила:
– Алеша… Алексей Михайлович… Государь… Простил бы ты всех бессловесных. Кто окромя тебя простит? Не гони на заклание, не пять под себя силком, милый. Втихую-то и ольху согнешь… Иль не слышишь, как стенает люд? Родницу свою, Федосью Прокопьевну, пощади. Пусть и дура баба, но никто из земных не властен душе ее…
– Я бы радешенек, да… – торопливо воскликнул государь и всхлипнул обиженно, по-детски, не в силах унять новых слез.
– Вот и хорошо. Вот и ладно…
Марья Ильинична устало смежила веки. Египетская яшма выкатилась из горсти на одеяльницу. Царь вздрогнул, решив, что отошла благоверная; взялся за шнур звонка, чтобы звать постельницу, но удержался. Торопливо подобрал камень, подул на него, протирая ладонью красные, холодно мерцающие искры, и зачем-то спрятал за пазуху в зепь. Марьюшка покоилась недвижная, тихо остывая. Царь скользнул взглядом по малахитовому прикроватному столику, в растворенном зеркале-складне увидал чье-то набухшее, усталое лицо с мешками под глазами, каштановую бороду клочом, на голове бархатная шапочка вздыбилась еломкой, будто под волосами прободились рожки… Ах, что же за зверь такой подглядывает за плечом? Государь даже обернулся с тревогою на сердце.
… Чего-то тебе втемяшилось, царь-государь? Знай, это Свет Божий вылепливает из потаенных сумерек твой истинный лик, коего ты страшишься. Почуй же, сердешный, самого себя сокровенного и ознобись от ужаса; озеночки багровы от кровавой росы, а в зеницах сам дьявол угнездился, злорадно усмехаясь…
Облик в зеркале, опушенном синим сукном, вдруг расплылся, утонул в сиреневой глуби, и понял Алексей Михайлович, что плачет нынче уж в который раз. Сквозь слезы высмотрел на столике хрустальные очки, когда-то подаренные им сыну Алексею, и, приставя к носу, сквозь шлифованные грани взглянул на жену; и увиделся ему алмазный сверкающий купол и внутри его крохотная невинная девочка с изумрудными глазами. Царь торопливо отнял очки, из костяного ароматника отлил на ладонь пряного травяного настоя и прыснул на жену. И Марья Ильинична вдруг сшевельнулась, открыла глаза; еще хотела что-то сказать, но язык не послушался ее…
Царь позвал комнатную боярыню и, поцеловав жену в губы, тайным переходом ушел к себе в Теремные покои. В опочивальне у него стоял сосуд каменный нефритовый, оправленный золотом. Египетскую яшму опустил в кубок, налил белого ренского вина, принесенного спальником, и выпил.
Глава вторая
Часы стояла Федосья Прокопьевна в домовой церкви, когда прибежал из царицыных хором с худой вестью нарочный посыльщик: де, государыня опочнула нынешнею ночью, и ей, дворской боярыне, четвертой по старшинству при Дворе, надобно обряжать покоенку в последний путь.
Морозову острогой под самое сердце ударило.
Спешить бы надо, без раздумки лететь, ведь самого близкого человека лишилась. Дворецкому Самойлову велела малый поезд закладывать без лишнего шума. Но черная весть и без колокольного звону людей на ноги ставит; по усадьбе голка покатилась волною, в людских лучины запалили, раздвинули ворота коньих дворов, все слуги прянули на ноги, чтобы срядиться немедля, не осердя хозяйку; теремные девки, не зная, чего пожелает боярыня, раскрыли сундуки и казенки, и почтенные шафы с верхним платьем, и чуланы с шубами и опашнями, чтобы боярыню охорошить. Вот и каптану вытянули за оглобли из каретного сарая, запрягли шестериком гнедых; фонари толклись на заулке, как июльские светляки, то вспархивая по-над снегами, то западая в сыпучие мартовские забои, еще не хваченные настом; скрип саней, крехтанье и уросливое ржание коней и мертвого подымут; все опочивальни, и повалуши, и клети с подклетями растревожены суетою.
И странно было Федосье Прокопьевне подглядывать в темно-синие, чуть хваченные инеем репьи слюдяной оконницы, забранной в узорчатую свинцовую ячею; словно бы в хрустальные очки смотрела на дно глубокого омута, где, дробясь на осколки, текла чужая неведомая жизнь. Боярыня замрело остолбилась, а сзади, смиряя дыхание, столпились сенные девки с богатым платьем в руках. Глядели жалостливо на пригорбленные усталые плечи госпожи, обтянутые синим сарафаном-костычем, на янтарное ожерелье, тугим обручем обнявшее шею, на парчовый вишневый сборник на голове, из-под которого на затылок выбивались уже седые волоконца. Когда-то тяжелую темно-русую волосню и двум спальницам трудно было увить в косы, а ныне старушьи ковыльные прядки так жалостно и неряшливо сникли из повойника наружу, как плакун-трава…
Оглянулась, махнула рукою, велела девкам ступать прочь. Лишь попросила на плечи шубу лисью с пухом и ожерельем бобровым, да на ноги чулочки горносталевые, чтобы не ознобить плюсны. Постельница с укоризною, втай покачала головою; не знала того панафидница, что хозяйка днями тайно пострижена тихвинским игуменом Досифеем и отдана под начал старице Мелании. Одно ведомо постельнице: в таком сряде в государев Терем ход заказан. Но что боярыне Морозовой до тайных пересудов шептунов, ежли кольчужка, вывязанная самолично из коньего волоса, обнимает плоть туже всяких железных юз, смиряя любодейные мяса. Вот и вошка-то, коли засвербит под повойником, то и тогда боярыня не повелит девкам чесать голову: хоть и немилосердая тварь, но тоже божья животинка, не под костяной гребень уродилася.
Тихо, без шелеста и скрипа отворилась потайная дверь из чулана, где жили старицы-белевки: прослышав тревогу, по сердечному зову, как верная мати к духовной дочери своей, вступила в опочивальню кроткая наставница Мелания. Не поднимая тусклого острого личика, изжелта-серого от долгих постов и молитв, посоветовала строго:
– Давай, собирайся, дочи… Доколь медлить пустошно? Божье то дело покойников уряживать.
Федосья опустилась на колени, уткнулась в подол застиранного ветхого кафтана, призналась жалобно:
– Не ходить бы? Боюся зверя рогатого, да дьявола носатого…
Имела в мыслях царя и патриарха.
– Э-э… голубеюшка! Кого страшишься, не ходя в пути? Страшен черт, коли во сне приснится. А на яву-то пристанет, так и открестимся.
– Под чужой устав идти, как под дьявола пластом лечь… Но и Марьюшки того пуще жаль…
– Поднимайся с колен-то. Не возвышайся ломовато, да и не упадай понапрасну. Все под Богом, дочи. Пришла беда в ворота – вари кутью, раздвигай столы панихидные. И не злобись на царя без нужды, дитятко. Он к тебе милостив.
… Да и как не милостив-то? Это Марьюшка Ильинична, Царствие ей Небесное, достучалась до государева сердца, и сменил Алексей Михайлович гнев на милость, и вернул обратно поместья, что, осердясь, отобрал под свою руку для новой роздачи… Но вернулись в дом Федосьи Морозовой в надел для сына Ивана Глебовича починок Бокалды и Сергач, село Лысково и Мурашкино с приселки, с деревнями и пустошами; да в Галицком уезде село Воскресенское со всей округою; да село Холмец с наделками в Ржевской вотчине; да в Темниковском уезде починки и пустоши, и бортные ухожья, и лешие озера, и сенные покосы на триста восемьдесят четьи…
А как зарились дворцовые челядинники на эти земли. Дворецкому Хитрому с семейством все мало и мало, ухапливает под себя не щепотью и горстью, но охапками и беремем, будто с собою хочет уволокчи все на тот свет; а и надобно-то станет землицы с сажень… Вон Марьюшка Ильинишна в золоте хаживала, с золота ела-пила, да прибрал Господь в свой час, и лежит сейчас, сердешная, растянясь на лавке, словно сухостоина лесовая…
С этими мыслями стояла боярыня середь полаты, пока укрывали лисьей шубою до пят, да на голову вздевали лисий треух; две сенные девки взяли Федосью Прокопьевну под локотки, чтобы весть во двор. И опять что-то показалось не по уму госпоже, от дверей повернула обратно, огрузла на лавке, раскинув на стороны рыхлые полы опашня. И сказала с грустью, оглаживая на коленях клин синего старушьего сарафана:
– Как ты хошь, старица, но не лежит у меня душа в этот вертеп ехать. Там каждый угол дворскими псами мечен, так и смердит. А глазами-то едят, да раздевают, кобелины. Будто уличную б… ку…
– А ты не бери, девонька, в ум. Душу-то эдак вот, в кулачок, сожми, а нос-от в мохнатушку спрячь, да и смело иди, будто никого нет. К чистому да совестному грязь не пристанет… Ты на дворню не угрюмься, не сутырься с нею. Тоже ведь люди подневольные. Не всякого Бог-от сразу привечает, а попускает во гресе; когда-то еще очнется тот человечина. А ты не возгоржайся, матушка, что ко Христу скоро припущена… Ну да что зря говорить: ступай давай не промедля. Мертвые живых не ждут.
… Ой, Мелания, ой, матушка сокровенная; каждое словечушко твое – золото да серебро; и откуль, из каких глубин сердечных берутся те потаенные истинные слова, кои восколеблют и самую унылую душу…
И подумала тут Федосья Прокопьевна: да и что я, всамделе, сама себя поедом ем? Марьюшка ждет, лежит окоченелая, уже вся во Христе, меня, поди, заждалася душа ее любовная, а я здесе-ка, во своем терему ширюсь, как воевода на кормлении…
И прижала боярыня наставницу к широкой груди, приклонила ее сухонькую головенку, словно к высокой приступке, и понянчила возле сердца; черный платочек кулем, повязанный вроспуск, пахнул росным ладаном и маслицем, и сухариками ржаными, и дымком курильницы. Вот она, исповедница, судьбою отмеченная: сама, как конопушка, воробей подзастрешный, а вся от головы до пят, будто единое Божье слово; рассудила разом, как от ковриги ломоть однорушный отсадила ножом, и сказала: де, на, Федосья Прокопьевна, отъедайся на моих словесных хлебах.
… Самой себя испугалась боярыня: ой, не выеден изнутри ветхий человек, так и клянчит себе послабки, чтобы оступилась, дала воли ко греху.
И уже большухой, московской именитой вдовою, свойкой государю, пошла Морозова за дверь; и сенные девки не успели подхватить ее под локотки. Прочь, прочь!.. Что я, пирог слоеный, чтобы рассыпаться на крохи от встряски? Еще ноги, слава Богу, держат, и жилы не набрякли от многопирования, но, словно можжевеловые коренья, прочно пронизали тело…
На Пожаре, высоко взметывая пламя, зловеще горели сторожевые костры. Возле стрельцов увивались бродячие собаки, робея, жались к ногам. У рыбных рядов впаялись в мартовский снег сани, выставив в небо оглобли; мужики ночевали тут же, закопавшись в возы, иные паслись у кружечного двора. Боярыня не сразу свернула во дворец, но велела проехать к Васильевскому спуску. В Кремле гудели скорбные колокола, по стенам зорко стерегла воинская спира, гремя бердышами и топорками, порой била в тулумбасы, беспокоя ночь. Боярыня вышла из каптаны на Болоте, невдали от палаческой колоды, приказала челяди ждать; настуженный воздух пахнул рыбьей кровью, максой, требушиной и свежими огурцами. Наверное, с вечера привезли корюшку с Белоозера. По аспидному небу шатались сполохи, вороны угрюмо крыкали над иноземными торговыми лавками.
Боярыня, шаркая валеными пимками, осторожно спустилась по покати берега к урезу льда и будто угодила в погребицу, такая мертвящая тишина объяла ее. Глухо было, темно, хоть глаза выколи, за Москвой-рекою с протягом выли волки, прибиваясь к церковным звонам. Щербатые кирпичные стены дышали стужею, казалось, за каждым уступом скрывались варнаки; всхолмленная небесная твердь нависла над головою, готовая придавить. И в груди Федосьи Морозовой тоже застыло все, как в черепушке, выставленной на мороз. Боярыне хотелось узнать глубину грядущего одиночества и сиротства, и тут она почуяла его: жизнь кончилась, незачем было продлевать ее, а Бог не призывал к себе. В ледяной погребице, куда нечаянно сунулась Федосья, вся мирская шелуха разом опала с плеч, как нищее платье; словно голую, выставили архангелы боярыню на посмотрение пред Христом, чтобы узрел Господь, как в стеклянной склышечке, насколько черна ее душа…
Боярыня вздрогнула; ночной холод ознобил ее всю, прокравшись под подол костыча… Опомнилась. Зачем оказалась здесь? Чего нашла сокровенного?.. Да вот сподобилась тайне, как причастилась и соборовалась.
Федосья оглянулась, подняла глаза вверх, будто со дна лесной лощины, обросшей дубравником. На горе, в белесом зыбком облаке отраженного кострового света и небесных залысин, табунком толпилась челядь, упорно вглядывалась в толщу тьмы, боясь потерять госпожу. Боярыня всхлипнула от жалости к себе и вдруг с пронзительной остротой ощутила утрату; ресницы сразу склеились, а в груди не то чтобы облегчило, но все готовно приготовилось к скорби.
Федосья Прокопьевна скорым шагом пересекла заулок у рыбных рядов, залезла в избушку каптаны, задернула тафтяную завесу на окне, велела ехать ко Двору. И все время, пока тихой ступью попадали по Болоту мимо стрелецкой вахты и свертывали на Никольский мост надо рвом и сторожа с фонарями, проверив поезд, со скрипом отворяли железные ворота в башне, пропуская в ночной Кремль каптану, окруженную многой челядью с батогами и сенными девками, стоящими у переднего щита и на наклестках саней; и пока ехали мимо Чудова и Борисовских дворов к Успенскому собору, наконец-то остановясь на Соборной площади в затулье близ Благовещенского храма; и после, когда скорым шагом спешила на внутренний Постельный двор за переграду мимо церкви великомученицы Екатерины, – так вот, во всю эту дорогу у Федосьи было каменно-застывшее лицо и никого не видящие глаза, по-рыбьи округлившиеся, похожие на мартовские льдинки, в глубине которых свернулась розоватая слеза.
В сенях царицынских хором толпилась служба; пахло талым воском, ладаном и тем неуловимым сладковатым духом, что посещает дом сразу с приходом покойника. Боярыня сбросила лисью шубу на руки мовнице, жестко протерла ладонями лицо, чтобы снять мертвящую личину, перекрестилась пред надвратным образом Матери Небесной; две отроковицы, облаченные во все черное, распахнули пред нею дверь в спальный чулан.
Федосье показалось поначалу слишком людно в опочивальне. Хлопали двери, не стережась, туда-сюда шаталась челядь; ходил крадущимся валким шагом крестовый поп Феофан и кадил, гремя цепями курильницы; крестовый дьякон читал Псалтырю; теремные нищенки, обмыв государыню в мыленке и завернув в смертное, принесли покоенку прямо на лавке и поставили посреди чулана; мовницы скатали постелю в трубу и вытащили в сени, кисейный полог связав в узел; царицына кровать без глубоких пуховых перин, сголовьиц и крахмальных одеяльниц осиротела, и спаленка сразу так опустела, словно хозяйка съехала в новые хоромы. А разве и не так?.. в Христовы чертоги отведет Марьюшку шатающаяся средь небесной тверди зыбкая лествица. Но праведного жития была Госпожа, и спосыланные ангелы помогут вскарабкаться душе чистой к подножью Вышнего престола.
Ее же хладеющая безмолвная оболочка, завернутая в саван, как гусеница в белоснежный кокон, недвижно покоилась на лавке. Напоследок вошли в чулан мамки, вынесли прикроватную колоду, обтянутую бархатом, и комната как бы совсем отъединилась от живого мира, приуготовилась к похоронам.
Федосью тут ждали. Она еще с порога поняла это; ждали и как бы не верили, что явится суемудрая в «вертеп». Насурмленные брови Анны Ртищевой безмолвно взметнулись и опали. С двух сторон лавки стояли четыре креслица немецкого дела, обитые золотной парчою. И как бы по странному списку на трех подушках, горестно пригорюнясь, сутулились три Анны: Ртищева, Хитрова и Морозова.
Сестра покоенки, Анна Ильинишна, комкала в ладонях батистовую фусточку: наплакалась, сердешная, до дурноты; да и как не уреветься, ведь не только родную сестреницу спровадила в вечную разлуку, но и потеряла надежную тропу в Терем. И Федосья Прокопьевна, глядя на свойку, искренне пожалела ее, простив сразу все грехи. Действительно: с глаз хитрая, в словах увертливая, голосом шумливая, повадками нахальная. А разгостится да спознается, – такая ли добрая и развеселая; и шутку иной раз такую подкинет, что и молодой разбитной женке не скроить… Анна Ртищева, хоть и близкая родница, но гордовата и ломовата, Никоновы отирки, любит, чтобы все по-ейному стало, чужой воли не терпит и всякую святую душу под свой норов приклоняет… Анна Хитрая с виду сама простота, а с исподу – змеюка подколодная, всю царицыну жизнь под себя уноровила, только что в кровати не ночевала. Два-оба с Богданом, как псы цепные, улеглися у престола…
Опустилась Федосья Прокопьевна в креслице и, не глядя на верховых боярынь, принагнулась к упокоенке, поцеловала скрещенные руки и губы, и лоб усопшей. А, чего там: смерть не красит человека. Ведь как крепилась Федосья, велела себе настрого держаться, чтобы ни слезинки из глаз; знала себя, лишь дай послабки, а там прихватит до родимчика, не остановить. И вдруг горло запрудило, ком приступом накатил из груди, Федосья Прокопьевна ойкнула, не сдержалась, заскулила по-собачьи, сбивая к затылку сборник, выцапывая седые пряди себе на глаза, словно собралась волосами обирать с лица слезы. И завыла в полный голос, запричитывала, плотно ударяя ладонями по коленям. Поди, до государева Терема донесся пронзительный воп боярыни: «Ой, да на кого ты нас и спо-ки-ну-ла-а-а… !»
Анна Ильинична вздрогнула, обняла за плечи свойку, прижала к груди, чтобы не рвалась печальница к усопшей. Анна Петровна Хитрова подумала с тайным торжеством: «Сутырщица-поперечница, злая раскольница. Притащилась в хоромы в сарафане. На кого взнялась?.. Повой, пореви. Это и ты спехала царицу в могилку допрежь времен. Марьюшка-то покоенка была поноровщица-потаковщица тебе, много сердца поизорвала, улещая государя… Эх вы, на горе стоите, да никого не видите. Людей-то ни во что не ставите, пока живы те. Пусть слеза свинцовой пулей застрянет в сердце. Авось поумнеешь, суемудрая…»
– Ну, будет тебе убиваться-то. Мы не реветь сюда созваны, – скрипуче осадила Хитрова, стараясь оттеплить голос. – Мертвых из могилы не принашивают, – добавила невпопад. Хорошо, никто не расслышал последних укорливых слов. Тут сенная девка внесла жбанчик сыченой воды, налила в кубок, и Анна Ильинишна напоила страдницу, будто уснувшую на ее высокой груди. Сомлевшей Федосье Прокопьевне стало так уютно, спокойно от горячего телесного духа, волнами истекающего от свойки. И не то чтобы вдруг стало стыдно за свой воп и кликушество, но неловко оттого, что она, Федосья, как бы отняла, присвоила главное горе царицыной сестры.
Надсада потиху отступила от сердца, в горле унялись клекоты и всхлипы. И вдруг из подклети, где жили теремные нищенки, по обогревным колодцам, как из подземной таинственной часовенки, просочилась в спальный чулан духовная песнь, словесно невнятная, но в звуках удивительно приимчивая к душе. Старицы пели с приголашиванием, высоко вздымая голос и взойкивая. Федосья Прокопьевна невольно прислушалась и тут совсем очнулась, глубоко вздохнула. Колыбнулось тонкое пламя свечи в руках покоенки, и царица умиротворенно улыбнулась, благость и нездешний покой разлились на крахмально-белом вытончившемся лице.
«Ой, что же я улилася? Подумают, притворщица, – укорила себя Морозова. Тайная постриженица почувствовала власяницу, жестко прильнувшую к увядшим сосцам и к впалой родове с провалившимся пупком. Как бы сама мать – сыра земля позвала: „Фео-до-ра-а“, – и украдчиво обняла боярыню-монашену. – Ведь слезами дорогу не торят. Христовы невесты плачут потиху и роняют слезы, как свеча ярый воск, чтобы каждой каплею пронимало душу насквозь».
Морозова приощипнулась по-бабьи, расправила складки синего костыча на коленях, приодернула вниз сарафан на валяные переда черных пимков, усеянных каплями ворсистого талого снега; и снова, как прежде в сенях, жестко растерла ладонями, размяла коченеющее лицо. Будто холод от усопшей проникал глубоко в Федосью и выстужал ее всю.
«Прежде с нею экого не бывало, – досадливо подумала двоюродница Анна Михайловна Ртищева; она невсклонно сидела напротив, будто проглотив аршин, с высоко поднятой головою, по-птичьи, из-под крутых коричневых век зорко приглядывая за Морозовой, как площадной расправы подьяк. – Что же она, привереда, срядилась в царев Верх, как последняя скотница во хлевище? Не зря бают, что монастырь на дому устроила… Келейниц прячет по погребицам да в подызбице».
А душа царицына тем часом витала по чулану, сыскивая такого места, чтобы, не выпархивая в окно, вместе с тем видеть все хоромы с чадами и домочадцами; и стены, такие прочные снаружи, куда, казалось, и мышь не протянется, стали вдруг прозрачными, как родниковая вода в хрустальной склянице; и каждую царевнину спаленку, охраняемую зоркими мамками, она посетила, проникая в родную кровинку через дрожащие во сне ресницы и невинное дыхание; царевич Алексей, ее любимец, стоял, растерянно угрюмясь, возле аспидного столика и сам с собою играл в шахмат, подолгу грея в ладонях тяжелые костяные игрушки; вдруг не удержал королеву, сронил в глубокий шемаханский ковер; нагнулся за фигурою – что-то мягко-нежно, словно опахало из павлиньих перьев, мазнуло по виску, и отрок кинулся лицом в подушки и заплакал горючими слезьми, жалея маменьку, не желая с нею расставаться; Алексей Михайлович, несмотря на поздний час, стараясь рассеять смуту в черевах и нудное нытье в боку, снова налил в нефритовый кубок белого ренского и выпил, унимая не столько боль, сколько сердечную тоску; ему бы сейчас в царицыных хоромах быть, где остывала благоверная госпожа, и уряживать вместе с верховыми боярынями в последнюю дорогу, но вот по заповеданным Дворцовым уставам нельзя мешать женским срядам.
Спальники сторожили по лавкам каждый знак государя и, не зная, чем помочь его горю, искренне желали, чтобы Господь наслал на царя опойный сон. Алексей Михайлович присел к столу, выудил из серебряного ставика лебяжью остро заточенную тростку и принялся писать царице прощальное письмо, с тем чтобы положить его тайком во гроб. Ставня, плохо ли закрытая на засовец, иль от чьей неведомой руки, но вдруг гулко отпахнулась, так что Алексей Михайлович болезненно вздрогнул, и в продух влетела белая голубка с рыжей коруною на голове, опустилась на переднюю застенку раскинутой ко сну постели и загулькала свирельным горлышком.
Дурной знак! – всполошились спальники, не зная, кого винить, кинулись к ночной незваной гостье, обступили кровать; голубица заметалась по опочивальне, вскружила по-над головами и вдоль стен, взмахом крыл потушивая витые свечи, но закогтилась в тафтяной завесе полога, заплелась в ней и, трепеща, замгнула в ужасе глаза. Царь велел осторожно выпутать птицу и подать в руки. У нее было горячее, знобкое, скользкое тельце, сердце готово взорваться в атласной грудке, и заполошный стук его упруго отдавался в ладонях, прося милости. Государь бережно подул в пестрый хохол, и голубка, уверясь, что жива пока, открыла змеиный, какой-то блестяще-жесткий, непроглядный чернильный зрак, обведенный розоватой каймою…
Нет-нет, то не Марьюшкина нежная душа посетила. Ей-то что за толк отлетать от домовины? поди, няньки уже поставили на подоконье тарель с просяным зерном и водицы корчик, чтобы не оголодала, сердешная, и Марьюшка, тоскуя, уместилась где-нибудь поверх канарейных избушек и досматривает, как спроваживают ее из мира земного родня и челядь…
От этих мыслей что-то оттеплило в груди, царь вздохнул освобожденно и выкинул залетку в ночной морозный кудрявый морок, густо завесивший окно. Сам же захлопнул ставню и набросил крюк. Стольники, чуя укоризну и скрывая растерянность, снова расселись по лавкам, принялись вполголоса судачить, обсуждая случай, припоминали пришедшие в ум досюльные приметы. Государь слушал их вполуха, уверившись, что прилетал вестник за ним; он отбросил сомнения и древние прилики и, минуя сени, где толпились бояре, отправился к Марьюшке.
… Царица лежала на лавке, как фарфоровая кукла, губы уже обвело синим; в подглазьях и на крутизне выступивших скул проступила рыхлая ржавчина.
– Чего расселися? Чего рассупонились? – вдруг всполошилась Анна Ильинична. – Расплылись, как бражное сусло. Христос-от не ждет распустих… Кто ко времени на запятки не вскочит, тому в прибавку сто лет терзаний.
Четыре свойки, приопомнясь, принялись уряживать покоенку. Убрали волосы, покрыли золотной скуфейкой; из суремницы, низанной жемчугом, с помощью спиц вычернили брови и ресницы и седатые паутинные волосы на висках; будто языческую куклу, толсто умазали царицу белилами и впалые щеки нарумянили турским баканом, и губы навели багрецом. Федосья Прокопьевна подавала боярыням коробочки и бочечки яшмовые, и кипарисовые шкатунцы, и погребцы сандалового дерева, клеельницы и скляницы, и ароматницы, стараясь не глядеть на усопшую, как бабьими руками превращается царица в труп повапленный, теряющий всякое сходство с родименькой Марьюшкой, подружней и заступленницей. Боярыни с таким усердием охорашивали мертвенькую, так вошли во вкус, прикусив язык от старания, с таким тщанием мешали белила и краски и прыскали гуляфными вотками из фарфурных скляниц, будто на брачное ложе собирали покоенку.
«Ой, матушка, – думала Федосья, – что же ты не посхимилась, сердешная, в крайний час? как бы ладно, уютно в ряске лежать, да в скуфеечке и в полотняных ступнях. Невинное Божье чадо! Бог-от чует безгрешных загодя, на сто лет вперед, и подгадывает к себе, как Христовых невест ко своему венцу. Вот ужо перекосит его с обиды, будто уксусу изопьет…»
… Вмешаться бы, да заново умыть Марьюшку родимым простым костромским мылом, согнать с чела мертвенную усталость и в хладные изболевшие уста влить живой заговорной водицы…
«Ой, миленькая, как мне без тебя жить-то-о?!» – беззвучно всплакала Федосья и, чтобы не взвывать снова в голос, кинулась в сени, где толпились мовницы, постельницы и рукодельные мастерицы, мамки и комнатные девки. И тут челядь, как по зову, рассыпалась по клетям, к нижнему рундуку, забилась в повалуши и чуланы; в переходе, как на грех, появился царь, Федосья Прокопьевна вздрогнула, проглотила слезный ком и растерялась не от страха, но не зная, куда девать себя, как повести; боярыня так давно не видела государя и, часто слыша про гнев его, вдруг зашлась душою, обмерла. Государя, отступя шага на три, провожал дворецкий Хитров, за ним сгрудились грудастые стольники, и в той ватаге увидела боярыня и своего сына, юного Ивана Глебовича…
Щетинистые брови царя удивленно вздернулись, когда разглядел боярыню в пестрядинном холопьем сарафане. Царь остановился, не доходя сажени; Морозова как бы перекрыла ход в спальный чулан…
Федосья Прокопьевна простила бы царя, если бы увидела его в несчастии, с почерневшим от горя лицом. Он же был в лазоревом зипуне и легких сафьянных, шитых золотом чувяках, лишь черная байбарековая скуфейка напоминала о туге. Мягкий перелив от платья беззаботно оттенял какое-то светлое, иссмугла лицо; в каштановом ожерелье бороды червленно горели, почти пылали губы, сложенные сердечком, голубые глаза были безмятежно сонны.
«Ах кот, ну и коти-на-а, – мстительно, неправедно подумала боярыня, скоро загораясь сердцем. – Мало ты шастал по повалушам, снимая сливки, не убоясь любодейного греха. Вот и радость отныне, не станет попрека и укора. И что тебе совесть, ежели стыд порастерял и самого Господа не чтишь, изгнав из своего Дома…»
Но она поклонилась низко, скромно отступя в сторону, потупила взгляд. От царя не укрылись припухлость зареванного лица, синие пятаки под глазами. Но царь помнил еще просьбу покойной и, отделившись от челяди незримой стеною, когда всякое слово становится уместным, вдруг поймал широкий, внапуск, рукав белоснежной сорочки и спросил грубо, властно:
– Федосья… Что ты бегаешь от меня, как черт от ладана? Царица помирала, просила даве за тебя… Иль я басурман? Иль на мне рога бесьи?.. С Соловков вот тоже шлют подметные листы: де, я рожок антихристов. На, пощупай.
Царь порывисто принаклонился, содрал с головы байбарековую еломку, волосы просыпались на лоб волною; пред взором Федосьи мелькнул вроде бы заячиный хохолок… Эко, вот и царь поседател; не годы убеляют, а тревоги.
– На-на… Ты щупай! – требовательно настаивал государь и, напирая на боярыню, прижимал ее к стене.
«И то верно, что шиш. Вон донимает, бодучий. Да и не один, поди, рог, а все три», – почудилось Федосье Прокопьевне; ей так захотелось потрогать под клином волос, но она испугалась, опомнилась, отдернула руку.
– Кто я? – вопросила жалобно. – Червь малый. На мне грехов изнасажено, как сажи в печной трубе. Спусти меня, государь, дуру-бабу. Дай помереть во спокое. Иль ссади в монастырь. – И вдруг призналась глухо: – Вот все плачут из-за тебя, государь. А я – по душе твоей. Как уголь черна…
Алексей Михайлович крякнул, отступил на шаг, стемнел лицом, в глазах появилась так знакомая челяди сполошливая гроза. Федосья Прокопьевна даже призамглила глаза, ожидая удара. Но царь опомнился, скрипнул зубами, а сказал вяло, сипло шепелявя, словно порастерял зубы:
– Ох, Федосья… Я ли тебе не Отец? Вот и сын твой одинакий, как батожок возле меня. Что ты церкви бежишь, как бес от просвирки… Все сблудили, а ты одна на тропе? Да коли любишь нас, то и сойди. Вот тебе совет…
– Отец мне один – Господь Бог. Это вы Бога не страшитесь потерять, а я боюся… И на что мне ваши хлевища? Можно и дома молиться; затвори клеть и там помолись. Господь вездесущ, увидит и услышит меня, грешную… Господи Исусе Христе сыне Божий, помилуй мя… Ежли и я струшу, государь, да обмануся ласковостью словес твоих, так кто подопрет праведников, что немотствуют в темничках?.. Ты бы очнулся, батюшко Алексей Михайлович. У тела матушки бездыханной, что завещала всех простить, пришел бы в ум, – вдруг резко добавила боярыня. – Ино гляжу на тебя, а будто спишь. Не чуешь, бедный, что на твоей главе беси уж гнездо свили, – досказала шепотом.
И призажмурилась в ожидании казни. Такой прыти от себя не знала. Эко разнесло на дорожной колее, и вот опружило, и растерло саньми. И тело стало, как лист баенный, как тощая речная камбалка, что и тени своей боится. Переждала Федосья малость, приоткрыла глаза; царь покачивался перед нею с пятки на носок, задумчиво жевал ус. Поостерегся, кулаком не ошавил промеж глаз. А по заслугам-то и надо бы… Эх ты, тетка, налимий бок… И показалось Федосье Прокопьевне, что в государевых зеницах скользнула веселая искра и пропала. Да нет, помстилось: с чего Алексеюшке радоваться?
И вдруг такая благость накатила, как бы знойным июльским ветром скружило голову. Засмеяться бы, запрокинув небу лицо, но грешно. За стеною Марьюшка лежит во гробех, и душа ее безгрешная сторожит всякий чих. И подумала Федосья Прокопьевна, зажимая греховные, какие-то кобыльи радости: ну и пусть сронит каженик голову мою с плеч, как капустное ядро, иль в костер живьем вкинет. Пусть!.. И от этой мысли легко стало, что наконец-то перешла крайнюю засеку и теперь уже и бояться нечего; вот перекрыла себе все дороги во Дворец и отныне на всяком совете синклита и черном соборе ее клясть не устанут; но зато отворила нараспах пути во Спасение, и оттого так вольно тоскующему сердцу. Объяснилась с великим господином, и осталось лишь причаститься и собороваться…
– Не знаешь ты удержу, дура. В голове ветер, в промежье дым. Сатанина ты, б… , – по-мужицки, презрительно сплюнул государь под ноги строптивице и, холодно отстранясь, ну прямо обдав Федосью Прокопьевну стужею, вошел в опочивальню.
Следом четверо стряпчих внесли дубовый гроб.
Федосья же устремилась вон из хором и сына вроде бы не заприметила. Спустилась к переграде почти бегом, миновала вахту боярских детей, а спиною все ждала окрика, тычка царева слуги. Сенные девки встретили госпожу, набросили на плечи лисью шубу, надвинули на голову треух, подхватили под локотки…
В Успенском кончалась полунощница; уже, звякнув, упал из проушины железный запорный крюк, из притвора в полураспахнутую дверь пролился изжелта-лимонный теплый свет; курчавый облак пара выскользнул на волю. И вдруг что-то похожее на зависть горько колыхнулось в груди, и стало Федосье так неприкаянно, жалобно и одиноко, что впору взвыть. Те богомольники, что выходили со службы на паперть, были в груде, в скопе, в одной сходке, под одной покрывальницей, под одной священнической епитрахилью, дышали одним церковным воздухом, причащались от одного святого хлебца, испивали одного винца; и лишь она, боярыня Морозова, порастеряв в пути всех близких по подвигу единоверцев, осталась нынче совсем одна, как бесплодная смоковница средь знойной пустыни, полной гадов, и ни капли живой влаги не сыщется, чтобы напоить тоскующее сердце. Ведь когда душа полна светлой любви, то и хрустящих акрид хватит, чтобы напитать грешные телеса…
На Ивановской горел в ночи костер, шатались тени, сторожа, звеня бердышами, грелись, с хрустом перетаптывались на подмерзшем снегу. Московки спешили домой, одна, вроде бы знакомая обличьем, вдруг обернулась и с неожиданной злобой выплеснула прямо в лицо боярыне:
– Видит Бог, в аду тебе гореть, тетка…
– В аду, милая, в аду, – торопливо согласилась Федосья. – Только бы вам Господь поволил… Христос вас спаси…
Глава третья
Царь скрылся в опочивальне. Дворецкий Богдан Матвеевич Хитров, молодовитый, рыжеусый окольничий с обритой бородою, встал у двери, поманил к себе вызолоченной булавою стольника Морозова. По полу вдоль стены в медном коробье стояли свешники и слюдяные фонари с цветными шибками, свет от них подымался к потолку пестро-тусклыми рассеянными столбами. По лавкам наособицу расселись спальники в червчатых ферезеях и шелковых зипунах и, улучив минуту, чутко дремали; вязкие на ухо и глаз, они мгновенно погружались в верхний сон, скоро впадали в забытье, хотя все тело, казалось, жило особым слухом и каждый неверный шорох и тончайший скрип тут же подымали на ноги, заставляли хвататься за клинок. В этих-то спальниках в ночные долгие часы и состояла надежда государя; они были его бронею, его латами и кольчужкою, всегда готовые свое холопье сердце подстелить под сафьянную царскую ступню…
Иван Глебович поймал короткий знак, подошел неслышно, на пальцах, словно канатоходец, перебирая по войлоку зелеными сапожонками, и кожаный терлик до пят, будто змеиная шкура, плавно струился вокруг его гибкого стана; зарево румянца, несмотря на ночь, горело во всю щеку, присыпанную нежным персиковым пухом, ус струился над припухлой губою, но вокруг глубоких янтарных глаз уже легли серые сумерки усталости; не высыпался вьюнош, и служба от гулящей до гулящей во многие дни выпивала силы. Хитров ревниво восхитился стольником, невольно вспомнил и себя таким и, чуя себе угрозу, сказал скрипуче: «Вот видишь, Иван Глебович, горе-то какое, а?..»
Морозов вспыхнул, пожал плечами, потушил взгляд, бархатную круглую шапочку, комкая, стянул с головы; в правом ухе, сверкнув алмазом, качнулся круглый диск серьги. Стольник только что проводил тайным взором мать, ее согбенное тело в старушечьем сарафане; он так хотел заглянуть в зареванное, опухлое лицо боярыни, чтобы прочесть ответное чувство, но мать миновала сына, как чужая…
«Эх, и почто мира-то нет меж има? – подумал с грустью. – Два родных, любимых человека ратятся на ножах, не могут пристать сердцем друг к другу…»
Дверь вкрадчиво отворилась в жиковинах, даже страшась скрипнуть в таком безутешном горе, и бесшумно, на цыпочках вышли стряпчие с черными полотенцами через плечо. Дворецкий посторонился, не снимая, однако, взгляда со стольника. Тот покорно уставился себе под ноги, ожидая приказа, смолевые непролазные волосы торчали копешкой, и в самую-то молодеческую рань уж посеялось на теменце белым снежком: не годами рос парень, но часами. И хоть вон на какую гору, почитай с колокольню Ивана Великого, вымостился при Дворе худородный алексинский дворянин, завладев многими вотчинами и поместьями и свою родову притулив в кремлевских повалушах, но сейчас Хитров с какой-то недоуменной враждою глядел на стольника и мрачно завидовал ему: ведь все драгие шемаханские ковры выстелены стольнику под ноги с младых ногтей, только ступай горделиво, не спотыкнувшись; третьим по богатству после самого государя и царева дядьки Никиты стал нынче Иван Глебович, он как бы своей черной бархатной шапчонкой с головой упрятал Хитрова, заколдовав того в безропотного ягненка… Да и тетка-то Анна лишь в верховых боярынях, а Федоска, эта черница-кобылица, в приезжих, и не надо ей в день да в ночь торчать в хоромах, услуживая во всякой прихоти, боясь прослыть в неугодных.
Юный стольник поднял стеснительный взгляд, и Хитров не успел согнать кривую усмешку; в выцветших голубых глазах еще плавал злой морок. И посоветовал дворецкий треснутым голосом:
– Иван Глебович, дал бы ты матери наук, ввел в ум. Чего она, безумная, ерестится противу царя, как моль на пушнину, и других с толку сбивает? Что ей, жизнь не в пользу иль жить не хочется? – Хитров посуровел, стиснул булаву, как боевую палицу. – Не тебе под материной юбкой ходить. Сам хозяин… Коли уселся на конь, так чуй стремя да плеть. Земля-то, малыш, близко под копытом, да неутешлива, как грянешь. Иль не боишься падать?
– Не боюся, Богдан Матвеевич, сковырнуться. Земля наша матушка мягше пуховой перины… А Федосье Прокопьевне я не отец, чтобы вразумлять. Яйца курей не учат, – по-стариковски рассудил юный стольник.
Он осекся, не успел договорить, круто осечь дворецкого, чтобы не лез в чужой монастырь с уставом; тут из чулана, будто заговорщицы-притворщицы, выпятились с поклонами три Анны. Хитрова поманила дворецкого за собою, затаилась в сутемок ценинной печи, зашепталась, в чем-то настойчиво пытая Богдана. Иван Глебович невольно навострил ухо, и послышалось ему, будто шипит змея подколодная: «Видал-нет, как Федоска Морозова ускочила, будто нашпарили. Ишь выставляется, безумная… Сама из житенных высевок едва слеплена, а выдает себя за перепечу из княжьего выводка. Ты, Богдан Матвеевич, не солодись пред има, пуще на ейного выродка нажимай, без послабки. Коли служить взялся…»
Наверное, поблазнило стольнику, ибо когда вышла боярыня из-за столбовушки, то вдруг одарила Ивана Глебовича сусальной улыбкой и отбила поклон.
… Что, царь-государь, горюшица призатаенная, не сыскалось тебе места во всем Терему, чтобы без пригляда облегчить сердце? Хоть и погнал прочь из спаленки всех доглядчиков, но присмотрись пуще, и будто из каждой проточинки и пазушки в стене, из ставенки и картинной рамы с персонами тайные приставы дозирают твое горе… Да ты не робей, Алексей Михайлович, не бойся подпазушного клеща, что впрыскивает яд без боли, но страшись зрака Божьего, от него-то и чуешь испуг и ломотье в душе…
Стихло в чулане, не слышно чужого вздоха, и за дверьми могильная тишина, словно бы вся вахта спальников ушла в запойный сон, и лишь Богдашка Хитрый неотступно караулит у ободверины, чтобы лисьим умом своим скоро уловить тайное твое желание.
А Марьюшка в повапленном гробу возлегла, как уряженная, раскрашенная кукла. Что ты окаменел, как мореный дуб? иль ноги твои остамели, налились водянкой, вот и боишься оторваться от дверной скобы, как бы не упасть.
Не кручинься много, милый мой, безутешливый, не убивайся долго, того Господь наш не любит, а маленько поплачь, вырони слезу; ведь то радостная печаль навестила тебя, к Богу в райские кущи убыла голубеюшка с беспечальным вздохом…
Царь-государь, покорно склони выю, не упрямься, не взглядывай с темной надеждою на гроб, укутанный в прозрачные пелены, вроде бы воспаренный над лавкою, как челн, покачивающийся на воздусях; хоть властию на бренной земле ты вроде Создателя на небеси, но всей твоей тленной мощи самодержца не хватит, чтобы вдунуть малую толику живого огня в одеревеневшие, уже ломкие уста. То лишь Христу нашему под силу бы, но и Он, Благодетель, ждет восстанного означенного дня, чтобы поднять с погостов к вечной жизни всех верных своих.
… Царь решился наконец, деловито прошел к тяблу, с печальными воздыханиями и влажной пеленою в потемневших глазах оправил фитили елейниц, сощипнул нагар, подлил маслица, тяжело прихватывая грудью душного воздуха, протер иконы влажной губкой, опустился на колени, а после и вовсе растянулся на полу, прося Спасителя о милости, и невем сколько пролежал с непролившейся слезою в озеночках. Очнулся, с трудом на ноги поднялся, подсыпал пашенца в тарель, подлил из серебряного кувшина родниковой воды в скляницу: отведай, Марьюшкина душа, последней земной ествы, чтобы хватило сил взняться крылами по небесной тверди. И вдруг скрипнуло что-то сзади, горготнуло, едва уловимый всхлип донесся до слуха. Вздрогнул царь, устрашился и, подойдя к домовине, с любовию оперся двумя ладонями о взглавие его, всмотрелся в покоенку… Да полноте, ведь оживела матушка, вон и ресницы насурмленные вздрогнули, и натертые румянами губы изогнула улыбка, и грудь всколыхнулась так, что полыхнуло пламя свечей, вон и влажная испарина просыпалась на челе росою, и упругая дождинка сочно упала с расписной подволоки на переносье царицы, закатилась обратно в рыжеватый родничок слезника и там студенисто замерцала.
… Господи, батюшко государь, да ты никак плачешь?!
Толстые восковые свечи в посеребренных панафидных столицах горели ровно, без треску по четырем стенам домовины, золотистый туск, словно тончайшая июльская солнечная кисея, приокутывал лицо Марьюшки.
«Упокой, Боже, рабы Твоя и учини ея в рай…»
Царь присдвинул со лба венчик, поцеловал жену в тонкую морщину, рассекшую лоб наполы, и вдруг всхлипнул, прижался к родному обличью, с какой-то надеждою впитывая студеный холод, чтобы навсегда укупорить его в своем сердце; потом облобызал лимонной желтизны пробежистые тонкие персты, пахнущие елеем, ароматными вотками и чужим сладковато-пряным духом, и тяжелое, устюжской чеканки распятие на груди с небесной чистоты эмалями и зернами багровых рубинов, так похожих на капли Христовой крови. Государь зачем-то воровато оглянулся на дверь и, тайно казня себя за языческое малодушие и неизживаемое детское простодушие, напитанное сказками мамок и песнями дворцовых нищих, просунул под вишневый бархат тугого огорлия, низанного алмазами, прощальное свое писемко; а потом с придиркою оглядел затею: не обнаружат ли ее случайно крестовые священницы и дьяконы.
Шел девятый час ночи, когда вовсе очнулся государь, а сердце остекленело в тупом спокое, и в самой глуби его, как в драгоценной хрустальной склышечке, навсегда поместилась жена. Царь встал за гробом и начал честь псалмы, мерно покачиваясь и почасту взглядывая на усопшую; он словно бы вместе с Марьюшкой примерялся к небесной лествице, к ее шатким ступеням и поручам. Эк, ветер-то как разносит по-за облак, аж в ушах свистит.
«… Помяни, Господи, Боже наш…»
Марьюшка покоилась во гробу с радостным живым лицом, и натертые помадою губы приоттягивала безмятежная улыбка, словно покоенка утешала оставшихся: де, не горюйте, родненькие… кабы знали вы, ведали, какое счастие помирать-то.
И вдруг нелепо подумалось царю: «С мертвыми-то куда легше быть, чем с живыми».
И позавидовал Алексей Михайлович новопреставленной.
Глава четвертая
Бывает, что и один день за вечность покажется, не знаешь, куда его деть; а как дождешься ночи, то и тогда сон нападет тягомотный, с борозды на борозду, словно адскими лемехами вывернули все в голове наизнанку.
… Федосья Прокопьевна, матушка, не майся попусту, не скрипи, как старый очеп, войди в ум и, полагая каждый прожитой день за последний, живи праздной столбовой боярыней на пуховых перинах и попивай меда с вотками… Да, пожалуй, пустое подначивает бес за плечом. Нет нынче на свете Федосьи Прокопьевны, ушла пораньше государыни, а затворилась в спаленном чулане, вернувшись из Дворца, монашена Феодора, Христова дщерь, и тело ее, давно не знавшее бани, уже натуго опеленуто власяницей; чрез такую кольчужицу ни один луканька не прободит крюковатым носом своим прореху, чтобы прокрасться до груди постриженицы и угреться там…
Что ей мир с его утробными прелестями, саламаты белужьи и уха стерляжья, да семужьи кулебяки и лебяжьи окорочка… Когда огурец с грибком тяпаным, да в самую редкость звено щуки гретой сунет в рот, чтобы совсем не пропасть, – вот и трапеза. А во весь Великий пост за обыденку хлебенная корка да квасу монастырского ковш.
И дом пространный от Оки до Волги со множеством чад скинут с плеч под Божий пригляд; Господь пособит, не оставит без подмоги, лишь уповай на Него без сомнения. И вот каждая минута нынче, кою урвала для одиночества, – вся в молитве. А глаза смежишь после ночного куроглашения, то и во сне, как овечье прядево меж перстов, струится сквозь все тело от макушки до пят Исусова молитва, омывая каждую телесную жилку. И долго ли так спишь? – но много всего насмотришься; по небесной тверди и подземным теснинам набродишься, нагостишься в аидовых пещерицах, а после сколько явится полезной пищи уму и сердцу на весь день; всем домовым старицам не разжевать тех черствых пророческих колобов…
Била поклоны боярыня, припадая на узорчатый бархатный подручник, расшитый в долгие дни постов, молила покоенке-царице райского места да на сотом метании, приклонив голову к ворсистой кошме, вдруг и призабылась, будто слоистой хлопковой бумагою обложили всю.
… Откуда-то сестрица Евдокия Урусова взялась, летами моложе нынешней, догоняет Федосью, стуча чеботками. Федосья оглянулась, не удивилась, прихватила княгинюшку за край фусточки, мокрой от слез. А за стеной тук-тук, молотки по крышке гробовой дробят. Подумала еще: чего так рано? еще и не отпевали. Из сеней бы поскорее вон, а в дверях окольничий Хитров в нагольном мужичьем тулупце, плешивая голова тыковкой, глаза, будто лампадки голубого стекла, во рту торчит бесьим рожком фарфурная трубочка, из нее табачный дым кольцами; на плече сидит черт и ловит тот вонявый дым рогами, нанизывает курильный чад, как баранки. И только успела сказать Федосья Прокопьевна сестре: «Вот сейчас на меня бес прыгнет», – и тот преж слов, по одной вроде бы мысли, сиганул боярыне на загривок. Черт невелик, раза в два будет покрупнее кошки, грязно-каштанового цвета, покрыт редкой шерстью, с рыжими глазами. Вцепился за плечами, как клещ, намертво сел на шею… Ах ты, Господи, прости и помилуй! Взмолилась мысленно, а язык-то и сковало… Рукою бы гнусенка ухватить, но не добыть: ловок и лукав черт. Решилась, ударилась спиною о стену. Слышит – затих, ослаб, растекся по плечам, как падаль, и хвост ослиный с кисточкой на конце скатился боярыне на грудь. Хоть и мерзко, и грешно, но только решилась ухватить в пясть, чтобы сдернуть с шеи, а черт окаянный снова в силе и так-то больно вкогтился в затылок. И давай Федосья снова долбить беса о стену, тут и себя не прижаливая, словно задумала убиться до смерти, пока не затих лукавый. Стянула за шкуру, опачкиваясь в мерзости, протянула Хитрову: «На, возьми и паси лучше. Это брат тебе». – «Ты что, убила его?» – спросил в ужасе, замирая от страха. – «Твое счастие… Он же бессмертен».
И тут сестра Евдокия, молчавшая досель в оторопи, вдруг протянула Федосье рубль и сказала: де, на тебе в награду. Рубль неровный, обкусанный с краев, будто заеденный мышью, из буро-красной печатной меди, пробитый в середке, и к этой проточине вроде бы из Федосьиной горсти приник змеино-холодный бесовский зрак. Вскрикнула Федосья, стряхивая с ладони проклятую деньгу, а та будто клеем намазана. И возопила боярыня: «Мати Мелания, пособи дочери!..»
И с этим воплем очнулась. Стоит внаклонку головою в кошме, шея отекла, спина ноет, точно снопы на ней молотили. Ой, беззащитен монах пред дерзким врагом в ночи, и сколько бедной одинокой душе приходится страдать, боронясь от бесов. Перекатилась Федосья на рогозницу возле кровати, завешанной цветными воздухами, с трудом растянула замлевшие ноги. Боль телесная потиху отступила, но сердечная гнетея после внезапного наваждения лишь приросла. И подумала Федосья в тоске: и чем же я прогневила Господа, что вражьи дети решили меня прикупить рублем иудиным? И неуж Марьюшку, царицу-покоенку, так крепко осадили лукавые, что на всякого, кто пересек порог, сразу накинули обавные сети? Исусе! Верховный Батюшка, прости и помилуй грешницу, что поступилась Тобою ради мирских заповедей… Но и покоенка была ближе мне сестры-матери; и в том стане неверных я и одним ногтем не прищипнулась за их обманные нитки… Батюшка, употчуй тихомирную государыню своим нектаром; она, сердешная, всяко терпела, но не дала себя опоить сикером ворожейных словес. Крутилися дворцовые тетки вокруг царицы, как мухи на патоке, да ни одна не оскоромилась…
Прислушалась Федосья Прокопьевна до звона в ушах; огромная боярская усадьба во всех своих сотах еще почивала по-утреннему безмятежно. Только со двора порою доносился мерзлый бой колотушки о тулумбас: то дозорила ночная бессонная вахта. И вдруг как бы по-над ухом очарованно скрипнула потайная дверь из чулана, прошаркали бесплотные, почти бестелесные шаги, обогнули кровать. Боярыня заломила глаза, увидала над собою холстинное личико с кукишек, черный плат шалашиком, повязанный вроспуск, ноги рогатиной из-под пестрядинного монашьего зипуна.
– Тебя ошавило, Феодора, иль колотун взял? Корчишься, как рыбка, – пропела мать Мелания, сомкнула бесцветные губы в нитку, принагнулась, опахнула постным ладанным духом. – Ты Бога-то, дочи, понапрасну не гневли. Он неистовых не любит.
Старица сбродила к тяблу, сняла с полицы кувшинчик со святой водою и просяной веничик и, будто побывав только что с хозяйкою в одном сне и пережив ее тревожную печаль, неожиданно споро пробежала по всем углам опочивальни, сбрызгивая с веничка, а после и саму Федосью окропила святой влагою.
– Ты, девка, не шали без дела. Покорствуй, покорствуй. Иль государь чем обидел?.. Ой, Феодора, как спроваживала во Дворец, наставляла: не ерестись, будь покорной. Не рано ли отец Досифей надел на тебя Христов венец? Пока не прищучили, сердешная, так не кобенься. И то время грянет, милая, а уж где силы?.. Иль восхотела святее быть самой Мастридии и мученицы Феодоры?
– Не ешь ты меня, мати. И без того всю искусали, одно дырье во мне. Осталась я нынь одна, как бывый апостол в пустыни.
– А ты не загрызайся, гордушка. И не убивайся понапрасну. Всему свой срок… Обрядила ли Марьюшку? Да самого-то видела-нет? И много ли верховых прискакали на конех? Дожили… кому и смерть чужая в праздник.
Вздохнув, страдница придвинула низенькую скамеечку, присела возле и, сняв повойник с боярыни, принялась чесать ей голову гребнем. «Зачем это, зачем не ко времени?» – вяло сопротивлялась Федосья Прокопьевна: ей казалось кощуною в такие часы заниматься собою, но корявые старушьи ладони через костяную чесалку словно бы отворяли закрытые в коже руслица и впускали в замоховевшую голову боярыни чистого живого тепла и раструшивали по дальним закрайкам нажитую за день памороку. Федосья поймала руку наставницы, поцеловала веснушчатую постную горбушку и твердые подушечки перстов, а после по-детски прижала ладонь к щеке, насовсем оттаивая. И сон тревожный сразу источился, опал в беспамятство; так лесовой гнус под ветром-сиверком оседает в травяную тенистую прель.
Федосья вдруг вспомнила, как государь голову нагибал, просил нащупать в волосах рожок, и засмеялась прерывисто. Наставница невразумительно смотрела на боярыню, ее лицо скуксилось в тревоге; Мелания порывисто прижала голову Федосьи к тряпошной груди, словно бы обесило боярыню, и хворь икотная тут и полезла наружу.
– Мне царь-от говорит: на, де, щупай рожок. Бедная царица, в каком дурном заводе спокинула благоверного. Бодает меня и говорит: на, де, щупай…
– Михайлович-то сам весь рожок сатанин, прислужник дьяволей, – рассудила старица, нимало не удивясь Федосьиным словам. – Не бес же он, всамделе, чтоб рожками взяться? Это для прибаски кто ляпнул зряшно, чтоб надсмеяться, чтоб слух пустить. Эх, легковерный!.. – неведомо кого упрекнула старенькая и вздохнула. – У иного черного человека и есть рожки, то изнутре, незримы бысть. Ино и вспухают под волосьем, как желвы, вулканы такие. Дурнина прет, места ищет…
– И что у них за страсть все иначить? Богом клянутся, а у него из-под ступни колодку выбивают. В писании-то говорят святые отцы: этак, де, будет в последние дни. Когда черное пойдет за белое, ложь за правду и честью станут стыдиться. И еще там же: и Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле… Отчего скверные люди в стае, а мы вразброд? И чем я согрешила, что мне ада сулят? – вдруг вспомнила Федосья Прокопьевна минувшую ночь, косое трескучее пламя костра, окаймленное сполохами, и ненавистный голос поздней московки-богомолки. – А может, я, матушка, и всамделе сблудила? поперечница я, сутырщица, с глупого ума забрела в кокорье да чащинник, заплутала там и ну орать благоматом?! И значит, царь за дело обозвал меня так гадко, словно я хуже девки гулящей… Да нет-нет, – тут же и осекла себя боярыня, боязливо окрестившись на образа, на их переменчивые в лампадном свете лики; цветные стеклянные елейницы, как огни божественного ветрограда, изливали на иконы кроткое сияние, и Небесная Матерь с бессмертным Сыном своим, и все святые подвижники, и ученики его, и верные апостолы готовы были, оживев, сойти с резных озлащенных окладов и занять место в ночной раздумчивой беседе. – И учитель Павел такожде призывал: де, духа не угашайте, не смиряйтесь со злом, всюду переимывая его на рогатину, не потушайте огня сердечного, да пусть выпалит вас до самого донышка… Я лучше, как птица Феникс, спалюся до зольного пятонышка, но не отступлюсь. Для Бога лишь и живем. Иль не так что примолвила?
Старица Мелания лишь кивала головою, подперши морщиноватое личико ладонью, премного довольная духовной дочерью. Мучается душою Феодора, и значит, живет, растет для жатвы, как крин лазоревый, ангельский цветик благоуханный; уж поспел почти в райские сады к пятам Спасителя.
«… Я-то пред Феодорою кукушица серя неразумная, – вдруг мысленно низко стоптала себя старица Мелания. – В чужое гнездо подкинули яичко, да и запамятовали. Я пред боярыней, как воробей-мякинник, только бы сглупа чирикать мне… Она книг-то читывала не с мое. Какой правды натолкую разумнице, ежели нутром-то и без меня дозрела, негнучая, как пешня каленая».
И сказала Мелания устало:
– Пока паси сына-то в Боге, не замахивайся на великое. Скрадывают его легковерные, обкладывают сетьми. Злые, матушка, они завсегда в кучке, аки червие, одним смрадом дышат, завистью питаются и оттого силу имеют. А добрые – поодинке, они духом святым спасаются. А коли призовет Господь-то, и скоро сбегутся праведнички под Христово имя, и никоим дьяволей слугам не одолеть их…
Тогда уж ты не промедли, матушка моя…
Часть вторая
Глава первая
Уж с полгода Никон в Ферапонтове за приставом. Загнал Алексеюшко бывшего собинного друга с глаз подальше, как окуня в мережу. Будучи в патриаршестве, вроде бы рвался Никон в пустынное житье, московскими ночами мерещилась ему одинокая келеица в лесном глухом засторонке, оветный крест у мшистой елины, нора песчаная под выворотнем, волчий тоскливый вой у городьбы, прямо на задах изобки, робкий огонек в каменушке и горький дым под потолком и бесконечный комариный гуд и в день, и в ночь, притрушенный чадом Спас на тябле, и бедные милостыньки в сенях от проходящих богомольников. И еще много мнилось всяких житийных мелочей, что вкрапливаются в монашью жизнь, как кольца кольчуги, и по воспоминании украшают ее особой сладостью.