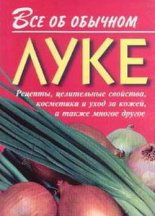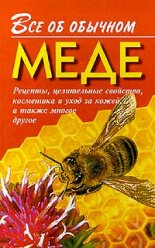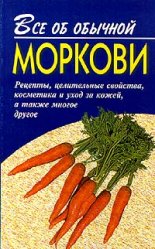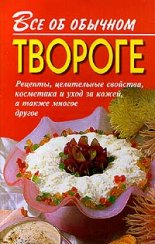Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение Личутин Владимир
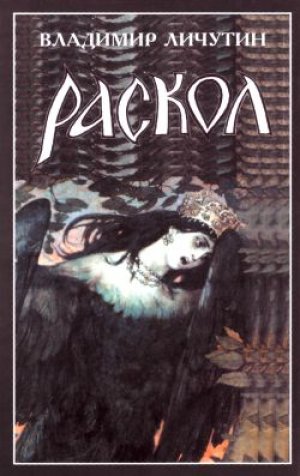
– Без ума-то и вши не поймать, – посмеялся монах и щепотью ухватил солдата. Королеву же окстил двумя персты, боязливо взялся за коруну. Добавил: – У бабы-то меж лядвий пещь огненная, где скоро сгорают все наши добродетели.
– Дурак, да скуснее того на свете нет. Ой, монах, в сс… портах. Ты и знаешь лишь то, как кобели скачут. Изменщик делу, потатчик кривде, рукодельник греху…
– Ежли будет до меня приступать, сбегу. Как хошь. Хозяин, ты приструни баламута. У него не язык, а навозная лопата.
– Ну, будет вам шелушиться, – оборвал Любим. – Да и ты, Васка, не спи.
Васка Татаринов долго думал, слюнявил палец. Велико ли поле, разбитое в клетку, а сколько соблазнов имеет оно, сколько страсти и коварства; и все дурноты, что плевелами изнасеяны в душе, вдруг сами собой прорастают наружу и нет с ними сладу. И невинна забава, да черти ею рядят.
– Иль забыл, как ходят?
– Да не забыл, как ходят, да не знаю, чего поддать. Это сотнику ума не надо. Ему лишь бы охапить, да заглонуть без Божьего извола, без Христова приговора. И лягушка хотела солнце слопать, раздулась на все стороны света – и лопнула. Только пшик…
– Ну ты, монастырский клещ! Я вашу заразу мечом полоню, огнем выжгу, – зарычал сотник, вылупливая дерзкие таусинные глаза; но гримаса была не столько страшной, сколько смешной.
– Нет, милок! Без Божьего промысла, да без чистой души и доброго помысла не взять вам города, сколько ни мечите икры. Хоть и худых людей там порато много засело, да, вишь ли, святыми стенами заслонились на то время… Вот расскажу вам правду одну, хоть верьте, хоть нет. Ежли от Кеми плыть на Соловки, то за островом Кильяки, что в Кузовах, есть луда такая, варака, а зовут тот камень Немецким. И откуда такое прозванье взялось в наших местах? Вишь ли, немчи шли на Соловки, чтобы монастырь пограбить, и на остров пристали кашу варить. Варят они кашу, да и похваляются, кто больше денег да добра в чужой казне наищет. Один-то нехристь взлез эдак-то на гору, увидал с нее монастырь Соловецкий вдали. А надо сказать, что красота-то несказанная. И пригрозил: завтра, мол, красоты твоей не видать станет, всю по камушку разнесем. Да видно, вражьим было это попущением, Божьим изволением: немец, как сказал слова те свои, так и стал камнем, и товарищи его все до единого в камни оборотились. Так немчи и стали камнями… Вот и ты, сотник, допреж времен не хвалися, едучи на рать. Ишь ли, было в старину: мышь слону пяту прокусила, слон возьми и помри. Во как…
– Где потеряешь – не чаешь, а где найдешь – не знаешь, – по-стариковски вздохнул Любим. – Что старина, то и деянье. Ну да и ты, Васка, свое дело верно знай.
Сотник из-за плеча монаха вдруг принаклонился и перехватил с доски коня, а сделав скидку на доске, пристукнул фигурою сразу в чужом стане.
– Не трусь, лядащий. По мне, лучше помереть здоровым, чем гнить живым. Дал замаху, так бей, не дожидаясь, – наставлял сотник, шумно дыша, покачиваясь над столом. Рыжее сеево веснушек на одутловатых щеках вроде бы счернело.
– Не лезь мохнатыми руками, – взвыл Васка Татаринов. – Поди лучше побанься, вонькой, а тогда и лезь в квашню. Ерой сыскался мне. Как бы камнем тебе не оборотиться скоро, хвастун-свистун на киселе.
Монах вернул коня на прежнее место. Любим поглядел на сотника и смолчал, но взгляд его, угрюмый и темный, не сулил ничего хорошего. Ефим Бражников с нелепой улыбкою спехнул сундучок со стола, просыпал шахматы на пол. Любим приподнялся и молча, коротко, без замаха ткнул сотника в грудь. Стрелец шумно, сгорстав скатерть со снедью, повалился на спину и омертвело затих. В обочьях налилась нехорошая синь. Любим, наклонившись над столом, наискивал в лице стрельца признаков жизни – и не находил.
– Ишь вот, явился даве живой, а уже мертвяк, и дурно пахнет, – спокойно сказал монах, заново расставляя на крышке сундучка фигуры. – Помрет – не мучается, ляжет во гробех – не страдает. Такожде и немеч похвалялся, завидя монастырь. А и не оклемается байбак, так и не грусти. Всё в Божьей воле.
При этих словах сотник вдруг шумно вздохнул, лицо налилось кровью. Поднялся, сел на лавку в переднем простенке, набычась, долго смотрел исподлобья, как идет игра.
Любим спросил виновато:
– Слышь, Ефим? Сердишься, что ли, али нет?
У сотника лицо мрачнее грозовой тучи, в лупастых глазах то и дело вспыхивают молоньи, словно бы хочет прожечь хозяина до печенок. А Любим вдруг рассиялся улыбкою.
– Ну, прости. Знать, больно досталось, коли молчишь. И не лез бы в занозу? Иль забыл, что я – Медвежья Смерть? Со мной не балуй…
– Ужо я тебе рога-то обломаю. Найду время. Еще отломится от меня, – пригрозил сотник; из лядунки, висевшей на широком поясе, где должен был храниться огневой запас, достал щепоть табаку, забил обе ноздри, прочихался.
– Знать, и вправду больно досталось, раз грозишь.
– Дурень, знамо, больно. Против сердца бьешь. Духу-то тяжело.
– Любя ведь, леший. По шеям бы надо, – засмеялся Любим. – Так опять голова отвалится. Сгоряча-то не разберешь, куда бить. Достал ты меня… Тебе бы пить нельзя. Ты пьяный-то дурной, и команда без присмотра. Эх вы, гулеваны, батожьем бы вас почаще потчевать…
– Себя и лупи по шеям, – уже отмякая, бормотал сотник. Неожиданно глаза сутырливого стрельца увлажнились.
– Ну ладно, оставь обиду, Ефим Иванович. Нам ли с тобою загрызаться? Давай поцалуемся, как братовья, и больно хорошо.
И они охотно пошли на мировую: обнялись, поцеловались, приняли по чарке и завели песню.
Не в русской натуре тешить зло.
Это немец, ежли поссорится, так затаит обиду до смертного часа и найдет повода мстить.
Глава седьмая
Пришла беда – отворяй ворота.
Вот и Никон сел на ноги: обезножел. Желвы пошли по голяшкам да шишки корявые по плюснам, как из старой березовой болони, и жилы набухли от натока черной крови. Так близкая старость вдруг выказывает себя, выедая плоть.
Не то ныне работу какую затеять – камни там ворочать на замежки, вычищая польцо, иль новины распахивать копорюгою, корчуя вагою пни (тут Никон шел за первого работника), иль невод тянуть за бережную лямку, – но и сдвинуться, с лавки подняться тяжко.
Да еще пристав Степан Наумов, видя, что никаких благ на голову старца не сыплется, никто не зазывает в Москву на патриарший престол, вдруг снова взъелся на заточника, припомнив прежние свои льстивые поклоны. И черный поп Палладий, что прежде вился вокруг великого старца ради сладкого куса, скоро перекинулся к полуполковнику и стал первым его наушником. Не зря Никон в ту ночь метался по окнам: у пристава везде уши понасажены. Гости как явились внезапно, так и пропали в лесах. Но Палладий-то разнюхал и нашептал Наумову: де, были у Никона воры-подговорщики и, де, собрался затворник тайно бежать из монастыря.
И Наумов, не мешкая, отселил служку чернца Флавиана от Никона, оставил старца одного, но нарядил к его сеням два неотступных караула, и стал бывый патриарх и служкою, и приворотником, и стряпущим: дровец наколоть беремя, иль за водой сбродить к святому роднику с бадейкой, иль житье обрядить, – ныне все сам. Прежде-то бегом бы исполнил любую заботу без келейного работника, а нынь и самое малое делается с натугой и крехтаньем. Встал – ох, и сел – ох. Печь-то топится по-черному, дым гуляет по изобке, выедает очи, пока-то сплывет к потолку; вот и ползай, Никон, по полу, как росомаха, спасаясь от чада, и дверей на волю не отвори, скоро стрелец приткнет ее бердышом: де, не лезь, монах, в запретное место.
С месяц отсидел Никон в келеице, как в суровом пытошном застенке. Дымом выело озеночки, и появились на глазах бельма, и белки сжелтели, как у угарного пьяницы, и левая рука в плече от нытья обломилась; в ночь и ряски с себя не содрать без крика… Терпи, отче, то сам Господь на последних летах истинно возлюбил тебя; ибо кого любит Бог, того и наказует; долго мирволил он тебе, попускал в слабостях, а нынь и черной-то икорки, самой поственной строгой монашеской пищи, не видать на твоем столе; и ежли окуня в чешуе притащит какой монах-добряк, да и то тайком да украдкою; а в каравашке житенном, что принесет подкеларник с поварни, можно и последние зубы оставить: куснешь, а окраек-то весь в кровище.
… Эх, тяжело подниматься по Золотой лестнице, получая тумаки и шишки, но тяжче того падать по ступеням, смертно разбивая не столько проклятущую голову свою, сколько душу, изведавшую в былом мягкого да сладкого.
… А Русь-то не позабыла тебя, и самый черный злодей поминает Никона, верша злодейское намерение. Астраханские казаки не решались сбросить с кремлевской стены митрополита Иосифа в архиерейском облачении, и вот, потрясая пиками, готовые, как Христа, прободить священцу под ребра и пустить с откоса, они вопили духовенству: де, сдирайте с Иосифа сан, как он поступил с патриархом Никоном; де, не мы казним совратителя веры и прельстителя латинян, но сам Господь Бог вершит суд нашими руками; и, славя Никона, подняли несчастного на копья в бесстрашном намерении и свергнули со стены в ров, любя своего Заступленника Исуса Христа и чтя его немеркнущие уроки.
… Ах ты, Никон, золотая голова, заради матери-церкви поднявший голос на государя! И как скоро была месть? Еще и облачка белесого не проявилось на окоеме, а уж пронзили тебя греческие шапки грозовой молоньей на поучение иным; и нынче скоро испротух ты, как речная рыбина, выкинутая на бережину, изо рта смрадом несет, ибо кровь из десен точит и точит и в день, и в ночь, и вериги, что бывало носил на груди, как лавровый лист, нынче тяжче жернова и пригнетают долу. Несносима та мука? Так повинися же, святый старче, пади пред Михайловичем ниц, возопи, де, грешен, батюшко! грешен всеми великими земными грехами! и он, Божий помазанник, знать, скоро простит тебя и одарит богатыми мирскими дарами…
Но что-то же держит тебя от покаяния? не гордость ли твоя? иль скудоумие? иль тщеславие сердечное червя малого, возомнившего вдруг о себе, что и он – властелин, ровня царю русийскому?
… Да нет же, христовенькие, не рвался я к славе земной. Не в силе Бог, но в Правде! Ино ради ваших душ, детки мои, страдаю, ради Совести ратился на престоле за каждый библейский аз, чтобы ни в малом не переступить заповеди Спасителя, кои уж давно испроказили неучи и маловеры. Ну, дирывался с ними, было; ну, сосылывал в Сибири; ну, прятал по застенкам не ради злобы, но в смирение и научение; ну, бивал кулаком иль батогом в ризнице иль в алтаре, изгоняя заблудшего из храма. Но для до того и святительский жезл был дан мне. И сам Исус не раз брал бич в руки, чтобы вспомнил проказник незабвенные истины…
Вот так-то от молитвы ино отбредя и призадумавшись на припечном конике, каких только мыслей не посетит голову – то горестно-мучительных, то победительных; но ни одно праздное мечтание, что нашептано утробою, не навестит монаха, уже давно отставшего от греховных соблазнов. Пусть сонмища врагов шатаются в подоконьях, бия батогом в стены и вещая: де, Никон – прелюбодей и сын сатаны; пусть живого всунут в скудельницу иль, как падаль, закопают в скотинью яму; но всякий напуск и наговор на меня по времени станут в неправду и клеветы, ибо к серебру и злату не пристанет никакая ржа…
И-эх! стал и я нынче, как великие раскольниче, что затаились по погостам и выставкам, иные ушли в лес, иль затворились в пещерицы, молясь камню-аспиду, иль березовому пню, иль липовой досточке; и меня, одинокого, никто не призовет на вечерницу; прежде-то всенощную мне, великому терпеливцу, было за благо стояти, так и к этой службе не тянут за бороду, не неволят, как ослушника. Де, пропадай, Никон, в своей проказе, захлебывайся в своем лайне. И оттого, что общей обедни иль утренницы уже давно не правил, чуял Никон особую свою дикость, так непохожую на прежнее затворничество, что избывал в келье на Анзерском острову. Там чернецкое сиденье было в охотку, в душевную нужу, когда каждая сердечная жилка пела вместе с молитвою и вытягивалась в нитку, ожидая Спасителева ободряющего гласа: де, вижу! де, слышу! де, помню! де, незабвенны станут твои постнические дни…
В подголовашке Никон раскопал крохотное зеркальце, опушенное синим бархатом, без нужды пригляделся: в мутном омутке глянул на монаха сыч ли, леший ли лесовой с набрякшими обочьями, с жижицей желтой накипи в устьицах глаз; седатый волос на голове не чесан и дик, как таежное веретье, обросшее можжевлом; в нечесаной бороде застряли окуневые костки; ишь ли, похлебал ушного, а крохи обрать из шерсти поленился. Ухмыльнулся Никон чудному своему обличью и покачал головою.
И возрадовался самому себе: де, совсем отстал от безумного мира и негодных обычаев; слава тебе, Господи, вразумил, как жить и как повести себя.
И уже с интересом перевел взгляд на себя; на ногах валяные черные калишки, толстые басовики с чужой ноги, завещанные схимонахом Иовом, обвисли полосатые домотканые порты, подаренные сердобольной богомольницей, рубаха из плотной суровины внапуск, без чернецкой опояски. Ой, опростился я, как низко пал, а сладко сердцу; до юрода шагнуть остался один шаг, а тогда откроются небесные истины во всей наготе. До чего добредать надо годами, испивая книжных премудростей и умом вникая в каждый аз, тут как бы сами собою откроются врата вертограда, и оттуда воспоют волшебные накры и омоют Светом дремлющий разум… Ежели я существую и в подобном диком теле, значит, для чего-то нужен Господу на сем свете, раз не прибирает меня к себе?..
Прислушался Никон: на воле дождило с ветром, брякало, стонало и хлопало, будто становщики ставили на карбасе парус. Уже стемнивалось, и нынче опять не ждать гостей. Где-то Флавиан бродит вдоль стен кельи, высматривая щелку, а к батьке попасть не может. Прямая нужда видеть его, неотложное дело висит на шее, и время не терпит.
… В Петров пост еще прибрел из Воскресенского монастыря черный поп Палладий и принес страшную весть. Ему бы при Дворе крикнуть слово и дело, а он прибежал сюда, чтобы опереться на великого старца; и вот вдруг сладился с казенным человеком, переметнулся к приставу с надеждою похлебать государевых штей; и не ведает того, проказник, что чужая ложка рот дерет, как бы не восплакать после. А может, хитрован, надул в уши басен, чтобы опосля надсмеяться, и сейчас с Наумовым потешаются надо мною?
… Да нет, прежде я знавывал его добрым священцем. Этаких сплетен понарошку не накрутишь, имей хоть дьявольский ум. Срочно надо гнать в Москву Флавиана, верного моего сына, и спасать царя. Только бы подводу дал Наумов, этот схитник, враг рода человеческого. Кругом ловчие сети понасажены, и не знаешь, откуда ждать подкопателя; все они в сговоре, все… И слать надо Флавиана немедля с изустным уведомлением, но с малым извещением под печатью.
Никон встал на четвереньки, из ухоронки в подпечке, где лежали ухват и кочережка, достал оловянную черниленку, песочницу и отделил на ощупь лист англикской бумаги с водяными знаками, украдкой привезенной усердными поклонниками. Придирчиво осмотрел на свет, подумал: не столбец и клеить, четвертушки хватит. И со стариковской бережливостью ополовинил лист; часто оглядываясь на дверь, как бы не застали врасплох, скоро написал: «… Извещаю тебе, великому государю, за собою великое ваше слово, а писать тебе нельзя, боюсь изменников твоих: послыша такое твое большое дело, меня изведут, а твое дело погаснет без вести… На Москве изменники твои хотят тебя очаровать или очаровали. Я просил пристава дать подводу, чтобы отпустить с великим делом своего человека, но пристав на другой день отпустил в Москву своего человека вора стрельца Якимка, а меня велел заковать и около кельи поставил семь караулов…»
Последнее присочинил, приписал для жалости: слеза и каменное сердце точит.
Никон спрятал весть в тайную склышечку дорожного посоха, приготовленного на этот случай, и только поставил батог к порогу, как не спросясь явился пристав. Плешеватый, сухорылый, он и шапки не сронил, и лба не окстил, а от дверей зарычал, забрызгал слюной, редкозубый:
– Блин гретый, бунташник, заведомый вор! Мало что воров тайком привечаешь, так и на добрых людей клеплешь, бунты заводишь. К Богу одним боком пристал, а как овод гундишь да жалишь. И чего неймется, ска-жи-ся, – уже снизил голос, присел на коник. Взял батог у порога, просунул меж колен.
У Никона в груди сжалось от дурного предчувствия. И чтобы подавить страх, заметался по келье:
– Не суди по чужим изветам. Так и Христа распяли по злому наговору…
– Я не Пилат, да и ты, кабыть, не Христос. Хотя и величаешься живым образом Спасителя, а сам ровно пузырь на луже расскочился. А по морде-то взять, дак прямой разбойник. Давно ли в зеркало-то гляделся?
– Ой-ой-ой! И чего молвишь? – жалобно взмолился Никон. – Давно ли патриархом величал? Вот эту руку целовал!
– И величал. Думал, ты в разум вошел. А оказалось, последний порастерял. Досадитель ты, досадитель и проказник, и много тебя государь милует. Ты куда Русь-то шатнул своей спесью? Надел рясу, так и сиди смирно, не ропщи. Я Алексею Михайловичу все отпишу про твои проказы.
– Охолонь, Степан Григорьевич… Смиреней меня, вправду сказать, и на всем свете не сыскать. Об меня всякий ноги вытрет. Мне бы давно тебя проклясть, да ведь терплю. Хочешь, и пред тобою расстелюся половым вехтем, Божий ты человек? – зубоскалил Никон, потиху накаляясь. Он снова заметался по келеице, делая вид, что направляет на стол, не зная, как лучше приветить дорогого гостя. – Кваску ли тебе прокислого, от чего скулы набок воротит, а таз медяный насквозь проест? Иль каравашка загуселого, стогодовалого? Вон зубы-ти у тебя, ровно алмазы. Иль костку окуневую из лонешней ухи, чтобы в горле застряла? Не знаю, чем и уважить тебя, господин.
Наконец застыл монах под образами, скрестил руки на животе; не чернец стоял пред приставом, а разбойный атаман с приволжских круч, или вожатай из бурлацкой ватаги, иль казацкий голова с гуляй-поля.
И оба вдруг замолчали, недоуменно вопрошая сами себя: и чего запылали костром? какая такая муха укусила? Да нет, не овод клюнул в лядвию, а просто сердце к сердцу не прилегало с живым участием.
Но и этой тихой минуты хватило, чтобы опомнились супротивники. И скрипуче спросил Наумов, пристукивая батожком в пол:
– Ты меня ждал, черноризец? Слышал, что искал меня по нужде. Ежли просишь чего, сразу отвечу: не дам.
– И то чуял… Но сызнова кланяюсь: дай подводу до Москвы сыну моему духовному Флавиану.
– И не дам… На худое дело просишь, богомерзкое. Затеиваешь новую неправду на добрых людей и воду мутишь, чтобы карасей имать. И пеши не спущу, не дам отпускного. А коли подловлю по самоволке, закую в чепи и стул на шею надену. Так и знай.
– Ой и злой же ты человек! – всхлипнул вдруг старец, но глаза оставались непроглядно-темными, как аспид-камень. И принялся снова честить полуполковника: – Не гляди волком-то… Не боюся. Вот прокляну, негодящий, как проклятущего, отдам на съедение бесам. И не сыму анафему и через триста лет, хоть пройди все тартары, как сквозь решето.
– Ты хоть до весны дотяни, – засмеялся пристав, надвинул мурмолку на сухую безволосую голову по самые уши, поднял воротник кафтана. Поставил батожок на прежнее место. – Уймись, старый…
Он взялся за скобу.
– Так допусти хоть к исповеди. Мучается ведь человек, – взмолился Никон, чувствуя себя вовсе несчастным и негодящим.
Пристав не ответил, придавил из сеней дверь. Слышно было, как грозно распекал стрелецкую вахту, грозился губою.
На ранях, только Никон на утреню встал и принялся канон честь, как снова к подоконью прицепился старый седатый ворон и ну долбить клювом колоду. Вторую седьмицу наладился злодей молитву рушить и ворожить бывому патриарху худые вести. В этих годах чего хорошего от жизни ждать? Вот и государь-то, несмотря на повинный поклон Никона, так и не ответил прощением и не вызволил заточника из Ферапонтова…
Ворон смахивал образом на боярина Стрешнева, царева родича; тот тоже клепал на патриарха, клевал и рыл под него подкопы, да, ишь вот, сам оказался в яме, угодил несчастный в ссылку за ворожбу да там и помер.
Никон постучал в переплет рамы, ворон взъерошился, лениво слетел на нижний сук усыхающей березы и стал оттуда злобно гарчать. Теперь худым рылом он походил на пристава Наумова. Никон погрозился ему кулаком и засмеялся: и в затворе монашеском есть свои прелести, жизнь природная, как ни городись от нее, вдруг да и поманит к себе самой неожиданной стороною. Никон распахнул створку оконницы, голос ворона стал басовитым, хриплым и напомнил митрополита Питирима, что выдернул стулку у патриарха из-под самых подушек… Боже милостивый, примстилось мне? иль поминают на Москве худыми словами, вот и икнулось? кого вспоминаю-то-о, переметников, христопродавцев вспоминаю, кому тридцать сребреников дороже матери-церкви и России.
Никого и ничего не надобно мне в этом мире, лишь бы молитва не просеивалась сквозь душу, как в худое решето, но ярым воском своим залепливала все нажитые от изврата прорешки и язвы, закрывая ходу дияволю… Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешнаго! Как распят был ты сердитыми, так и мне дозволь растянуть измозглое никчемное тело на дубовом кресте…
… О чем возмечтал дурень! Башка поехала? Пыщисся, как пузырь на сусле…
Ворон взлетел повыше, на развилку березы. Знать, кто-то шел по монастырскому подворью, огибая монашескую келью. Звякнул бердыш в сенях, стрелец впустил Флавиана. «Ах, сатаненок, – подумал Никон о приставе, – и тебя навестила благодать».
– Евтюшка, – сказал стрельцу, – и твой черед настал. И тебя Господь призвал к доброму делу. Погоди пока за дверью, постой тихо, а после я тебе слово свое отдам.
Стрелец послушно остался за порогом, плотно прикрыл дверь. Флавиан был в черном подряснике, туго обтянувшем широкую грудь, и в черной суконной еломке, русые легкие волосы пушились над висками, как облачки цветка-плешивца, светлые, с дремотной поволокою глаза были по-детски восторженны и доверчивы.
– А я скучал по тебе, святейший, – с порога открылся Флавиан, припал под благословение, и все его плотное скуластое лицо залилось брусничным румянцем. Никон принюхался по обыкновению: от монаха и пахло-то младенцем, только что испившим материного молока. Обличьем он вдруг напомнил боярина Никиту Зюзина, что коротал свои дни в ссылке на Волге… Эх, православные, вроде и под крестом ходите и видом-то агнцы бываете, но душою будто поганые татарове; какого светлого человека опятнали на стыдобу и позору, а меня вините и по сей день: де, я его предал. А я Божий человек, врать не обучен с малых лет, я всю правду обязан доносить.
Никон положил тяжелую ладонь на плечо монаху и зажалел его вдруг, как кровного сына.
– Ежли нестерпимо станет, милок, так ты отступися от меня. Это не грех. Ты веру православную не выдай, а я кто?.. Я – сосыланный, самый грешный человек на свете, а ты здесь коротаешь дни по своей воле. Хочешь – и нынче же сойди от меня. И пристав тебе не указ. Ты не суягная овца, во хлев не застана с чужой горсти ясти, – мягко увещевал Никон.
Но Флавиан не слышал старца, лишь терся лбом о плечо Никона, напирая лицом на железные вериги, что выступали из-под суровой рубахи, как скотиньи ребра.
– Батько, ну будет тебе на пустое молоть. Всё ведь не по одному разу говорено.
– А ты не сутырься. Ты слушай да мотай на ус… Господь не оставляет верных в беде и нестерпимой нуже. Был у меня сын духовный Иоанне Шушера, забрали его у меня враги по клевете, да и спрятали в Каргополь с моих глаз подале. Полагали: из глаз подальше, из сердца вон… А тут и ты доспел, случился возле дозирать немощного. Вы из одних сосцей вскормлены, милосердые, вы Господом опечатаны… Эх, мало я тебя миловал, но больше того строжил да распекал. Да поздно о том плакаться… А нынче спускаю на Москву с этим батожком, а в нем посылочка тайная. Так донеси ее до государя, не урони. А что самое сокровенное, то я на ухо скажу, и ты не промолвись, хоть и силком неволить станут.
И Никон поведал о беде, что скрадывала великого государя со дня на день.
– Да переметника, черного попа Палладия пусть, не промедля, из Ферапонтово в цепях на Москву волокут. А коли запрется, дак и под пытку. Там-то живо откроется, – советовал Никон. – Иди проселками, стороной от большой дороги; от конных скрадывайся, от татей пуще того бережися, те из-за полушки голову сымут; на кружечные дворы не приворачивай, ласковым да приветливым не доверяйся. И тогда Бог пособит тебе. И деньгами не сори напрасно. Даю тебе десять рублей ефимками. Рубель до места и рубель обратно, а остальное – на посулы, ежли нужда прижмет.
Флавиан послушно внимал, жамкал в руках еломку, отчего-то бычья шея в тесном вороте подрясника налилась кровью, даже кудреватые волосы на загривке, казалось, забуровели. Может, оборвать хотел старца? де, великий отче, что ты со мною толкуешь, как с малым дитей; но остановить не решался, и от той внутренней дерзости, что распирала грудь, и натужился молодой монах. В нем сила ярилась, он уже мысленно бежал дорогою, как лесной разбойник с кистенем, и попадись ему какой схитник иль враг рода человеческого, то потечет из горсти, как сыворотка.
Но Флавиан молчал, ибо молчание и терпение – золотые друзья чернца и верные его слуги-душеустроители.
А Никон-то, прижаливая служку и боясь расставания с ним, лишь больше распалялся, словно провожал Флавиана на Господние страсти.
– Да к монастырям не прихаживай, нету к ним доверия. Иные старцы без меня совсем пораспустились; лишь видом чернцы, а сердцем суть волци. Чего им помстится, чего диавол в ухо нашепчет? Ино и под ледник спрячут; сиди, де, Бога ради…
Никон открыл дверь в сени, позвал стрельца. Евтюшка у порога содрал шапку с головы, низко поклонился; косенькие глаза от того усердия, с каким внимал он словам святого старца, вдруг выпрямились; одутловатые щеки, сизые от холода, по-бабьи обвисли на воротник. Экий отелепыш, царев слуга; и чего сыскал в государской службе, каких сытных пашеничных хлебов? Толчись ежедень в карауле, ожидая проказы от заточника иль тычка от пристава; ни семьи тебе, ни детей, ни прислона. А три рубли деньгами годовых, шесть четвертей ржички на прокорм да пуд соли – не особая украса лешачей жизни. И как с нею не очерстветь сердцем? Ан нет, золотыми блестками унизана его душа, ежли ждет сокровенных слов и готова к богоугодному делу…
– Чего позвал тебя, сынок? Знаешь ли ты?..
– Скажешь, дак узнаю, – хриплым, загуслым голосом отозвался Евтюшка и с какой-то тоскою оглянулся на дверь, словно бы завлекли его в келью обманом и сейчас оплетали лукавыми сетьми.
– Вот и пришла минута сия. Помоги, сынок…
Евтюшка молчал, глядел в пол; с плохоньких сапожонок натекли грязные лужи; коричневый пониток, стянутый под животом широким поясом, мокро обвис, и шальвары на коленях напыщились пузырями, по темному сукну залысины от дождя. Эх, север ты наш, Божья сторонушка; как занепогодит, так седьмицу иль две кряду, и все светлое из груди прочь выдует, оставив там лишь мрак и собачьи чувства: выпить бы крюк водки под ушное, забраться на полати и дать храпака.
Никон даже засомневался на мгновение: того ли человека выискал себе в помощники? дубоват видом, мешковат повадками, пронырлив, неустойчив взглядом. Никон помешкал, пожевал губами, повторил:
– Помоги, сынок…
– Чем подмогчи-то? Служивый я, и надо мною есть властей…
– Не бойся ты. На худое не толкну…
– С чего взял, что боюся? – Евтюшка самолюбиво поджал губы.
– Прости, к слову вплелося… Знаю, что не дудка кабацкая, не свиристелка пустошная, но смелый и важливый человек, на доброе поклончивый. Потому я к тебе с просьбою, а ты не откажи, поклонись и мне. Про што дело – то не скажу, да и тебе легше жить. Меньше знаешь, дольше не помрешь. Но верь, братец, батько тебя на погибель не столкнет.
Никон мялся, не зная, как подступиться к сути, вил словесную канитель: и открыться боялся, и нужда окаянная подпирала. Не о себе пекся, не-е… Но и напомнить хотел государю о друге собинном, что прокисал в юзах… Ах, страсти-страсти, они и в глухом куту не покидают монаха, если он не отступается от мирского, не может покинуть стезю водительства. Что, Никон, разве на тебе одном свет клином сошелся? и себя не жалеешь, и стрельца не щадишь. Ведь за ним нет ни прежней, ни новой славы, нет и высокой заступы, кто бы прикрыл могучей спиною; и если Евтюшку обратает неволя, то станет она горше собачьей цепи; стрельцу за измену и ноздри рвать мочно, и уши резать, как того захочет начальная голова.
– Вот тебе два рубли… Я малости и прошу, силком не неволю. Отвори нынче в полночь калитку у квасовареной полатки да выпусти Флавиана… Он человек свободный, здесь живет по своей охоте. Да ишь ли, пристав для острастки через меня и сына моего духовного добре притужает… Возьми, возьми деньги-ти… Это не йюдины сребреники поганые, но Христова милость. Ну, дак как, сговорились?
Никон, будто получив согласие, нашарил ладонь стрельца, горбушкой упрятанную в мокрый рукав сукманины, разжал пальцы, насильно впихнул два венгерских золотых.
Тут на окно с развилки березы слетел старый ворон-каркун и что-то сердито, нагло провещал, вглядываясь в глубину кельи, как нарочный соглядатай, приставленный для досмотру приставом Наумовым. Никон в сердцах схватил со стола оловянную солоницу, запустил в дурную птицу, но угодил в косяк, и соль просыпалась на пол… Ой, не к добру, но к близкой ссоре.
– Зря, батько, напустился, – мягко укорил Флавиан. – К худым вестям. Иль втемяшилось что?
– Чего рыгочешь? Кого учить взялся? – вспыхнул Никон. – Он еще смеяться надо мною.
– И никто не смеется. Не виноват же я, что с такою рожею урожен. Мамка с таткою лепили напоследях, заскребали из ларя остатнюю мучку, да вот и состряпали урода Господа ради.
Флавиан все так же открыто, прозрачно глядел на старца, теплотою голоса, журчанием пустотных слов утишивая Никона, верно зная его отходчивую натуру. И Никон тут же отмяк, виновато отвел взгляд, но, спохватившись, приказал стрельцу:
– Слышь, Евтюшка, тащи ружье. Не могу больше терпеть дьяволю слугу. И в день, и в ночь без отдоху, все точит и точит, как напильник ржу. Нашлет же сатана всяких проказников, а ты, монасе, доглядывай за има, чтобы не нашли они щелку… Ух ты, ведьмак собачий! – погрозил Никон ворону. Тот уже снова взгромоздился в развилку березы и оттуда щелкал клювом, кыркал и скрипел, как дверь в закипевших жиковинах. Евтюшка вдруг загорелся, из сеней притащил ружье, заправил в граненый ствол пороху, забил свинцовую пульку, на полку подсыпал огневого зелья:
– Владыка, и не страшно? Ино грех на душу. Живая птаха, бат тоже жить хочет. Мало ли ей взбулгачилось; может, заснилось что иль оголодала, а вы озлились, – толковал Евтюшка, однако сияя щекастым лицом и готовно протягивая тяжелую пищаль святому старцу. – Погрозили бы лешачихе православным крестом иль кулаком на худой случай, она, глядишь, и опамятуется… Знаешь ли, отче, боевое дело? Себя-то не застрелишь до смерти? Приклад-то пуще упри в плечо, да ноги-ти разоставь пошире, да не стой враскорячку, как баба с ухватом у печи, – забывшись, наставлял Евтюшка.
– Монахи-то и с татарвою бились на Куликовом. Тоже мужицких кровей… Да ты, Евтюшка, лучше бы спросил меня, чего твой патриарх не умеет. Он может и доправить, и заправить, и выправить. Он может и ступни сшить, и басурмана на пику посадить, – похвалился Никон, и все его заскорбелое, морщиноватое, серое, как старая доска, лицо наполнилось самодовольством, и под щетинистыми козырьками бровей нелюдимый взгляд оттеплился.
Птица же не чаяла угрозы и в своей дерзости и нахальстве позабыла всякую опаску. Обычно лесовой ворон от человека прочь бежит, забивается в самую кромешность, в то глухое раменье, куда редко ступает лешая нога; он издалека чует бродника и горловым скрипом дает знать о чужаке всему звериному братству. А тут, дурень, заселился, не спросясь, под монастырские крыши, кропит лайном чешуйчатые купола, выхватывает едомую милостыньку чуть ли не из горсти монаха, да еще и грубит кормильцу.
… Обычно пищалицу ставят на рассоху, полпуда весу не каждая рука выдержит, чтобы не качнулся ствол, не дал сбою. Да ведь и Никон не боярских кровей, житними колобами вскормлен; ему бы рогозные кули с солью на дощаники грузить, а в каждой пудов по двенадцать будет.
Никону келья мала, он упирается головою в притолоку, невольно кланяется матичному бревну. Он согнулся в коленях, встал враскоряку, чтобы подладиться к оконному проему, но гордыня не дает уложить локти на колоду. Он забыл про государское неотложное дело, и про смуты, что угрожают Руси, и про всех злокозников, что мурыжат его в заточенье; Никон вновь простец-человек мирской закваски, далекий от монашеского устава, и сердце его полно трепетного азарта.
– Чего мешкаешь-то? Как рожать собрался… Не-е, с тобою на боях не приведи Господь, затылка уж не подставляй. Другу голову сронишь, – укалывал Евтюшка; он набрался храбрости и, забывшись, почитал себя за ровню.
– Ой, рано пташечка запела-а, когда кот в кустах. Братец Флавиан, ты не слушай пустомелю, а подай-ка очки с полицы, блазнит малость… Сколько этих ведьм понасажено на суку? Две, абы три? Возьму меж има, так вернее. – Никон засмеялся. Он вроде бы тянул время, чтобы ворон снялся с дерева, и тогда можно по-доброму отступиться от дурашливой затеи и себя не умалить; но с этими словами он как бы случайно нажал на спуск, вовсе не целясь. Пищалица лайконула, разорвала монастырскую тишину, келья наполнилась вонючим пороховым угаром. Сквозь дым поначалу и не распознать было работу Никона.
… Ворон же упокоился под березою неряшливым комом, полузатонув в ворохе опавшей листвы.
… Ой, батько-батько, вековечный смутитель мирского духа; знать, высоко вознесся ты сердцем своим, что нисколько не озаботишься о имени бренном своем; будто все слухи, все чужие мнения, поклепы и сказки ты уклал под сапожную стельку, да и примял заскорбевшей плюсною, как лонешнее сено. На кого положил ты надежды свои? Кто всесильный не даст сронить чести твоей? Иль ты так обнадеялся на судьбу свою, что всякая прихоть ложится чистой строкою в небесную книгу твоего житья?
Никон опамятовался, смущенно сунул пищалицу стрельцу.
– Ступайте прочь, не замешкав. Да благословенна будет дорога твоя, Флавиан, и молитва моя с тобою. Спеши спасать Михайловича… А коли на встряску потянут, родненький, так не кляни отца своего последним словом. Шепчи лишь: дай, Господи, терпения и спасибо Тебе за милость.
Никон закрыл створку, сквозь запотевшую слюду, сшитую из мелких лоскутьев, видел, как пропал за углом монах. Стрелец нагнулся, поднял мертвую птицу, перекинул через огорожу. Тут на рысях подскочил пристав и стал пушить Евтюшку. Тот показывал на монастырскую стену и прибрехивал: де, помстился ему вражина, чужой человек: де, уже и ногу перекинул через ограду…
Никон задернул суконную ширинку на окне, затеплил свешник, елейницы под образами и встал на часы.
Уже другим утром стрельца Евтюшку вкинули в студеную келеицу под надвратной церковью, где когда-то коротал свои дни старец Никон.
ИЗ ХРОНИКИ. «… Двадцатого октября шестьдесят восьмого года бояре в присутствии царя допрашивали старца Флавиана, в чем состоит великое дело, с которым прислал его Никон. Флавиан объявил: „В Петров пост пришел в Ферапонтов м-рь из Воскресенского монастыря черный поп Палладий и признался Никону, де, был он на Москве на Кирилловском подворье, и сказывал ему черный поп Иоиль: „Никон меня не любит, называет колдуном и чернокнижником, а за мною ничего такого нет, только я умею звездочетие, то у меня гораздо твердо учинено; меня и в Верх государь брал, как болела царевна Анна, и я сказал, что ей не встать, что и сбылось, и мне государь указал жить в Чудове, чтоб поближе; мне и Богдан Хитрой друг, и говорил мне, чтобы я государя очаровал, чтобы государь больше всех его, Богдана, любил и жаловал, и я, помня государеву милость к себе, ему отказал, и он мне сказал: „Нишкни же!“ И я ему молвил: «Да у тебя литовка то умеет, здесь на Москве нет ее сильнее!“ И Богдан говорил: «Это так, да лихо запросы великие, хочет, чтобы я на ней женился, и я бы взял ее, да государь не велит“.
Призвали к допросу Иоиля. Тот объявил, что приходил к Палладию лечить его, но ни о чем другом с ним не разговаривал, а у Хитрова никогда и на дворе не бывал. Призвали Палладия; тот объявил, что лечился у Иоиля, но ни о чем с ним не говаривал и в Ферапонтове Никону ни о чем не сказывал. Вольно старцу Никону на меня клепать, он затевать умеет. В то время, как я жил в Ферапонтове м-ре, приезжал стряпчий Иван Образцов и привез Никону государева жалованья 500 рублей, да старцам, которые с ним, 200 руб. Никон им этих денег не отдал; я об этом со старцами поговорил, и Никон, узнавши, велел меня из Ферапонтова дубьем выбить.
Иоиля обыскали и нашли книги; одна книга латинская, одна по-латыни и по-польски; книга печатная счету звездарского; печатана в Вильне в 1586 году; книга письменная с марта месяца во весь год лунам, и дням, и планидам, и рождениям человеческим в месяцах и звездах; тетрадь письменная о пускании крови жильной и рожечной; записка, кого Иоиль излечил, и те люди приписывали руками своими.
В ноябре отправился к Никону стрелецкий голова Лутохин; он должен был рассказать Никону все дело, а также спросить: в келию воду сам носит и дрова рубит своею ли волею или по неволе.
Никон отвечал: «Я приказывал Флавиану известить о Хитрове. Я не задержал Палладия и не отправил к государю потому, что надеялся вскоре сам государевы очи видеть. Все ждал, что государь освободит меня и все мои монастыри отдаст. Терпел я год два месяца в заточении и никаких клятвенных слов не говорил. Вперед еще потерплю, а если по договору царской милости не будет, то по-прежнему ничего государева принимать не буду и перед Богом стану плакать и говорить те же слова, что прежде говорил с клятвою».
Лутохин спросил: «Дай мне росписи того, чего тебе не дают из кушанья».
Никон отказал: «Что мне росписи давать? У меня никогда кроме щей да кваса худого ничего не бывает. Морят меня с голоду».
Лутохин справился у монастырских властей. Ему показали, что у Никона никогда без живой рыбы не бывало; показали и садки, где для него хранилась рыба: стерляди и щуки, язи, окуни, плотва. Но Никон ответил, что этой рыбы есть нельзя, она изсиделась.
Лутохину показали кресты, которые водрузил Никон в разных местах с надписями: «Никон Божьей милостью патриарх поставил сий крест Христов будучи в заточении в Ферапонтове м-ре…»
Черного попа Иоиля за еретические кощуны на православную церковь сослали на Колу на тяжелые работы, откуда он через Кемь съехал в Соловецкий город к пущим ворам и заводчикам бунта.
… Стрельцу Евтюшке Попову жгли пятки, дознавались, был ли кто у него в товарищах; он же, подкупив сторожу, выломился из застенки и сошел на Белое море к монастырским сидельцам.
Брата Флавиана Никон отправил на Анзеры поклониться мощам преподобного Елеазара.
Так Никон из устроителя смуты невольно становился ее приказчиком и духовником.
Его имя кляли соловецкие монахи, но с окраин Руси сбегался народишко, чтящий свергнутого патриарха. Укрылись на Соловках многие капитоны-чернецы и бельцы из понизовых городов, где их от церкви отлучили, так те великого старца величали антихристом и псом бешаным; но сошлись за стенами монастыря московские беглые стрельцы, и разинские донские казаки, и боярские беглые холопы, – так те Никона почитали за святого и мечтали вновь видеть на патриаршей стулке; крестьяне же подмосковных волостей, пополняя соловецкую рать, знавали Никона за кроткого милостивца, за Божьего угодничка, за радетеля всякому несчастному смерду, кто не только ноги омоет милостынщику и погорельцу, но и за нищий стол не побрезгует сесть и похлебать штей из одной мисы. Но всякий бунт, как полуночное кострище в степи, притягивает к себе много всякого странного бродячего народу, кому своя жизнь – копейка, а чужая – полушка; вот и на зов соловецких старцев, худо зная русского языка и не ведая тех страстей, отчего затеялась голка в морском оттоке, приплыли иноземцы многих кровей: свейские немцы и поляки, евреи и турки, татаровя и гречане; в общем, всякому злу корень собрался за стенами биться насмерть.
И не мысля о дне завтрашнем, живя одним лишь часом, уж, почитай, восьмой год монастырь противился государю, не желал признать его кощунных новин.
Глава восьмая
Затейщики всякого переустройства, свары и смуты исходят из того глубокого убеждения, больного упрямства и самомнения, что все им позволено, что все подданные, как один, желают перемен; из этого лишь заблуждения, напрочно укрепясь в нем, меньшинство иначит жизнь окружающую по своему вкусу, и норову, и страстям, и силою сталкивает большинство народу с заповеданного предками пути, уверяя, что все старое – худое, все прежнее – изжитое; что в иных народах похвальное, то в наших землях – отвратное: не так ходим, едим, глядим, одеваемся, пьем, смеемся, плодим детей… И чтобы укоренить перемены, глубже запахать семена невиданных досель злаков, затейщики всякое несогласие с собою считают за тупое непокорство, своеволие и стихийный темный бунт… Воистину прав не тот, кто прав, но кто силен, лукав и беспощаден. Во все времена оглушенный затеями народ, искренне боясь новин (и почасту бывая природно правым), бессильно ярится, и плачет, и стенает, ино кулак вскинет с угрозою, иль подкинет огненного петуха под застреху, иль взмахнет секирою над господской шеей, но, увидя всю напрасность протеста, после уже смятенно бредет под ярмом, смущенно уповая лишь на Божью милость.
У кулака своя, лешева, нечистая правда: «Выше неба очи не растут, выше солнца сокол не летает». Но что мог позволить упорный в вере русской человек, ничем не могущий возразить подавляющей силе? – да только что душою поверстаться с истиной, веровать в нее до гроба в скиту ли, в одинокой скрытне иль в домашнем куту, а ежли приведется, то сыскать себе соузника в той каморе, куда втолкнул Михайлович, почитай, всю земляную вольную Русь. А вместях-то можно при случае и стены пошире раздвинуть, и замки сбить.
… Говорят, де, наш-то государь – Алексей Тишайший: де, он и мухи не пообидит, со лба не сгонит, не то на кого грозу самолично наслать; де, он ниже травы, тише воды, и каждое слово его – как алмазное крошево из Господней горсти; де, голоса никогда не подымет, каждого рабичишку обымет, как брата своего во Господе; но исторгнутый из груди глас его звучнее архангеловой трубы и доносится до всех пределов Руси. Так придворные льстецы шепчут, кто творит языческие капища позади православных алтарей…
Оле! Лишь тот, кто истинно верует в Исуса нашего Христа, в Родину-мать и в свой народ, может понять, как трудно, почти невозможно расставаться с обычаями предков, с тем жизненным уставом, с коим бытовали до тебя на земле десятки поколений родовичей; земля веками наставляла и научала, как жить по правде, каких правил держаться, какие премудрости чтить, и, отбросив их за ненадобностью, как ветхое платье, человек как бы становится вдруг нагим и одиноким посреди гульбища, и больше всего и боится-то он, как бы в этой наготе не предстать пред Очии.
… Но, как всегда, устроители гибельного дела, где бы ни затевалось оно, не сомневаются в своей правоте, и эта напыщенная ложная самоуверенность и дает им сердечной ровности даже в самых жестоких и беспощадных решениях. И если и бывают они когда в смущении или духовном томлении, то все сердечные муки истлевают в тайне от чужого глаза или замыкаются в груди до смертного часа.
Ибо невозможно им прилюдно выказать слабость свою и на расстанной площади иль на дорожном крестце посчитаться с совестью своею, ежли она не померла еще.
… И суда-то земного не бывает им даже по долгому времени и здравому размышлению; и хотя бы реки невинной крови пролиты и наши страдальцы из земных теснин вопиют по себе, устроители всеобщего счастия вдруг становятся героями в людском мнении, и тогда им ставят языческие кумирни иль присовокупляют их имена подле православных святынь и курят фимиам.
Господи, прости их…
Святое озеро. Вода не заморщит, светла, как хрустальное стекло, лосая, как бабье зеркальце. Лишь стальной отлив под береговыми кряжами, да кой-где вспыхнет бисерная строчка под лапками жука-плавунца, да жемчужно просыплются брызги от взметнувшейся россыпью рыбьей мелочи. Обломы городовых стен и купола церквей как бы опрокинулись вдруг и успокоенно застыли в водах вниз головою.
Пороховая гарь рассеялась; небо, как церковный потир, обихоженный служкою, – желтое с голубым; крохотное незакатное солнце будто рыжий цветок плешивца. Тихо, мирно, благословенно. Туда, в морскую голомень, отплывают сладковатые облака гари, чада, пахнущие порохом и смертью. Чайки снова взнялись над обителью, вьются над куполами, как клочья хлопковой бумаги. Пушкари банят застенные пищали, льют из кадцей на бомбовые мортиры и гранатные пушки; иные стрельцы, бельцы и служки (издали не разобрать сословия) разметались на покатях крыш, возле барабанов собора, на кровлях церквей и келий.
Воевода Иван Алексеевич Мещеринов, распахнув кафтан на все гнезда, подставив волосатую грудь короткому северному теплу, внимательно разглядывал в зрительную трубку монастырский город, приценивался к угловой Никольской башне, к валунным уступам городьбы, едва хваченной моховой плесенью; солнце скользило по гранитным бруснично-красным валунам, утопало в лещадных сизых плитах, выломленных из прибрежных отмелей, играло в цветной россыпи хряща, хитро убитого меж камней-одинцов, похожих на бычьи оранжевые головы, меж которых кровяной прожилкой текла кирпичная кладка, спаянная известью и куриными яйцами.
… Вода, болото, гольный камень, снова вода, пристенный ров, десять сажен подошвенной кладки и шесть сажен в небо, да восемьдесят пушек по стенам и башням, да сколько мелкого оружья по обломам, – того и не счесть. Тут голоручьем, горлохватом не возьмешь. Ежли и обкладывать крепость, то большим войском, а не малой ратью в шесть сотен стрельцов, худо свычных с осадными боями; да и проломные большие пушки нужны, и городки с тарасами, чтобы орудья выставить для прямой стрельбы поверх городовых стен, чтоб сшибать из засидок воров.
Мещеринов мысленно вздымал приступные лестницы, примеривал тайные подкопы, чтобы подвести взрывной фугас, выглядывал прорехи в кладке, плохо задвинутые калитки, и ворота, и скрытные ходы, куда бы можно проломиться в ночи, и откуда смогли бы явиться с неожиданной вылазкой глумливые воры; но нет, везде крепость уноровлена, по-хозяйски уряжена, будто собрались монахи сидеть вечность иль вовсе отложиться от государя, нет ни одной просовы и щелки, куда бы можно проточить хоть палец. Вот и Клим Иевлев с тысячью ратников проторчал под монастырем два года, да ничего так и не высидел, окромя дрязг, и безденежья, и бесхлебицы, и снялся с безделицы назад в Москву. Прощен ли будет? Государь редко шутит и если нетерпелив нынче и шлет ежедень посылки с указами чинить бои без промешки, значит, прижгло Михайловича в самое сердце; и надо Мещеринову варить скорую кашу и добре мешать, чтобы не пригорела, как бы самому не оказаться в опале. Вот отчего с такой прилежностью он обнимал взглядом Соловецкую крепость, словно не святой то был монастырь, но вражий шляхетский стан с надменными панами… Тех-то бито было и в хвост и в гриву, бежали прочь, только уноси Бог ноги…
Из окопа воевода вылез на тарасы, плотно убитые камнем-хрящем, привалился к пушке и задрал голову, уже не боясь острастки; поди, надоело собакам, часов пять до полудни били по городку из большого наряда, ядро по девяти фунтов, не давали головы высунуть, не то чего доброго сделать, а сейчас, как бы справив нарочное послушание, сошли в трапезную. Никольская башня, куда рукою можно камень добросить, походила на слоновью ногу: сунься под ступню – и мокрого места не станет… Экий циклоп ворожил крепость, словно бы выдувал каменный пузырь из гранитного крошева: тут и великану Сампсону, великому самохвалу, что ослиной челюстью однажды полторы тысячи врагов сокрушил, но вином упился, не достало бы силы и хватки… А ненокотский монах Трифон, этот долгогривый туземец, не особо видный собою и тонкий, как тростка, одной лишь волею, сноровкой и Божьим благоволением сбил из камня-дикаря экую неприступную заграду. И ума-то у него достало. Да и у тех трудников и молитвенников, что ломали лещадь и ворочали вагами валуны, перекатывая на подмости и полати, откуда мочи хватило? Ведь еда была не нынешняя, особо постная, – житние высевки с корьем заместо колобов, да грибки тяпаные и редкой день рыбье звено в ухе. Это нынче расповадились грешные: им шти с маслом подавай, да разные масляные приспехи, да семгу, да икру в кажинный день, блины и оладьи, да курушки рыбные, кисели да яишницу, огурцы свежие да рыжики. Разохотились еретики с жирной ествы, попустили дрянную плоть свою к скоромному, голову – к пустошным мыслям, а сердце – к гордыне…
Так честил воевода воров государевых и вдруг вздрогнул, метнулся в окоп. Кряжистый, приземистый, он не сплоховал, однако, ловко скинулся в шанец к ногам караульного стрельца; воровская пуля из-за монастырской стены высекла искру из тарели, опоясывающей ствол пушки, и с пристоном ушла в небо. Кто-то в городке засмеялся, но тут же и споткнулся под мглистым взглядом Мещеринова. Толстые с проседью усы воеводы навострились, как злые пики. Воевода вскочил на тарасу, погрозил монастырю. «Вот ужо погодит-ка, сволочи, – визгливо вскричал. – Я вам глаз-от на ж… натяну. Будете свое лайно жрать, поганцы…» «Идит-ка ты на… Свинячий хвост, заячиное ухо. Прижарим нынче на огоньке, а опосля поперчим, да присолим, да похреноватим, чтобы не пахло назьмом, так ишо скушаем вас за милую душу и в один присест, проклятые жидовины, христопродавцы, сатанаиловы дети… Да пусть выродки ваши станут жабами, а бабы – курвами, а матери – змиями!» – сразу раздалось в ответ со стены. Замелькали в проемах и бойницах башен лица, засуетились пушкари, и началась вдруг такая ружейная и орудийная стрельба, что небо скоро задернулось плотным серо-дымным запоном, как в осеннее предвечерье.
Чайки со стоном взнялись над обителью, скатились на Муксалму, чтоб переждать человечью свару.
Воевода осклабился, нервно заводил бурой шеей, будто перетянуло воротом, и смуглое худощавое лицо приняло злое выражение. Зубы у Мещеринова были заячиные, лопатами, оказывается, едва влезали в рот, таясь в длинной бороде, да и те стояли вразнобой, как худая огорожа. Мещеринов, уже не прячась, взмахнул сабелькой, у пушек споро завозились запальщики и наводчики; стрельцы, укрывшись за убитую камнем насыпь, принялись дружно палить по обители. И у Белой башни, где на отводном карауле стоял ротмистр Гаврила Буш, и у кожевни на шанцах, где засел сотник Матвей Ясановский с командою, тоже завелась заполошная перестрелка не столько на поражение, сколько для устрашения друг друга, чтобы вор зря из-за стен не совался на волю, и чтоб незваный недруг не вздумал спробовать монастырского свинца.
У Никольской башни городок оказался как бы в мертвой зоне, не могли поразить монахи ни пушечным боем, ни со стен, потому, досадуя, взобрались на Спасо-Преображенский собор, и на звонницу, и на портную полату, и на Успенскую церковь, чтобы хоть с крыш наддать антихристовым слугам из винтованных карабинов, подсыпать горячего уголья в штаны. Гранаты летели на обитель, как хвостатые кометы, и, взрываясь на монастырском дворе, высекали снопы оранжевых искр, насмерть поражали замешкавшихся; от поленниц с дровами и деревянных кровель занималось пламя, белесое, с дымным хвостом пламя, но огонь скоро заливали монахи. Люди с той и другой стороны ополчились всерьез, запах серы, и жженого камня, и крови, оказывается, возбуждал и горячил чувства не хуже горелого вина; глаза стали злыми, шальными, с отсутствующим взором, как у ищейных собак, почуявших зверя, и всякому, кто ввязывался в драку, захотелось крови. И о жизни своей стрельцы вдруг перестали заботиться, они матерились, оскалясь, подначивали друг друга, и каждый больше всего боялся пасть в глазах других, выказать слабость и трусость, хотя и не всякий был храбрецом из первого десятка…
Мещеринов же так и застыл на земляном городке в клубах удушливого дыма, невдали от безоткатной бомбовой пушки; оглохший, нарочито отворотясь от монастыря и презирая пулю-дуру, он каждому залпу запоздало давал отмашку турской сабелькой. Но навряд ли видели его пушкари, они слушались своего порутчика; они выцеливали Никольские ворота, чтобы пробить бреши, а стрелки за валом метили по бойницам, по переходам крепостных стен, где суетились мятежники. Гряку-бряку было много со всех сторон, и от Святых ворот доносился бой, в самую голомень, поди, к северным немцам скатывался этот громовой гул, но для мятежников стрельба не приносила никакого урону. Ядра отскакивали от стен, едва выщербливая язвы и выбивая облачки кирпичной пыли; валуны, как головы мамонтов, лишь наддавали чушкам, и те, отразясь, падали в ров и там шипели, остывая в воде. Так можно и год, и десять лет проторчать безо всякого проку пред мятежной крепостью, и лишь решительный приступ мог бы разом кончить дело.
Монастырь решил, что дал непрошеным гостям страху, преподнес урок, и сразу отступился от перепалки. И сама собою стихла стрельба с другой стороны; наступила звонкая тишина; отупевшему воеводе казалось, что его вынули из каменного мешка и поставили противу солнца. Он присел на станок пушки и вытер фусточкой распаренный лоб, зачем-то озираясь по сторонам, будто подсчитывал урон. Лишь один стрелец лежал в ложбине за пригорком с оторванной по рассоху ногою и мучительно стонал, закатывая глаза, быстро мертвея лицом. Ищущий взгляд его наконец отыскал сидящего на раскате воеводу, с надеждой о чем-то спрашивая его, а Мещеринов лишь глуповато улыбался и вытирал с лица испарину. Он устал вдруг, тело его будто измозгло после маятно надсадной работы, закоснело от долгой грязи, и чужая боль не достигала сердца. Да и чем мог помочь он? каким словом ободрить, чтобы вдунуть силы в отходящую душу?
Слуга поднес воеводе романеи из походной баклажки, нацедив в оловянную чарку, и, только выпив вина, Мещеринов наконец-то опомнился от сполоха, уже хозяйским взглядом обвел окрестность: в полуверсте, где войско его стояло табором, голые стрельцы забродили в Святое озеро, окунались с головою, терли друг друга жидким костромским мылом и толченой дресвою: радые жизни, они ржали, как стоялые жеребцы, и их гогот далеко разносился окрест, нарушая предвечернюю, такую странную сейчас тишину. Мещеринов перевел зрительную трубку вдоль стен к Белой башне, ему захотелось знать, как поверсталось в другом земляном городке, не затеяли ли презренные воры удачной вылазки и напротив Онуфриевой церкви, чтобы подсадить сотника Ясановского на пику. Но ни от Святых ворот, ни от Белой башни не было гонца с дурной вестью, и воевода скоро успокоился. Хотя случай мог быть самый заполошный и каверзный с печальным исходом. До Святых ворот от Никольской башни станет все четыре версты с половинкою, и кабы случись там беда, помощи никакой не оказать.
Воевода велел подать раненому вина, но уже не понадобилось. Стрелец затих; его повалили на полость и отнесли в полковую часовенку. На стрелецком кладбище за озером вечером выроют еще одну ямку.
Мещеринов принял вторую чарку, вытер лицо фусточкой, поправил пуховую белую шляпу; вечерело, золотистый туск уже лег на небо, и пришла пора подаваться к вечерней выти; вот и на поварне в лагере уже отбурлили кашные медные котлы с кулешом, и стрельцы разлеглись возле балаганов, готовые к трапезе. Воеводе отчего-то вдруг расхотелось покидать шанцы; за две седьмицы он словно прикипел к земляному городку, к валам, отсыпанным из хряща, и к раскатам, высоко вздыбленным для пушек, и к мортирам, задравшим в небо зияющие жерла, и к медным начищенным пищалям и фалконетам, и единорогам, горделиво украшенным по стволу, к грудам ядер и гранат, упакованных в берестяные корзины, бережно обложенных сосновой стружкой и сухим мхом, к человечьему поту и пороховому смраду, к запаху крови и смерти, неотлучно витающей средь солдат, в минуту отдыха вповалку лежащих в своих печурах и возле деревянных станков. Одной разрывной бомбы со стены, совсем случайно угодившей сюда, хватило бы из этого военного порядка сделать месиво из человечины, маслянисто-черной земли и гранитного крошева… Мещеринов решил встретить самолично караульную смену, расставить ее в ночные дозоры и лишь тогда податься на ночевую в свою лодью, стоящую в губе Глубокой напротив Святых ворот. Там поджидал его сын-отрок и, наверное, распереживался за отца. Там челядинники уже давно сготовили стол, желая угодить суровому хозяину. К воеводе подвели красного коня с белой звездой во лбу, взятого в монастырской конюшне, но Мещеринов вдруг дал отмашку, чтобы стремянный погодил.
… Этот городок на репищах трудно дался воеводе. Бывший голова Клементий Иевлев пожег все монастырские вонные дворы и амбары и службы, а сам отплыл прочь, и в этом месте монахи свели лес вчистую, оставили лишь пеньё, и по-за огороды под стеною насыпали земляные валы и засели за караулом. Второго июня прибыв на Заяцкий остров, что в пяти верстах от монастыря, Мещеринов отправил полкового священника Димитрия, да сотника холмогорских стрельцов Ефима Бражникова, да подьячего новгородского приказа Смыслова уговаривать мятежников, чтобы они пришли в чувствие, образумились наконец, обитель бы отперли и впустили воеводу с ратными людьми, чтобы всю проказу закончить миром.
Но пущие воры соловецкие и заводчики не открыли ворот, ключей от города не вынесли, но сами вышли на пристань, а с ними же многие мятежники с ружьями и бердышами, и поначалу хотели до смерти убить посланников, да сдержались; но такие лживые пригрубые слова толковали и на царя, и на веру православную, называя ее латинскою и жидовскою, что у послов уши пообвяли; уговорщики удалились на лодью и сплыли назад в становье к полку, благодаря Господа, что остались живы. Другим же днем Мещеринов переправил полк на Соловецкий остров и триста стрельцов бросил к Никольской башне, и к Святым воротам, и к каменной кожевне и всех изменников выбил из-за валов, загнал обратно в крепость, но на том бою был убит порутчик Василий Гутковский и двух стрельцов ранило. И вот уже двенадцать дней били из монастыря по шанцам из большого наряда, кидали ядра по девяти фунтов, крепко обложили огнем да еще и в минуты затишья со стены орали всякие поносные хульные слова, каких свет белый не слыхивал, честили и воеводу, надсмехались над ним и обещали в скором времени залучить в плен и бросить в темничку крысам на поедь. Вот и сейчас с минуты на минуту особо ретивые бельцы и монахи вылезут на облом и в проемы бойниц, облепят покати крыш и галдареи и подымут ор, станут собачить стрельцов, обкладывать матерно, стремясь больнее задеть душу, чтобы вывести мужиков из себя, затравить на стрельбу…
К вечеру засиверило, по небу пошли рудо-желтые перья, как бы волшебная птица-сирин распушила царский хвост; по небесному таусинному шелку выткались на склоне невиданные цветы, как на кисейной запоне в боярской опочивальне. Лес по гривам за Святым озером стемнился, заугрюмел, оттуда потянуло сквозняком. Воевода почувствовал, что остыл, запахнул кафтан, застегнул на все гнезда, пуховую шляпу натянул по самые брови и вдруг без злобы погрозил монастырю, вроде бы вызывая чернцов на ответную дерзость:
– Ну погодит-ка, залупанцы… Сколько веревочке ни виться, да на конце петелька будет по ваши шеи… Сучьи потрохи! Назем свиной!..
И оскалился воевода, выказав заячиные зубы.
В ответ из Никольской башни выметнули на лопатах человечье лайно.
… Соловки.
Для одних – чужедальняя сторонушка, непролитая горькими слезами, почитай, самый край света, окруженный полуночными льдами, за которым начинается смрадное провалище, зовомое тартарары, попасть сюда – как в гроб живым лечь; для других – сладкая обитель, напоенная Божественным мирром; для одних – бесова дудка, где в свои накры и гудки наигрывает сатанинская рать, а для поморянина – это свойская, родимая землица, воистину райское место, и как желанно, ежли настигнет беда, угодить в уносе хотя бы на голимый камень, зацепиться хотя бы за клок этой северной землицы, со всех сторон подбитой водами моря Студеного.
Мшистые рады с пушицею, с зазывными рудо-желтыми морошечными кулигами, и болотины, плотно усаженные клюквою, и рыбные озерины, окруженные травянистым кочкарником, и лесные поляны с дудкой-падреницей и морковником, и желтыми кубышками, с тем высоким, вяжущим ноги разнотравьем, от коего скоро пьянеет самая тверезая голова; тут и чащинные березовые ворги, заросшие багульником, и голубелью, и грибом – этой лешевой едою, и звонкие сосновые боры с брусничными разливами, и елинные куртинки по озерным обмыскам, где рай всякой нечисти, собирающей свои рати на монастырь, и каменные гряды вдоль морского отока, унизанные птицею, и узкие, как нож, губы, пристанище сельди, и сувойные, с крутым течением салмы – все это и есть острова Соловецкие. И в какую бы сторону ни ступила твоя нога, в какой бы бурелом ни угодил дуриком, – лишь остановись, прислушайся, и ты поймаешь раскатистый грозовый гуд Студеного моря; в день и в ночь оно бессонно накатывает пенные валы на каменистые корги, бьется о гранитные уступы, и тогда водяная пыль, пряная от морской травы, сеется далеко вокруг. И если выбрести из леса на самую гору о край моря и застыть на крутике, то увидишь, как в голомени, горящей тихим бестелесным огнем, поверх мерного качания воды вдруг вспыхнет гнутым веретенным телом зверь-белуха и, как бы играясь с тобою, отворит пробку во лбу и выбьет с напором в небо радужно-жемчужный жгут морского рассола; а в песчаной релке почти к ногам твоим прильнет серая пятнистая зубатка и уставит на тебя сквозь прозрачную слюду немигающий пронзительный взор; иль рыба-семга дугою вскинется над гладью и, как серебряный слиток, сверкнув на солнце, в какой-то миг затихнет в воздухе, а обессилев, с шумом и плеском опадет обратно в атласные свои постели, рассыпая вороха брызг.
… Это первым насельщикам было тяжко орать скудную пашенку; да и в те лета почасту выпадали зябели и замоки, а что кинут в землицу, того и не собрать. Но после, как обзавелись по государеву указу соляными варницами, да рыбьими угодьями, да лешими озерами и охотничьими путиками, речной торговой посудою да многими обжами земли, и оброчными мужиками, да когда обложились каменными стенами и стало почетно положить в обитель свои вклады, чтоб записали в литию и подстенный синодик и вечно поминали по монастырскому чину, доколе Господь Бог благоволит той обители стояти, и когда ризницы заполнились дарами, а казна деньгою, – тогда и монастырь-то стал не просто монашеским скромным житьем и неприступной крепостью для порубежного вора, но, почитай, самой островной соборной республикой со своими волостелями и войском, и срядом, и урядом, со своей налогою и судом, и расправою, с кем считаться было не зазорно не только государю московскому, но и свейским королям, подсылающим на Соловки своих послов…
Но сусеки те и закрома не сами собою полнились, не сами собою ставились церкви и полатки, но трудами многих безвестных иноков, и трудников, и бельцов, и обетников, что, не жалея о суровом послушании, повалились на погост; и стараниями тех старцев, и усольских приказчиков, и игуменов, что каждую копейку собирали в сундуки, полагая, что рубль без полушки не живет; и помыслами тех святых отцев, что не щадя живота своего пасли завещанных овн, вплетая каждый серебряный грошик в венец северного исполина.
Вот и митрополит Филипп из рода бояр Колычевых, позднее удавленный же боярами, немало положил трудов на созидание обители: вычистил луга, завез скот, провел дороги, устроил больной братии больницу, учредил здоровую пищу, внутри монастыря подле сушила поставил каменную водяную мельницу молоть зерно на хлебы, для чего семьдесят ближних озер соединил канавами со Святым озером; в братской и общей кухне прокопал колодезь, куда вода шла через подземную трубу под крепостной стеною и зимою обогревалась нарочно устроенной печью. Сверх всего св. Филипп на островах Муксалмах срубил скотиньи дворы. Он же развел на острове лапландских оленей, завел салотопни и жироварни и обширные конюшни на четыре сотни голов; воздвиг соборные церкви, огромную трапезную, вмещающую сверх тысячи едоков; близ монастыря нарыл насыпи, и каналы, и каменную пристань, завел разные машины в помощь трудникам; заимел кирпичные заводы, заменил старинные чугунные клепала колоколами… При нем же были построены каменные поварни и сушило. И возле Спасо-Преображенского собора великий труженик, устроитель земли русской самолично выдолбил себе могилу долотом и киркою, в нее и положили со временем святого монаха, удавленного боярами. Оказывается, как много может сделать человек, если он полон любви к ближнему, когда жизнь свою почитает за мгновение, незаметно перетекающее в вечность; возлюбя Господа, он с любовию созидал на северном камени, обложенном льдами, потом своим и ближних трудников оттепливая и вспаивая черствую землицу.
Жаром своего сердца Филипп Колычев хотел возжечь светильник пред алтарем, чтоб все пришедшие обогрелись у него и возлюбили ближнего, как самого себя, и в этом пламени митрополит сгорел, как Христос, слишком многого желая от других, идущих иной стезею. Он от зачурованных и от очарованных захотел чистого житья. Филипп проповедовал, не прижаливая никого из властей; но и дворцовые прихилки, и льстивые примолвки, и лживые обещания, кощуны и обманки он с горя почел за русский нрав. Говорил, обливаясь слезами и негодуя: «У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды; везде славится милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым. Сколько невинных людей страдает. Мы здесь приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Грабежи и убийства совершаются именем царя».
Но ведь Русь сама приняла Филиппа, как жертвенного агнца, положила на алтарь и стала поклоняться ему. Но она и Грозного почла за сурового, но праведного отца. Да так ли глуха, немилосердна и жестока была Русь, коли считала себя Домом Богородицы и мирром, истекающим от невинно убиенных, целила душу свою.
Справедливо и то: вот свез прокуда Никон св. мощи Филиппа Колычева с Соловков, запустошил ямку возле стены Спасо-Преображенского собора, выкрал с соизволения Тишайшего нетленные те мощи, охраняющие обитель от всякого соблазна, а бесы тут как тут: через стены не взлезли, так сами монахи, потакая утробе своей, допустили сатанину рать в Святые ворота, встретили хлебом-солью: де, идите к нам и правьте. Вот и направили вражьи угодники пушки-галаночки, окропили нечистым духом еретическим и давай палить смертным боем по православным братьям, словно бы очи их вдруг залило смолою…
Эх, знать, не ведают, сердешные, что творят. Так шептали по Москве. И кто молился за верных, кто клял отступников. Все смешалось в Доме Богородицы.
… Со всех сторон осадил воевода мятежников. Но как их выкурить из-за стен? какого зелья подсыпать кромешникам, чтобы проняло до печенок и сами бы поклонились государю. Но ежли человек решился умереть, он при любом догляде и в любых юзах украдет желанную минуту, чтобы обрезать себе жизнь. И этих вот выб… уговорами и молитвами не проймешь, коли сговорились меж собой до смерти противу государя стояти.
И решил Мещеринов деятельным умом: ежли жаждою и голодом не выморить воров, а хлеба в амбарах насыпано лет на восемь – десять, то можно же всякими теснотами изо дня в день прижимать воров, точить их язвы, создавать всякую неудобицу, а то и подсылать льстивые посулы и ложные наговоры мятежникам, чтобы смущать душу, и те в глухом сиденье в малом кугу, когда и ближнего сотоварища рожа обрыднет, скоро сами себя возненавидят, начнут люто грызться и побегут вон. И что св. Филипп в свое время измыслил на благо, воевода решил его труды похерить.
Из отписки Мещеринова государю:
«… А которые, государь, проведены были семьдесят озер в Святое озеро, я те истоки велел засыпать накрепко, прокопать и спустить в море. И у них, воров, в Святое озеро прибыли нет ниоткуда. И мельница в монастыре молоть перестала; а в осень и весною с дожжей и снегу вода с горы в Святое озеро пойдет, и у них в монастыре мельница учнет молоть по-прежнему; и я, холоп твой, осмотрел место, что можно та вода из Святого озера выпустить в Гагарье озеро, а рву, государь, по мере будет копать семьдесят четыре сажени, и как из Святого озера воду выпустить, и не только мельница молоть перестанет, что и в монастыре трубами в колодезь вода не пойдет, а рва мне для выпуска воды копать некем, ратных людей мало, и те на работе крепят шанцы и стоят в караулах непрестанно. А в твоей волости, которые даны в Крестный и Соловецкий монастыри для работы посошных людей, без твоего указу послать я, холоп твой, не посмею. А надо на ту работу, что вода пропустить, сошных людей с двести и больше…»
Царского стремянного, бывшего ныне как бы не у дел, воевода послал досматривать за сошными мужиками, что заваливали камнем и землею канавы, прорытые к Святому озеру еще во времена игумена Филиппа, кайлили к морю стоки и спускали воду. Вроде бы не в явной опале служивый и к вине допросами не приведен, но не стало к нему веры: из Новугородской чети и из Тайного приказа доносили в челобитьях, чтобы за стремянным держать крепкий глаз; ведь среднего брата Феодора Мезенца казнили в Окладниковой слободке за бесчиние и хулу на царский дом, старший брат Феоктист-монах нынче засел с бунтовщиками в Соловецком городе на острову, из обители прочь нейдет, вот и от младшего брата по всем приметам не вем чего ждать, может и сблудить, огоряй и ворам потаковщик, ибо норовом вспыльчив и переменчив, в житье одинок, к деньгам холоден, с ближними по службе резок и дерзок, к начальству не поклончив. Полковой священник приступал к Любиму с расспросами, к исповеди почасту приглашал, но стремянный, наверное, ваньку валял и ни в чем дурном и смутительном не открылся. Но ссадил Мещеринов Любима Ванюкова со своей ладьи, отправил в шатры на стан, к трапезе своей не приваживал, вином более не угащивал, совета не испрашивал, хоть и был стремянный выходцем из поморских мест, за шахмат с ним не садился, чем сыну, влюбленному в молодца по уши, досадил до слез и уныния.
А у стремянного, словно родимого дома не покидал, все стонал в ушах воп матушки Улиты: «Прокляну и до скончания века быть тебе проклятущим, дьявол косоротый»; а в глазах стояло истерзанное муками измозглое, как коровья кость, лицо брата, присыпанное снежной пылью, с мерзлым колтуном волос; таким откопал юрода из сугроба за Иньковым ручьем, в подобном виде, как из могилы восстав, когда-то явился Феодор в слободку середь зимы, бредя за опальным обозом протопопа Аввакума. Ночью в избе Феодор отмяк, отволгло лицо, покрылось испариной, глаза приотпахнулись, и оттуда потекла густая теплая синь, и губы прираспустились, и в черной ямке рта, как почудилось Любиму, обнаружились молочной белизны зубы, и седатая шерсть на скульях как бы завилась в баранью смушку. Ой, и чего только не помстится с горя при свете лучины: это десны обметало плесенью от постов и долгой туги. Мать разобрала гребнем волосы, обмыла родное тело, завернула в холщовый саван, а на Любима и не взглянет, каменная и неприступная, будто на нем лежит вина; будто бы он, повязанный служебной лямкою с государем, перенял и на себя немилосердность его сердца; вроде бы он, Любим, заместо палача накинул на шею пеньковую петлю и столкнул брата с березовой стулки.
«Тебе бы умереть-то, а ты застишь свет, отелепыш, как сухостоина в бору», – не слыша слов своих, ненавистно шепчет Улита Егоровна, творя смертную обрядню, спешно проговаривая Псалтырю, подслеповато выхватывая из рукописанной полууставом книги, а больше прималвливая по памяти; многих отчитала на своем веку, и сама стала как корявая березка на юру, и оттого горько старенькой, что некому будет закрыть ей глаза, а этот байбак, что очарованно и нелепо застыл за спиною, завтра съедет из дому, и больше не видать меньшенького до скончания веку. Ведь для себя рощен-то, для своей юдоли, чтобы байкал мать в дряхлости, а он, шатун, не только родимый порог забыл, но и родову свою обрезал. Разрывается сердце матери от жалости, любви и досады: эта горечь точит искипевшее сердце, и Улита Егоровна не знает, как бы больнее ужалить сына, чтобы прожечь его до печенок и он бы очнулся над телом замученного братца. Продался, знать, продался за тридцать сребреников, вот и привечен государем-антихристом, привязан к ноге, как пес дворной, чтобы ворчал и кусал…
Открыли подполье, Любим слез в скрытню, из выломанных половиц, из продолбленной наспех ямки, едва освещенной стоянцом, дуло пронзительно и стыло, словно бы это была сквозная дыра не в сердцевину земли, а в небесный аер. Так возносятся праведники. Юрод рубил скрытню для себя и вот спрятался в ней навеки. Как знал: пригодилася. Расплывчато колыбалось вверху лицо матери, приспущенное в лаз, из повойника выбилась на лицо седая жидкая куделя, морщиноватое лицо налилось багровостью от напруги; на передызье тошно выли собаки, облаивая судьбину, на воле пуржило и стенало; белый куль, обвитый рогозными веревками, скользнул в объятия брата; пригорбленный от тесноты кельи, Любим как-то нелепо застыл на миг, не решаясь расстаться с мертвеньким, а после просунул Феодора под доски, пригрузил веригами, положил на грудь иконку Пантелеймона целителя, крохотную поистершуюся дощечку с ладонь величиною, где лик святого был едва ли больше ногтя.
В чем же вина юрода, чтоб так непростимо, с таким гневом и жесточью прогнать его прочь с земли? Не заразил никого пикою, не пронзил ножом, не обокрал живота, не раздел – не обездолил, но лишь святую правду вещал, скитаясь по белу свету, и вот те обкусанные, неровно и нелепо выкрикнутые с папертей слова его показались волостелям страшнее свинцовой пульки и больнее палаческих огненных печатей?..
Любим прислушался к себе, мучительно вороша память и стараясь вызволить из забытья какой-то особенно страшный проступок Феодора, за что бы следовало убить того до смерти. И не находил… Сидел в скрытне, бегая от воеводы? – ну так монахово то, скитское дело, оно неподвластно суду; брезговал церковью, избегая ее? – так наложи суровую епитимью; бродил по Руси без путевых наказных бумаг? – так какие писчие нужны прошаку, милостынщику, что молится за всех грешных, выпрашивая для них милости у Господа; ну, бывало, терзал речами снулое приказное сердце, горделиво выхаживался пред боярами, ломал пред государем из себя пророка, – но и эта вина не для смертного же суда?
«… Иль недотыкомка я, верный балабон? иль в голове мох? – раз не могу разобраться в простом деле, что выеденного яйца не стоит, – думал Любим Ванюков, блуждая по Соловецкому острову. – Иль действительно не сердце у меня, а каменная варака, ежли немилосердно, не слезливо оно. Погиб братец, хоть бы крохотная слезинка выпала из глаз, хоть бы защемило сердце от кручины, – вдруг изумился Любим, отрешенно дивясь своей черствости. – И неуж душа в огромном теле моем меньше просяного зернышка?»
И тут за плечом прошелестело: Господь все может дать в один час и отнять в одну минуту… Милый, сынок, тебе ли уразуметь холодным умом и бездетным сердцем Божьи истины, что посеяны вкруг тебя. Лишь нагнись и подыми… Но куда тебе, поясница переломится. Кто не страдал сам, тот не поймет чужих мук. Не вороши памяти своей, живи прохладно у сытых даровых хлебов, ибо все одно не понять, для чего столько мучился твой брат. Подскажу: он к совести пробивался, он своеволие человечье и гордыню взламывал истошным воплем; де, очнися, перестань мучить ближнего, и он – брат тебе.
Сынок, манна небесная на тебя просыпалась, лишь свари кашицы и напитай черева; но с каждой ложкой хлебова помни: самое неверное – это милость сильного, она нежданно приходит и так же вдруг убегает прочь.
«Где уж мне понять, темному! Кочерге ведь молюся, окаянный! – вдруг неведомо на кого разгневался Любим. – Ежли вши платяные засели в прошвах, так давить их надобно; ишь, воры, расселись на стенах, как кочеты на нашесте, да и посмехаются. Им и горе-то не в горе, а нам оно вдвое…»
Любим растерянно остановился, утопая по голени в моховой морошечной палестине, едва начинающей рдеть. Прислушался с надеждою к небесным громам, таким странным в бесцветном тусклом небе: а вдруг нынче и прикончится бессмысленная свара и можно будет вернуться в Москву и зашивать, наконец, свадебные блины. Доколе жить кукушицей при чужих гнездах?
Комар стоял над головой серым густым столбом, нестерпимо стонал, жаждал крови. Любим глубже посунул шляпу накомарника на лоб, оправил на плечах сетку из коньего волоса… Это ж как меня подпирают с боков и сверху, из самой глуби земли, и житья мне никакого не стало; всюду не у дел, всюду как заноза в пальце. Любим с тоскою встряхнулся, не зная, на ком бы сорвать злость; такие минуты отчаяния, неведомые прежде, все чаще навещали его; пулю бы сыскать иль на копье злодейское наткнуться, так ведь и пуля еще не отлита для него, чтобы до смерти пронзить огромные мясища с крохотной душонкою в груди… Иль братовья дурни, что и по смерти мне могилку роют, иль я безумен? – подумалось безо всякого смыслу.
… С востока грозовые раскаты наваливались на остров вместе с кучерявыми дымками; словно августовские молоньи, вдруг вспыхивали хвостатые пробежистые огни, высветливая кромку леса. Под монастырем снова стреляли. В минуты затишья слышались голоса работных, их веселый смех (чему так радуются?), звон мотыги и пешни о рудяной гранитный камень; от становья доносился сладковатый, родимый сердцу дымок кострища, запах мясного кулеша. В обители убивали, там, у соборной стены, где когда-то покоился прах святого митрополита, с трудом добывали свежие могилки, а тут, на просторе, напитанном морской соленой влагою, сотня сумских мужиков с жадностью и упорством вершат бессмысленное дело войны, которое приказал воинский начальник. Скоро монастырским мятежникам и кружка воды покажется за дар небесный, за вино из чаши Христовой, а здесь десятки озер, нанизанных, как жемчужный пузырь, грезят в одиночестве, дожидаясь лодки монаха-рыбаря, который вдруг взялся воевать.
Корявый елинник расступился, и Любим вышел на травянистый обмысок; через наволочек сквозь густой морковник и дудки была пробита тропа, словно бы зверь какой одинокий ходил на водопой. Любим выбрел на берег; в моховой чаше, обнизанной мелколесьем и елушником, лежало круглое глухое озеро, дегтярно-черное, с лопушником, без единого рыбьего всплеска, какое-то безжизненное на первый взгляд. Пахло прелью, тиной, багульником, тяжелый болотный дух от стоячей воды кружил голову. Любим вздрогнул; неожиданно трухлявая валежина иль древняя полузатонувшая выскеть шевельнулась над травою и вновь мертво застыла. То на берегу оказался монах, спина в серой однорядке кулем, из-под теплой туго напяленной скуфейки падали на плечи две жидкие желтые косицы. Перед ним лежали в полводы три черемховых удилища, перьевые поплавки сонно застыли среди кубышек. Дремал ли монах иль грезил, просунув ладони меж колен? но бахильцы уже полузатекли в мох по самые голяшки, а чернцу было все равно. Он оглянулся безразлично и снова перевел взгляд на поплавки. Старик был сух, морщиноват, курнос, тонкие губы плотно сжаты в нитку, лицо с кукишок, и серые глазенки беспрерывно точили слезу.
Любим пригляделся и вдруг узнал монаха, коего недавно приводили к воеводе на лодью, ставили под допрос, а после отпустили. То был священник Геронтий, его мятежники долго мучили в тюрьме, клонили под себя, чтобы он одобрил свару. Но старый священец стрельбу запрещал, против государевых людей биться не велел, но за древлеотеческую веру звал пострадать, как страдали святые мученики. Геронтий был большой дока в священных писаниях, его приглашали в Новгород для прений по православным догматам, но иеромонах ехать отказался, а стал пророчествовать в монастыре: де, лета от рождества Христова 1672 августа в первый день будет бой большой – великий по всей вселенной; второго – пастыря не будет; третьего – не многие Христа узнают; четвертого – будет большое порушение по всей земле; пятого – будет гнев Божий по всей земле; шестого – кровью реки восстанут; седьмого – восстанет великий муж; восьмого – Европа и Африка устрашатся; девятого – в Троице единого Бога узнают по всей вселенной; десятого – светила нощные загаснут, и будет едино стадо и един пастырь, и придет день остатний…
Соловецкие монахи ждали того пророчества, но когда Судный день не настал, то и заточили Геронтия за блудословие и обманку в темничку на хлеб-воду и томили больше года. Но днями вот прогнали прочь из стен, чтобы зря не переводить на строптивца хлебов; открыли в стене калитку и ночью выбили старца-казначея вон…
Любим кашлянул за спиною, стараясь привлечь внимание. Но монах не сводил взгляда с поплавков.