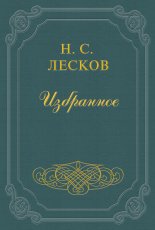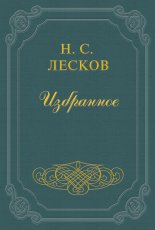На краю света Лесков Николай
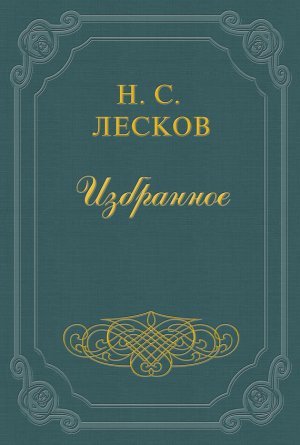
Из последних сил я принялся выбивать в снегу зарубки. Полированная винтовка выскальзывает из облепленных снегом рукавиц. Пот щиплет глаза, слепит меня, капает с носа большими каплями. Я облизываю соленый пот с губ, мокрыми рукавицами протираю глаза.
Не знаю, сколько времени продолжался этот проклятый подъем. Наконец, мокрый, задыхающийся, я выбрался наверх и повалился прямо на снег. Где-то совсем рядом осипло лаяла собака.
Трясущимися руками я протер винтовку, загнал в магазинную коробку обойму и поднялся на ноги.
Шагах в двадцати от меня, уставившись куда-то вниз, лаяла белая, с черными подпалинами вислоухая собачонка. Я узнал ее.
– Гусарка, – хрипло окликнул я собаку. – Где медведь?
Гусарка взвизгнула от радости, кинулась было ко мне, потом снова бросилась назад, все время оглядываясь, непрестанно лая и виляя хвостом.
– Здесь он, здесь! – казалось, говорила Гусарка.
Я пошел за ней. И вдруг, за высоким сугробом, в десяти шагах от себя я увидел медведя. Он стоял на маленькой площадке, уступом выдающейся над обрывом.
Это было так неожиданно, что я едва не уронил винтовку.
Живой, сильный, дикий медведь стоял в нескольких шагах от меня на обрыве ледяного плато, где было нас только трое – медведь, собачонка и я. Медведь поднял маленькую, на гибкой шее головку и, шевельнув ноздрями, понюхал воздух. На серебряной его голове, как угольки, чернели три точки: два глаза и нос. Он с любопытством смотрел на меня.
Я вскинул винтовку и, почти не целясь, выстрелил.
Пуля толкнула медведя в голову, он попятился и мягко, как мешок с опилками, перевалился через край обрыва. В воздухе мелькнула косматая лапа. Медведь полетел под откос, поднимая сухую снежную пыль, увлекая за собой сугробы и камни.
Я сел прямо в снег и захохотал.
Мой медведь! Мой медведь! Мой медведь! Он стоял вот здесь. Белый, серебряный, косматый, с черными любопытными глазами, с маленькими ушками. Он посмотрел на меня снизу вверх. Вот здесь он стоял, а я вот здесь! Десять шагов! Мой медведь! Мой медведь!
Я вскочил на ноги, заплясал от восторга, стал стрелять в воздух.
Отсюда, сверху, я видел, как сбегаются к тому месту, где лежит мой медведь, маленькие черные человечки, как они машут руками, отгоняют собак.
Гусарка сидела поодаль и жадно жрала снег. Потом она растянулась на брюхе и, положив голову на лапы, стала смотреть на меня, тяжело и часто дыша.
Я подошел к Гусарке, сел рядом с ней, долго гладил ее и рассказывал, как я лез на плато, как боялся, что медведя уже убили, и какая она, Гусарка, молодчина, что одна задержала медведя, какая умная, хорошая собака.
Потом не спеша мы нашли пологий спуск вниз и уже в густых синих сумерках добрались до дома. Во всех окнах ярко горели веселые огни. Гусарка пошла к своим товарищам, а я – к своим.
Медведь уже лежал посреди кухни, раскинув от стены до стены жилистые, косматые лапы. Вся зимовка собралась вокруг медведя, и повар Арсентьич, тыча кухонным ножом, серьезно говорил:
– Вот это пойдет на бифштекс, а это будет заместо свиной корейки.
– Шкуру-то мне не изрежьте, – сказал я, протискиваясь к моему медведю.
——
В эти первые дни нашей жизни на Земле Франца-Иосифа я научился очень многому.
18 октября я первый раз дежурил на кухне. Дежурных у нас прозвали «кухонными мужиками». В этот день, 18 октября, «кухонными мужиками» были я и Ромашников.
У «кухонных мужиков» много разных обязанностей – они должны таскать на кухню воду, дрова, уголь, помогать служителю и повару.
Сначала мы принялись за воду. Но единственная вода, которую мы видели на острове Гукера, была соленая морская вода нашей бухты. Вся остальная, пресная вода давным-давно превратилась в лед и снег.
И вот, надев прорезиненные рубахи, вооружившись железными лопатами и захватив большие носилки, мы двинулись на водяной промысел.
За Камчаткой уже намело большие сугробы.
– Смотрите, какой хороший, чистый снег, – сказал Ромашников, – вот этот снег и будем таскать.
Я облюбовал большой гребень сугроба, прицелился и ударил лопатой. Что за черт? Лопата отскочила от сугроба, точно он был деревянный. Я снова размахнулся и снова изо всех сил ударил лопатой. Теперь она вошла в снег на каких-нибудь два сантиметра.
На пятом или шестом ударе мне все-таки удалось до половины втиснуть лопату в сугроб. Я навалился на рукоятку, чтобы обломить верхушку сугроба, но ладонь лопаты согнулась, как жестяная. Вытащив изувеченную лопату, которая теперь годилась разве что для выгребания золы из печки, я искоса посмотрел на Ромашникова. Он сидел около своего сугроба и тоже рассматривал свою согнутую пополам лопату.
– Ничего не выходит, – сказал я. – Это не снег, а черт знает что!
Ромашников встал, ногой выпрямил лопату и, размахнувшись как топором, сверху рубанул сугроб. Звякнув, лопата скользнула по крепкому ребру сугроба и ударила Ромашникова по ноге.
– Ой! – вскрикнул Ромашников и снова сел на снег.
– Нет, так ничего не выйдет, – сказал я. – Мы слишком жадничаем. Больших кусков нам не отломить лопатой. Будем откалывать маленькие кусочки.
Нигде, никогда я не видел такого плотного и крепкого снега, как на Земле Франца-Иосифа. С огромным трудом нам удавалось отламывать от сугроба только маленькие кусочки снега. Они отскакивали с сухим звоном, похожим на звук лопающейся электрической лампочки.
Проработав целый час, мы наконец наложили полные носилки и потащили снег на кухню. Но почти половину носилок мы растеряли по дороге.
На кухне было жарко и шумно. Трещало масло на сковородках, гудел в плите горящий уголь. Арсентьич что-то звонко рубил ножом на чистой деревянной дощечке. Он мельком взглянул на наши носилки и швырнул нож на стол.
– Что же это вы, так и будете по горстке таскать?! – закричал он. – Мне вода нужна, а вы чикаетесь! Интеллигенция, прости господи! Снегу не могут принести!
Он схватил с раскаленной плиты какую-то кастрюльку и сунул мне под нос:
– Корешки горят! Воды давайте! Нечего чикаться! Математики!
Костя Иваненко сидел около плиты на пустом ящике и чистил картошку, роняя на пол длинные ленты кожуры.
– Пилой надо, – сказал он, не поднимая головы. – Лопатой разве его возьмешь? – Он положил ножик, вытер руки об штаны и с презрением посмотрел на нас. – Пилой. Понимаете? Одноручной пилой.
– Господи, твоя воля, да чего они понимают! – откликнулся Арсентьич из облаков пара. – Разве они это понимают? Обедать они понимают! Почему того нет, почему этого нет, почему опоздал, почему не приготовил – это все они понимают. А снегу натаскать – это они не понимают!
Арсентьич выхватил щипцами из плиты раскаленный добела уголек, прикурил, швырнул уголек в ведро с помоями, злобно взглянул на нас и снова принялся стучать ножом, что-то бормоча себе под нос. Только и можно было разобрать: «интеллигенция… белоручки… работаешь, работаешь… ноги подламываются… математики…»
Мы вышли из дома.
– Попробуем пилой, – сказал Ромашников. – А то старик совсем озверел.
В бане мы нашли одноручную ржавую пилу.
Никогда я не думал, что снег можно пилить пилой. Да еще как пилить – с большим трудом, точно вязовые балки.
Мы подошли с пилой к сугробу, исковырянному нашими лопатами. Я выбрал место, с которого было удобнее всего запилить сугроб, и острым концом пилы вычертил на нем ровный четырехугольник. Потом, уткнувшись в сугроб коленом, я вонзил в снег пилу. Пила пошла вниз, пропиливая в крепком, как сахар, звонком снегу голубовато-зеленую щель. Так я пропилил две боковых стороны четырехугольника, потом подпилил его снизу и подковырнул лопатой.
Тяжелый и тугой снежный куб скатился вниз, даже не обломав острых ребер. Мы положили снеговой куб на носилки и снова принялись пилить сугроб.
Если бы в это время кто-нибудь из наших ленинградских друзей увидел нас за этой работой, – нас, наверное, приняли бы за сумасшедших. Трудно представить, чтобы взрослые нормальные люди дружно и радостно пилили снег пилами.
Не иначе как сумасшедшие!
А мы были очень довольны и рады, что нашли такой верный способ добывать воду.
Никогда до сих пор, открывая кран водопровода, обедая или умываясь, распивая чай или бреясь, я не задумывался над тем, как много воды надо человеку.
А снегу надо еще больше. Ведь из большого куска снега получается только маленький ковшичек воды.
Этот день, когда я был «кухонным мужиком», научил меня ценить воду и бережно относиться к ней. Я уже понимал, какое это тяжелое дело – добывать воду, и берег каждую кружку воды, зная, сколько труда положили на нее мои товарищи.
——
В эти же первые дни зимовки я научился по-настоящему стирать.
Когда я уезжал на зимовку, я сначала решил взять с собой столько белья, полотенец, носовых платков, носков, наволочек и простынь, чтобы мне без стирки хватило на целый год. Потом я увидел, что это получится огромный сундучище и что, пожалуй, не стоит тащить такой багаж на Землю Франца-Иосифа. «Буду там стирать, – решил я. – Стирал же я, когда учился на рабфаке, почему же не смогу стирать на зимовке?»
Пока мы жили в Архангельске, пока плыли, пока разгружались на Земле Франца-Иосифа, прошел целый месяц.
Вскоре же, как мы остались одни, я увидел, что чистого белья у меня почти уже нет. Одному затевать стирку мне не хотелось, и я предложил стирать со мной Васе Гуткину. У него тоже не было чистого белья, и он охотно согласился.
Еще с вечера накануне того дня, когда мы решили стирать, в комнате у меня собрался военный совет. На совет пришли наши друзья: Боря Линев, Стучинский, Гриша Быстров, Желтобрюх. Каждому хотелось посоветовать нам самый простой, легкий и удобный способ стирки.
Вася Гуткин, который считал себя специалистом по всяким хозяйственным делам, развалился на моей кровати и, бренча на мандолине, самодовольно говорил:
– Мне, милок, указывать нечего. Я на стирке собаку съел. И со щелоком стирал, когда мыла не было, и с песком стирал – по-всякому. Знаю, знаю, не рассказывай.
Ну а мне было полезно послушать советы опытных людей.
Я ни со щелоком, ни с песком никогда не стирал. А если и приходилось мне стирать – то в настоящей прачечной, где все было под руками, где из одного крана текла горячая вода, а из другого – холодная. Да и стирал-то я всякую мелочь – носовые платки, носки. А сейчас мне предстояла настоящая, большая стирка.
Никаких кранов с горячей водой здесь не было, и горячая и холодная вода лежала сугробами под окнами маленькой, тесной и темной бани. Баня, когда ее не топили, промерзала насквозь. На стенах ее сверкал иней, остатки воды замерзали в бочках и в корытах сплошной ледяшкой.
– Ну ты-то, конечно, все знаешь, – сказал я Васе, – а я не знаю. Выкладывай, ребята, свои способы.
Стучинский раскурил красивую свою трубку, пустил клуб дыма, полюбовался им, разбил дым ладонью и, как всегда, тихо и вежливо сказал:
– Мне кажется, что вы уже с самого начала делаете, я бы сказал, ошибку. Простите меня. Вася говорил, что вы собираетесь топить баню каменным углем.
Я подтвердил:
– Верно. Углем. Так быстрее.
– Это иллюзия, – продолжал Стучинский, попыхивая трубкой. – Это только кажущаяся быстрота. На самом же деле калорийность древесного огня больше, чем каменноугольного.
– Откуда это известно? – заинтересовался Гриша Быстров, а Вася Гуткин громко захохотал.
– Кройте, кройте! – сказал он и лихо заиграл на мандолине марш. – Калорийность!
– Мне это известно из опыта, – все тем же вкрадчивым голосом продолжал Стучинский. – Я целый год топил печь дровами и знаю, как быстро она нагревается. Но дело не в этом. Моя мамаша сообщила мне следующий способ стирки, который у меня есть основания считать очень хорошим. Берете белье, с вечера намачиваете его в теплой воде…
– Уж намочили! – насмешливо перебил его Вася. – Намочили. Догадались сами.
– Отлично. Намачиваете. Завтра простирываете в теплой воде раз, снова намыливаете, простирываете два, еще намыливаете и простирываете три. Вот и все. Главное – очень много мылить. Мыло отъедает грязь.
– Чепуха, – сказал Боря Линев. – И совсем не так надо стирать. Надо кипятить с содой. Без кипячения – гроб.
Здесь Вася Гуткин кивнул головой и подтвердил:
– Ясно – гроб.
– А самое лучшее, – продолжал Боря Линев, – стирать французским способом. Он так и называется – скорый и быстрый французский способ. Берешь белье, никакого тебе мыла, немножко наливаешь водички и керосину. Керосину побольше. Налил – поставь, пускай керосин грязь ест. Постоит так часа два, слей – и опять водички и керосину. Опять поставь. Палочкой можно помешать. Потом заливай одним керосином и ставь на огонь, чтобы в керосине прокипело.
– Керосин взорвется, – сказал Гриша.
– Ни черта он не взорвется! Способ верный.
– Взорвется, – сказал и Желтобрюх. – Обязательно, Борька, взорвется. Нет, это все не то. Зачем керосин, бензин? Мне рассказывал один летчик – Белоножкин фамилия, – может, слыхали? Ну, вот он рассказывал, как они стирали на Сахалине. Красота! Берешь белье, намыливаешь его и закапываешь в снег. В снегу пусть лежит подольше – ну, с неделю. Потом откопал – бельецо как стеклышко! Они целый год так стирали.
Вася Гуткин фыркнул:
– Отчего же это оно как стеклышко делается?
– Вымерзает. Полежит, вымерзнет в снегу, снег там с мылом все отъест – и пожалте! Красота!
– Извините меня, – вежливо сказал Стучинский, – но мне способ Белоножкина кажется сомнительным. Я бы не советовал рисковать без проверки.
– Машину стиральную надо сделать, – сказал Гриша Быстров. – И работы-то на два часа. Бак у нас есть. Деревянный барабан можно Сморжу заказать, из бака провести трубочку, чтобы горячая вода циркулировала, – и все. Затопил и крути ручку. Я, когда буду стирать, обязательно машину сделаю. Что у меня спина-то – казенная, что ли?!
Дискуссия о способах стирки кончилась очень поздно. Когда советчики разошлись, Вася сказал:
– Ну что, понял чего-нибудь?
Я признался, что ничего не понял, что думаю стирать так, как мне советовали моя жена и мама. Сначала отстирывать белье в теплой воде, потом стирать в горячей, затем кипятить и уж под конец полоскать в холодной воде.
– Ну конечно, – сказал Вася. – И я буду так же. А то заладили: вымерзает, вмерзает! Прямо талмуд какой-то.
С утра мы напилили дров, натаскали угля, разожгли обе печи и в самой бане, и в предбаннике и принялись носить в котел снег.
За ночь намоченное с вечера белье замерзло. У меня к тому же слиняла цветная рубаха, и полотенца были теперь в бурых и синих пятнах.
– Значит, будем стирать по-своему, – сказал Вася. – Верно? А то, может, французским? А? – подмигнул он мне.
Ежеминутно тухнет то одна, то другая печь. Мы набиваем куб снегом, но снег быстро тает, и снова куб кажется пустым, надо брать пилу и снова идти пилить сугроб. А тут кончается уголь. Надо идти за углем.
В бане душно, дымно, сыро. По ногам тянет с улицы злым холодом. Вода плещется на сапоги. С мокрыми ногами, вспотевшие, мы выскакиваем на улицу, на мороз то за снегом, то за углем, то за дровами. Стирка подвигается медленно. У нас только одна стиральная доска. Ею завладел Вася. Я стираю свое белье в деревянном корыте.
Уже через полчаса от мягкой снеговой воды руки становятся белые, как бумага, и сморщиваются, как печеное яблоко. На суставах пальцев появляется кровь. Тогда я вспоминаю, как стирала белье мама. Она зажимала один конец рубахи или еще там чего-нибудь в левой руке, а другой конец терла в мыльной воде. Я так и делаю. Как будто бы получается лучше.