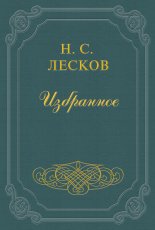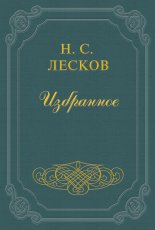На краю света Лесков Николай
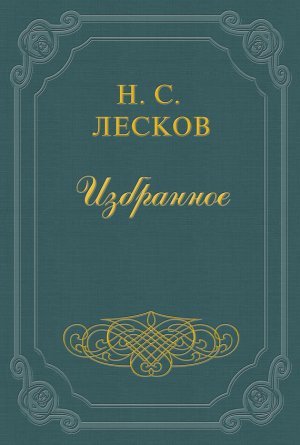
– Чудеса, – сокрушенно говорит старик. – Сроду муку так не грузили. Интересно… – Он вешает фонарь на гвоздь, хочет идти за веревкой, но останавливается и хитро говорит: – Ну, ладно, подняли. А потом-то, до места, где на палубе бунт[12] класть будете, все едино на спине мешки таскать? Как же так?
Гриша подбегает к старику.
– А тачка? – кричит он. – Тачка! Я видал – тачка у вас стоит. Шесть мешков тут же, у лаза, на тачку – и пошел! Без спины, папаша, без спины. Техника!
Старик дергает головой, перхает, смеется:
– Научные-то что значит. Придумали. Чудеса…
Пока старик ходит за веревкой, мы делимся на две партии.
– Сговариваться! Сговариваться! – кричит Гриша Быстров. – Чтобы равные силы были.
Гуткина и Лызлова мы выбираем матками[13]. Оба они кряжистые, коротконогие, широкоплечие.
Щуплый, маленький Гриша Быстров сговаривается со Стучинским. Я – с Каплиным.
– Кого выбираешь, – кричит Гриша Быстров, хватая Гуткина за рукав, – поэзию или прозу?
– Возьму, пожалуй, поэзию, – нерешительно говорит Гуткин. Поэзией оказывается Стучинский.
Подходим мы с Каплиным.
– Нансен иль Громовой? – спрашиваю я.
– Громовой, – не задумываясь говорит Гуткин.
Громовой – это Каплин.
Стучинский, Гуткин и Каплин вылезают на палубу, а Быстров, Лызлов и я остаемся в трюме.
– Вы будете таскать, – говорит Гриша нам с Лызловым, – а я буду петлю набрасывать. Ладно? Петлю тоже надо умеючи надеть, а то мешок боком будет идти, ничего и не получится.
Слышно, как над нашими головами стрекочет по дощатой палубе баржи тяжелое колесо тачки и как Вася Гуткин громко кричит:
– Лошади поданы! Пожалте! Можно начинать!
Вот уже опускается сверху веревка с петлей на конце. Мы с Лызловым вдвоем берем за углы мешок, подносим его к веревке, Гриша проворно набрасывает на мешок петлю, кричит наверх:
– Вирай! Только равномерно. Без рывков.
Наверху налегают на веревку. Мешок по гладкой широкой доске плавно всползает наверх.
– Ну?! – кричит Гриша. – Что я говорил! Через каждые десять мешков – отдых. Только не задерживай там веревку.
Хотя до сих пор никто из нас не был грузчиком, мы работаем как настоящие волжские крючники. В два часа дня тут же на барже мы обедаем. Обед у нас походный – консервы и хлеб. Запив обед кружкой холодного чая, мы снова принимаемся за работу.
И так до вечера.
За день вынуто из трюма и сложено на палубе баржи шесть с половиной тысяч килограммов ржаной муки, двадцать пять ящиков консервов, перенесено с берега на палубу полтораста трехпудовых баллонов с водородом.
Но это только маленькая частичка того, что пойдет с нами на зимовку.
Груза у нас много.
Ведь мы едем на край света, в Арктику. Надо взять с собой все, что может понадобиться девятнадцати человекам в течение года, а может быть и двух. Может же так случиться, что в следующем году ни одно судно не проберется сквозь льды к далекой Земле Франца-Иосифа. Тогда нам придется оставаться там еще на год, до следующего лета.
На Земле Франца-Иосифа ничего не купишь, ничего не достанешь. Нас будет только девятнадцать человек на девяноста семи островах. До самого близкого кооператива тысяча морских миль скованных льдами полярных морей.
Наш начальник, доктор Платон Наумыч Руденко, целые дни торчит в отделе снабжения – достает для нас мясо, одежду, обувь.
Иногда он среди дня приезжает к нам в склад или на баржу. Он огромного роста, широкоплечий, похож на Джека Лондона.
– Как дела? – весело кричит он, тяжело топая по шатким сходням баржи. – Шуруете? Это что? Консервы? Консервы, хлопцы, отдельно складывать. Кто маркирует груз? Сколько уже мест? Что? Триста семьдесят?
Он садится на ящик, сопит, вытирает пот большим белым платком.
– Как же это так – триста? – говорит он, озираясь. – Что же это такое? Баржевой! – вдруг кричит он так, что у нас трещит в ушах. – Макуха, сколько на тоннаж выйдет? Ой, братики, не погрузимся – не влезет в «Таймыр» такая прорва.
Он достает из кармана записную книжечку. Рядом с какими-то аккуратными докторскими заметками по-латыни в ней записаны названия рыбных консервов, имена собак, типы радиоприемников, целые страницы испещрены цифрами. Сосредоточенно, громко сопя и шевеля толстыми губами, Наумыч начинает что-то подсчитывать.
Мы собираемся вокруг него, обступаем его со всех сторон.
– Наумыч, а простыни дадут?
– Платон Наумыч, как бы в баню перед рейсом сходить?
– Можно вечером слетать на почту, отправить домой посылку?
– В чем поедем – в валенках или в сапогах?
Платон Наумыч знает все. Он обо всем уже подумал, обо всем позаботился, все учел и предусмотрел. На то он и начальник. Партия и правительство поручили ему эту ответственную работу, доверили ему жизнь восемнадцати человек.
За все беды, несчастья, болезни, недохватки отвечать придется ему. Тут надо держать ухо востро, ничего не проворонить, не прозевать.
Наверное, за год прогорели на острове Гукера печи. Значит, надо взять с собой кирпич, глину, песок, проволоку.
Конечно, поизносились за год керосинки и примусы, – не забыть захватить примусные иголки, запасные горелки, ниппели, слюду и фитили для керосинок.
Хрупкая штука ножи для мясорубок, – забрать с собой, на всякий случай, ножи.
А вдруг дома холодные, – не мешает прихватить коврики к кроватям. Долго ли простудиться, когда в комнате ледяной пол.
Зубной порошок, нитки, стаканы, стулья, фонари, масляные краски, карандаши, ножницы, стиральную соду, медикаменты, будильники, одеколон – все надо брать с собой.
В ящики мы упаковываем валенки, меховые чулки, меховые носки, меховые сапоги, штаны и рубахи из меха молодого оленя, теплые рукавицы, шарфы, эскимосские шапки, пыжиковые шапки, полушубки, ватные костюмы, свитеры, теплое белье, шерстяные носки, резиновые комбинезоны, оленьи малицы, болотные сапоги, меховые спальные мешки.
В крепкие бочки насыпаем сахар, орехи, клюкву.
Лимоны режем на большие куски и пересыпаем в бочках сахарным песком. Перекладываем соломкой яблоки.
Смешно и удивительно было видеть все эти бочки, ящики, мешки, в которых были зашиты, забиты, упакованы сотни тонн съестного. Ведь это же все приготовлено для нас! Неужели уж мы такие обжоры? Неужели девятнадцать человек могут съесть эти горы продуктов?
Никогда я не думал, что человеку надо так много еды, никогда не видел таких запасов.
Сотни ящиков с консервами вырастают на барже высокой стеной. Здесь консервированное молоко, мясо, разная рыба, овощи, языки, черешня, бобы, паштеты. Словно крепостной вал, возвышаются мешки муки, крупы, гороха, соли. Выстраиваются бочки квашеной капусты, огурцов, селедок, меда, варенья, керосина, бидоны бензина, баллоны с водородом.
Но это еще не все.
В ящики, мешки, тюки, бочки мы упаковываем макароны, копченую колбасу, копченые языки, сливочное и топленое масло, печенье и галеты, кофе, чай, какао, шоколад, сыр, картофель, свеклу, сухие грибы, сушеные овощи, картофельную муку, перец, горчицу, лук, чеснок, мыло, папиросы, табак, спички…
Особенно был доволен и рад, что у нас такие большие запасы, Вася Гуткин.
Вася был очень хозяйственный человек.
– Смотри, смотри, – взволнованно говорил он, – это бычьи языки. Если сделать картофельное пюре да с лучком, да молочка подбавить – пальчики оближешь! А на завтрак можно и холодный ломтиками нарезать, с горчичкой. Объеденье!
Он причмокивал губами, громко глотал слюну.
В мешках он проделал дырочки и все попробовал на вкус. Одно похвалил, другое поругал. На щепотку муки он поплевал, быстро скатал тестяной шарик и остался очень недоволен. Мука была темная, не такая, какой хотелось Васе. Зато сливочное масло привело Васю просто в восторг. Он ходил вокруг аккуратных новеньких ящичков, разглядывал надписи и клейма, разводил руками.
– Вот это – да! Это вещичка. Экспортное. Не прогоркло бы? – И он с опаской нюхал ящики. – Нет, не должно прогоркнуть. Упаковано на совесть. Даже не пахнет.
На север
24 сентября «Таймыр» стал под погрузку.
Высоко над водой поднимаются его окованные броней бока. Тупой вздернутый нос точно занесен для удара по льду.
Полным ходом работает на корме паровая лебедка.
У лебедки хлопочет долговязый матрос. Он то и дело поворачивает рычаг, и сразу поднимается тяжелый грохот и звон, деревянная палуба дрожит и ходит, сотрясаясь под ногами от вращенья чугунного черного барабана лебедки.
За погрузкой следит Иван Савелич – старший помощник капитана. Засунув руки в карманы макинтоша, он спокойно стоит на ботдеке, поглядывая по сторонам. На оттопыренной его губе висит потухшая папироска.
Боцман – коренастый, ловкий помор – проворно бегает по всему кораблю, то и дело спускается в трюм – проверить, как матросы укладывают в трюме мешки с мукой.
Хитрое дело – правильно загрузить трюм.
Выйдет пароход в море, и начнет его валять с борта на борт, с носа на корму. Задвижется, заходит груз в трюмах парохода. Вот сорвется с места одна какая-нибудь бочка и пойдет метаться по всему трюму. Как таран, будет она колотить, разваливать, разворачивать уложенный груз. Разобьет, обрушит ящики, сшибет с места бочки, порвет канаты. Глядишь – и уже все ящики и бочки мечутся по трюму как бешеные, сносят перегородки, колотят в стенки корабля.
Для матросов это самое распроклятое дело – в открытом море, в непогоду крепить трюмовый груз.
На ботдеке, между радиорубкой и люком машинного отделения, сделаны дощатые загоны. Сюда на веревках, пропущенных через блоки шлюпбалок, поднимают свиней. Они пронзительно визжат и дрыгают в воздухе связанными ногами. На борту свиней подхватывают матросы и, раскачав, со всего маху швыряют через дощатые загородки загона.
– Боцман, принимайте свиней! – командует Иван Савелич.
И боцман рысью бежит на ботдек, гремит тяжелыми сапогами по окованным медью ступенькам лестницы.
В руках у него кривой матросский нож. Он наклоняется над распростертыми тушами и ловко разрезает веревки, которыми спутаны ноги свиней. Свиньи, пошатываясь, встают, забиваются в дальний угол и испуганно похрюкивают.
А в это время к правому борту подходит большая шлюпка. Шлюпка набита собаками. Они сидят и на дне, и на скамейках шлюпки, заглядывают через борта, лают и скулят, задрав морды. На передней банке, широко расставив ноги, стоит Боря Линев.
– Собаки приплыли! – кричит он наверх.
Матросы спускают Боре веревочный штормтрап. Он взбирается на палубу и идет на ботдек.
– Боцман! Боцман! – кричит он. – Отведите место для собак.
Боцман вылезает из свиного загона. Он оглядывает палубы и спрашивает Борю:
– Много собак?
– Тринадцать штук.
– Тринадцать? Ну, тринадцать поместим здесь, на ботдеке. Вот сюда, поближе к трубе, будешь привязывать, здесь им потеплее. Смотри, крепче вяжи, а то волна будет – снесет. Поплывут твои собачки.
А в шлюпке матросы уже вяжут собак поперек туловища веревками.
– Пускай! – кричит Боря, перегнувшись через фальшборт. – Потихоньку, по одной.
Он осторожно выбирает веревку. Собака повисает над водой, жалобно скулит, колотит лапами по воздуху. На борту собираются матросы.
– Качай веселей! – кричат матросы. – Зимовщиков на веревке таскают. Ай да зимовщики!
Несколько рук подхватывают собаку, быстро распутывают веревку. Боря Линев ведет собаку на ботдек и, тщательно привязывая за металлическую цепочку, бормочет:
– Ну, чего, дурак, струсил? Думал – топить будем? Не будем, не бойся. Поплывем, брат, на Франца. Жизнь там – красота. Ни трамваев, ни кошек, ни мальчишек. Ну сиди, сиди. Сейчас товарищей приведу – веселей станет.
– Слышь, каюр! – кричат из шлюпки. – Черный не дается! За руки хватает!
Боря снова бежит к борту и перевешивается через поручни.
Внизу, в шлюпке, три матроса пытаются схватить и связать веревкой Байкала. Байкал сидит на передней банке, он ощетинился, прижал уши, оскалил клыки – приготовился защищаться.
Боря Линев орет с ледокола:
– Букаш! Букаш! Сюда! Шагай сюда!
Услышав знакомый голос, Байкал задирает голову и радостно лает. А матросы, не теряя времени, проворно вяжут его поперек туловища.
Байкала поднимают на борт ледокола. Он бросается к Боре Линеву, вскидывает ему лапы на плечи, лижет нос, припадает к палубе и подпрыгивает, отталкиваясь сразу всеми четырьмя лапами.
«А я-то, дурак, думал, что меня оставят в лодке. А я-то струсил, думал – меня хотят вешать или топить. Здесь мой хозяин! Значит, все хорошо! Все в порядке! Ах, как хорошо, как здорово!»
Потом поднимают Жукэ. Он вырывается вместе с веревкой из Бориных рук и дает стрекача по палубе, прижав уши и распустив хвост по ветру. Как серый заяц, мчится он, высоко прыгая через бухты канатов, сшибает пустое ведро и исчезает позади штурманской рубки. А за ним еще долго извивается, скользит по палубе, как змея, длинная пеньковая веревка.
Над ледоколом стоит грохот лебедки, лай собак, визг и хрюканье свиней, поскрипывают блоки, гремят железные цепи.
Какой-то матрос, ловко держась, как обезьяна, одной ногой, висит на веревочных вантах. Он развешивает на вантах красные, со сверкающими ребрами, свежие говяжьи туши.
Как туман, поднимается над ледоколом белая мучная пыль.
К вечеру кормовой трюм загрузили. Уже становится темно, и над палубами зажигаются переносные электролампы. По черной и тихой Двине, как светляки, беззвучно ползают зеленые и красные огни. Медленно, с шорохом совсем близко проплывают темные баржи.
Только наш «Таймыр» ярко освещен, только на «Таймыре» не спят, а работают, шумят и кричат на всю реку.
К правому борту из темноты подплывает какая-то черная махина, вроде гигантской виселицы.
– Примай конец! – кричат из мрака сиплые висельники. – «Таймыр»! Конец примай!
– Кто такие? – окликает вахтенный, вглядываясь в темноту.
– Плавучка. Ящики тут. Самолеты, что ли.
Боцман вызывает палубную команду. Иван Савелич, в черной форменной шинели и шапке-ушанке с большой золотой кокардой, негромко командует:
– Рефлектора на спардек. Боцман, дать свет на юте. Проверить такелаж. Плотники здесь?
Электрик направляет за борт сильный рефлектор. Теперь ясно виден плавучий подъемный кран с длинной черной рукой, протянутой над водою. Черномазый машинист крана выглядывает из окошечка и утирается паклей. Кран разворачивается на швартовых. За краном подходит к борту не то баржа, не то понтон с двумя ящиками. Каждый ящик величиной прямо с четырехосный американский вагон. В каждом ящике – разобранный самолет.
На одном ящике высоко над водой, широко расставив ноги, стоит маленький человек в желтом кожаном пальто. Весь он какой-то взъерошенный, как драчливый петух. Прожектор резко освещает его. У него приплюснутый калмыцкий нос и маленькие быстрые глазки.
С высокого ящика, как с воза, он что-то кричит машинисту, ругается, размахивает руками. Это – наш летчик Шорохов.
Иван Савелич недовольно ворчит:
– Вот еще командир нашелся. – Потом прикладывает ко рту жестяной рупор и замогильным голосом спокойно и внятно говорит на всю черную реку:
– На плавучке. На плавучке. Погрузкой руковожу я. Попрошу исполнять только мои распоряжения. Попрошу никого больше не командовать. – Он опускает рупор. – Боцман, у вас все готово?
– Готово, – весело отзывается боцман.
Начинается погрузка самолетов, а Шорохов все еще петушится на ящике.
– Товарищ летчик, – кричит ему боцман, – сошли бы. Не ровен час, упадете в воду.
Шорохов даже не отвечает.
– Ну, оставайся, – машет рукой боцман.
Под ящик заводят толстые стальные канаты – их цепко держит черная рука подъемного крана.
– Вира помалу, – в рупор говорит Иван Савелич. – Помалу. Помалу.
С ровным гулом работает машина подъемного крана. Ящик вздрагивает, с трудом поднимается, покачивается, вот-вот рухнет в воду, на которой пляшут блики рефлектора.
Шорохов топчется на ящике, судорожно хватается за стальной канат, вся удаль с него слетела, он испуганно озирается, хочет спрыгнуть с ящика, но уже поздно.
– Вирай смело! – кричит Иван Савелич. – Раз-во-рачивай! Боцман, на оттяжки!
Ящик вместе с перепуганным летчиком висит между черным небом и черной водой. Медленно и тяжело начинает он поворачиваться.
Иван Савелич светит рефлектором, что-то бормочет себе под нос – должно быть, чертыхается, – а сам не сводит глаз с ящика.
– Так, так, давай веселей! – покрикивает он. – Пошел! Пошел! На шлюпбалках – выбирай концы! Боцман!
Наконец ящик вздымается над палубой. Он ярко освещен рефлекторами. Шорохов, как акробат в цирке, балансирует на нем, изо всех сил старается удержаться, цепляясь за стальной трос. Ящик покачивается. Черная его тень ходит по юту.
– Что, товарищ летчик, так, поди, никогда не летал? – кричат и хохочут матросы. – Чуть мертвую петлю не сделал в Двину!
Наконец огромный ящик медленно опускается на палубу, припечатывается к своей тени. И сразу над палубой открывается черное звездное небо, по которому торопливо летят рваные клочья пара.
Плотники кидаются к ящику. Стучат топоры.
Шорохов по канату спускается на палубу и сразу, как ни в чем не бывало, начинает распоряжаться:
– Борис! Где молоток? Ну что это за растяпа! Борька! Где молоток? Я что говорил? Гвозди загнуть! А ты?
Бортмеханик Боря Виллих, или, попросту, Боря Маленький, мечется по палубе, ищет молоток, бормочет:
– Да я же загнул, Григорий Афанасьич…
– Загнул! Чтоб ты сам так загнулся!
Шорохов вырывает у него молоток и принимается яростно колотить по гвоздям. Боря Маленький, надув губы, отходит в сторону.
Маленьким его прозвали, во-первых, потому, что он самый молодой зимовщик – ему еще только девятнадцать лет, – а во-вторых, чтобы не путать с Борей Линевым. На самом деле Боря Маленький гораздо длиннее не только Бори Линева, но и всех нас. Росту в Боре Маленьком сто семьдесят шесть сантиметров. Но весь он какой-то нескладный, несуразный. Ноги у него узловатые в коленках, как у цапли, огромные красные руки на целую четверть болтаются из рукавов кожаной куртки.
Прислонившись к борту и обиженно посматривая на Шорохова, Боря вынимает папироску, закуривает.
– Не курить на юте! – кричит Иван Савелич.
И Шорохов сразу подхватывает:
– Брось, Борька! Брось сейчас же папиросу! Сдурел ты, что ли? Не знаешь, что у самолета курить нельзя? А еще бортмеханик называется. Пойди-ка лучше посмотри, чтобы у второго ящика дверь была хорошенько забита. Живо!
Долговязый Боря Маленький легко перешагивает через поручни борта и молча исчезает в темноте.
Всю ночь грузится «Таймыр». Всю ночь громыхает лебедка, топают по палубам тяжелые сапоги, гудят, скатываясь по настилу, бочки, грохочут ящики в трюме, на разные голоса орут грузчики и матросы:
– Полундра!
– Вира!
– Майна веселей!
– Куда прешь, черт носатый?
– Эй, на лебедке! Поглядывай!
Полный вперед
Утром 25 сентября баржа ушла. За ночь погрузили все.
Наш «Таймыр» стоит посреди Двины, черный, осевший под тяжестью груза. Сразу видно, что судно собирается в далекий и трудный путь. На корме два огромных ящика с самолетами, шканцы забиты лесом и бревнами, на вантах развешены говяжьи туши, голосят и хрюкают в загонах свиньи, воют и лают собаки.
Я хожу по «Таймыру», как человек, который заблудился за кулисами театра.
Какие-то коридорчики, лесенки, двери – какая куда, не поймешь. Все двери железные, тяжелые, с болтами. Пороги и те железные, да такие высокие, что дверь кажется выпиленной в железной стене. Под потолками бронированных коридоров тянутся толстые трубы. Слышно, как в них щелкает и шипит пар. Где-то совсем близко ровными четкими ударами стучит машина. Идешь по коридору, и вдруг пахнёт на тебя из какой-нибудь двери жаром, машинным маслом, ветром, поднятым пляской сверкающих шатунов.
Скользкие от масла железные лестницы круто уходят вниз, на жилую палубу. Окошечки в каютах круглые, с толстыми, окованными в сверкающую медь стеклами; завинчиваются они наглухо ушастыми винтами. У самых стекол плещется вода.
Все на корабле отполировано, выкрашено, начищено. Все привинчено, притерто, пригнано, укреплено. Графин привешен к стенке в тесном деревянном футляре. Пепельницы, как ваньки-встаньки, только качаются, а опрокинуться не могут. Стулья врезаны в пол тяжелыми ножками, привинчены – не сорвешь. У каждой тарелки в буфетной свое гнездо. Даже столы на корабле не такие, как у нас, в домах: по краям они обнесены бортиками, чтобы вещи не слетали на пол, когда начнет качать и валять корабль в открытом море.
Я хожу по «Таймыру», смотрю, как матросы увязывают, укрепляют, приколачивают каждую мелочь на палубе, и думаю: «Что же это такое будет? Шторма ждут, что ли?»
Иван Савелич стоит на мостике, как ни в чем не бывало, будто это не он всю ночь напролет распоряжался погрузкой «Таймыра». Сизые щеки его чисто выбриты, шинель застегнута на все пуговицы.
– Здравствуйте, Иван Савелич.
– Добрый день.
– Что, скоро пойдем?
– Не торопитесь, еще надоест. Как закачает – пожалеете, что не остались в Архангельске.
К нам подходит второй помощник капитана, долговязый детина в фуражке, слегка сбитой набекрень, и говорит Ивану Савеличу, как будто меня тут и нет:
– У нас, Иван Савелич, в прошлом году на «Вайгаче» такой случай был. Тоже собрался с нами в рейс корреспондент, Макаров фамилия, – может, знаете? Пока на якоре стояли, так он все храбрился, все врал – я и такой, я и сякой. Ладно, думаю, посмотрим. Дошли мы до Сосновца. Начинает покачивать. Я как раз на мостике стою. Прибегает ко мне вахтенный Берендейкин, который в прошлом году у Цып-Наволока тонул, – помните такого? «Корреспондент, – говорит, – кончаются!» Как, спрашиваю, кончается? Что за ерунда? «А так, – говорит, – на полный ход богу душу отдают». Сошел я в салон, гляжу, а он, мореплаватель-то наш, и верно, загибается. «Остановите, – кричит, – пароход! Отпустите, пожалуйста, на берег!» Ну-с вот. Доложил я командиру. «Спустите, – говорит, – это барахло на берег, к черту, чтоб духу его не было». Дали шлюпку и спустили. Подумайте только, Иван Савелич, – ведь у Сосновца…
Он покачал головой и поглядел на меня искоса.
«Запугивает», – подумал я, а вслух спросил у Ивана Савелича:
– Неужели действительно так качает?
– Случается, – говорит Иван Савелич.
– Ну а все-таки как – здорово?
– Бывает, что и здорово.
– Но ведь не всех же укачивает, Иван Савелич? Говорят, что на некоторых качка не действует. Правда?
Иван Савелич смотрит на меня, щурится одним глазом.
– Да вы что-то уж очень интересуетесь. Ничего, не бойтесь. Качает у нас, конечно, здорово. На ледоколах особенно качает. У ледокола ведь киля-то нет, ледокол как яйцо. Вот его и валяет и так и этак. А только вы об этом не думайте. Живите себе в свое удовольствие. Кушайте побольше. По-нашему, по-простонародному – что в рот полезло, то и полезно. Обязательно кушайте – и завтрак, и обед, и ужин. Ну, гуляйте еще, ходите. Первое время, пока не привыкнете, старайтесь поменьше сидеть. За день так намаетесь, что вечером – только бы до койки добраться. Сразу как убитый и уснете.
– Сухари помогают, – сказал второй помощник, не глядя на меня.
– Какие сухари?
– Обыкновенные. Наберет человек в карман сухарей и жует целый день. Ходит и жует. Ходит и жует. У нас второй механик был Семерых – может, помните, Иван Савелич? – только сухарями и спасался. Перед каждой вахтой ему целыми противнями сухари в каюту таскали. С сухарями ничего, выстаивал.
– Какие там сухари, – махнул рукой Иван Савелич. – Может, клюквенный экстракт посоветуете? Только все это, доложу я вам, ерунда. Слушайте вы меня – побольше ходите и думайте, что вы едете на поезде или на трамвае, – вот и все.
– Да уж, конечно, – соглашается второй помощник, – от настроения тут тоже много зависит. На скрипке или на гитаре не играете? – обращается он прямо ко мне.
– Нет, не учился, – отвечаю я, а сам думаю: «Вот нуда. От одних его разговоров морская болезнь забрать может. Никакие сухари не помогут…»
Приближается час отплытия. У левого борта собрались матросы. Они тихо переговариваются, высматривая на берегу своих родственников. А на пристани уже целая толпа – тут и провожающие, и случайные прохожие, и попросту зеваки, которые пришли посмотреть, как будет отплывать наш пароход.
Вот через толпу пробирается к самому краю набережной старичок в высоком старомодном картузе, с тоненькой палочкой в руках.
Матросы зашевелились, замахали старичку руками.
– Ласточкина надо позвать, – сказал кто-то.
– Серега, Серега! – закричали матросы, оглядываясь по сторонам. – Ласточкин, твой старик причалил!
Из-за штурманской рубки выбегает белобрысый парень в полосатой тельняшке и, растолкав матросов, принимается яростно крутить над головой связкой веревок. В ответ ему старичок часто-часто кивает головой и мерно помахивает палочкой, точно дирижирует оркестром.
Все мы, зимовщики, тоже вышли на палубу, хотя знаем, что нас провожать не придет никто. Наших родных здесь нет. Еще утром мы отправили им последние телеграммы в Ленинград, в Москву, в Харьков, в Ростов.
Мы прощаемся с приземистыми бревенчатыми домами, потемневшими от частых дождей, прощаемся с темной, осенней рекой, по которой медленно плывут баржи и важно проплывают пароходы, с трамваем, который вон там, звеня и высекая зеленые искры, взбирается в гору. Мы прощаемся с мальчишкой в большом белом картузе, который, свесив с высокой деревянной набережной грязные босые ноги, удит рыбу, поплевывая на наживку.
Целый длинный год мы уже больше не увидим ни этих улиц, ни этих чахлых деревьев, с которых ветер срывает последние желтые листья и гонит по набережной. Не увидим даже вон той пегой козы, которая, упираясь копытцами в дощатую стену пакгауза, торопливо и жадно срывает объявление и жует его, потряхивая головой.
Мы прощаемся с последним городом, в котором мы жили на Большой земле. Мы уже не жители этого города. Он стоит на берегу, на земле, а мы – на воде. Сейчас корабль тронется. Пристань, дома, улицы – все уйдет, уплывет назад, и странно подумать, что все это останется и будет существовать без нас – и коза, и мальчишка, – вон у него опять сорвалась с удочки рыбка, – и деревья, и крыши домов, и трамвай…
– Позвольте, товарищи, – проталкивается боцман. – Пожалуйста, уйдите с носа, сейчас будем выбирать якорь.
Боцман в новом шерстяном свитере, выбритый, умытый, смеющийся. И это даже неприятно, что боцман такой веселый. Именинник он, что ли? Впрочем, ему-то что грустить? Через месяц, самое большее, он опять будет дома.
Боцман становится у якорной лебедки, снимает чехлы с механизмов, проверяет тормоза. Все в порядке. Он кладет правую руку на рукоятку пара, а левой рукой машет кому-то на берегу.
И точно стая белых бабочек поднимается над пристанью: белые платочки отвечают боцману.
Теперь уже весь экипаж корабля собрался на палубе. Стуча бахилами, подходят полуголые подсменные кочегары. У левого борта теснятся матросы. Они машут руками, платками, кепками.
Все посматривают на капитанский мостик. На мостике еще никого нет, кроме Ивана Савелича. Он стоит, засунув руки в карманы ватной черной шинели, и прищурившись глядит на небо. Из-за Соломбалы выползает низкая синяя туча.
– Идет, идет! – вдруг загудели матросы.
На мостике появляется наш капитан. Он низенький, плечистый. Как главнокомандующий, идет он впереди, а за ним помощники, механики. Все в полной морской форме – в черных шинелях со сверкающими пуговицами, с нашивками, с золотыми кокардами на фуражках. Сосредоточенно и сурово, точно перед боем, капитан обходит мостик, заглядывает в рулевую рубку, и матрос у штурвала отдает ему честь. Потом капитан долгим взглядом обводит корабль – палубы, мачты и ванты. Пристально глядит он на город, на реку, на низкое серое небо, поправляет фуражку рукой в замшевой перчатке и становится у машинного телеграфа.
Теперь все – и на корабле, и на берегу – смотрят на капитана.