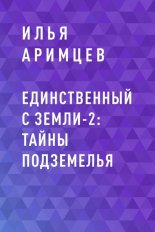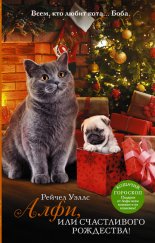Театр отчаяния. Отчаянный театр Гришковец Евгений
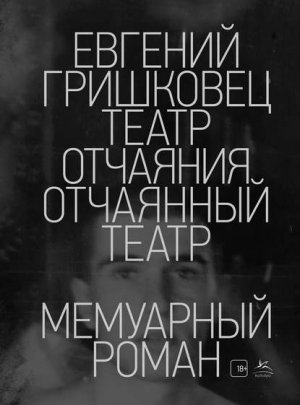
Я же понимал, что повесть эту написал человек, которого звали Ф. М. Достоевский, живший когда-то давно. «Неточку Незванову» и историю её отца он выдумал или слышал о подобной истории и её додумал. Да мало ли! В любом случае, даже если такое с людьми, как в повести Достоевского, и случается, то я о таком не слыхивал и людей, похожих на героев Фёдора Михайловича, не знаю. В конце концов, думал я, это же просто книжка. Одна из бесконечно многих. Почему же со мной она сделала такое? И какое такое? Мне же было от этой книжки ни хорошо, ни плохо, ни грустно, ни весело… А как-то всё вместе… Непонятно… Но непостижимо сильно. До самотекущих слёз, до затруднения дыхания… И что мне были те люди на сцене маленького зала томского Дома учёных, которые играли спектакль? И сам спектакль… Что мне это всё?!
Да. Тогда я впервые в жизни заинтересовался не только феноменом искусства, но и непостижимой сутью впечатления, которое искусство производит. До сих пор для меня это так же важно и так же непостижимо… Но теперь я умею жить с непостижимым и с необъяснимым. А тогда мне необходимо было всё конкретно понять и постичь… Однако лгу. Физика, алгебра, геометрия и химия не входили в число тайн и чудес, которые мне хотелось постигать.
Конечно, в столь юном возрасте, в шестнадцать лет, я не мог долго мучиться глобальными вопросами. Юность взяла своё. И я, как-то само собой это произошло, стал просто наслаждаться непонятным мне чудом искусства.
Тогда впервые со мной случилась поэзия. Я вдруг… Не помню, хоть убейте, как и с какого именно поэта, нырнул в стихи. И понеслось… Блок, Лермонтов, Давид Самойлов, Высоцкий, Фет, Байрон, Вознесенский, Цветаева, Басё, Маяковский, Окуджава и даже Валерий Брюсов.
Помню, что я робко пытался рифмовать. Но цельного стихотворения у меня не получалось. Я просто пробовал – каково это, писать стихи. Трудно это или нет. Выяснил, что это непосильно трудно, и ещё более страстно стал восхищаться поэтами и поэзией.
Отчётливо понимаю сейчас, что желания и стремления к творчеству, к созданию собственного произведения искусства во мне тогда ещё не было. Искусство было слишком чудесно, и люди, его делавшие, – тоже. Но жить искусством мне уже хотелось. Жить чтением, слушанием, смотрением… Это да! Я, разумеется, хотел себе чудесной жизни.
Последний школьный апрель и май мне пришлось заниматься выбором и решением, куда идти учиться после школы. Родители насели. А я всё прекрасно понимал. Выбор делать надо. Тянуть с ним нельзя.
Физика по маминой линии была для меня невозможна, экономика по папиной стезе – тоже. Медицина, биология по стопам бабушки, дедушки и многих родственников были мной отвергнуты. Да никто и не настаивал, глядя на меня. Родителям и родне было видно, что я не рождён для таких поприщ. На юридический был слишком большой конкурс. В другой город меня на учёбу никто отправлять не собирался, а я и не хотел. Про театральное училище я не думал вовсе. Театр как таковой мне был неприятен. Куда ещё можно было пойти?.. В Кемерово было и военное училище, но в его сторону мы даже не глядели. Оставались история, иностранные языки и филология в университете.
Я лично не хотел ничего. Я хотел, чтобы всё шло как идёт. То есть просто хотел читать.
Пантомима?.. Она была мною уже осознана как нечто недосягаемое. Желанное, прекрасное… Но недосягаемое.
Короче говоря, я решил поступить на филологический, где можно будет много читать. А дальше – что называется, посмотрим. Пять лет университета тогда виделись бесконечным временем. В шестнадцать лет мне казалось, что школа была всегда. Дошкольное время не помнилось. Десять лет школы – целая вечность. Пять лет университета – это половина от всегда и вечности. То есть о будущем после университета можно было вообще не думать.
Родители не без скрипа одобрили мой выбор, к тому же на филологический конкурс был минимальный.
Школьные выпускные экзамены я сдавал как во сне. Волнений и страхов было много. учителя всячески их подогревали. Но в то же время как-то и почему-то было ясно, что никого не покарают и все так или иначе получат свои аттестаты зрелости и путёвки в жизнь. Школа нас до последнего дня хотела воспитывать, но никто зла нам не желал.
Волновались до обморочного состояния только отличники и отличницы. Для них оценки и безупречный аттестат, а то и медаль за великолепную учёбу были делом всей их недолгой жизни. Конечно, они жаждали отличных результатов и медалей. Они алкали отплаты за несчастное и безрадостное детство. Я не был отличником. Мне оценки были безразличны. Лишь бы только они не помешали дальнейшей жизни и не слишком огорчили родителей.
Всё же как прекрасно было то, что тогда экзамены были не тестами, не бесконтактными ответами на перечень вопросов. Если бы экзамены были именно тестами, то я не представляю, как сложилась бы моя судьба.
Учителя всё прекрасно о нас знали. Уровень нашей подготовки им был известен лучше, чем нам самим. У них, в отличие от нас, не было иллюзий на наш счёт.
На экзаменационной контрольной по алгебре, когда я прочёл задание и задачи, я сразу понял, что совсем ничего не знаю и не смогу решить ничего. Я сидел около часа и даже не пытался изображать деятельность. Все писали, морщили лбы, грызли ручки, кто-то елозил со шпаргалками… Когда первые отличники пошли сдавать свои работы, полностью справившись со всеми заданиями, наш любимый учитель математики тихонечко принёс мне листочек, на котором было написано решение задач и всё остальное. Мне нужно было просто всё это аккуратно переписать.
Помню, что даже не очень удивился. Я ждал чего-то подобного. Не именно этого, но чего-то в жанре неминуемого чудесного спасения. Ждал очень спокойно… Я тогда ещё был уверен, что взрослые сами всё придумают за нас…
Я переписал тот листочек точь-в-точь. Очень аккуратно. Без единой помарки. Контрольная моя выглядела не хуже, чем работа отличников. Возможно, даже лучше. Через день я узнал, что мне за контрольную поставили тройку. Я был, и по сей день, благодарен учителю математики, моей школе и той школьной системе в целом за тройку по алгебре и за то, что это было не унизительно.
С физикой было хуже. Не в смысле знаний, знания по алгебре и физике были одинаково хороши, а в смысле экзамена. По физике был устный экзамен. Всё, что я мог к нему подготовить и сделать, – это соответственно экзамену одеться и вовремя к нему явиться.
Учитель физики – маленький, кудрявый, довольно терпеливый, но злопамятный человек, который не любил меня за мою нелюбовь и презрение к его предмету, – подошёл ко мне до начала экзамена и сказал, чтобы я шёл последним. Он явно не хотел мне этого говорить, да и проявлять участие ко мне не хотел. Но он определённо исполнил высшую волю и общее правило, которое гласило: никого нельзя карать.
Нас, последних на тот экзамен, набралось человек шесть, разгильдяев и неучей. Я был, видимо, самым-самым плохим, поскольку позвали меня самым-самым последним. Экзаменационная комиссия к тому времени устала. За окном кабинета физики стояла дивная летняя погода. Занавески, как сейчас помню – бледно-жёлтые, колыхались у открытого окна и усиливали желтизну солнечного света. В школьном дворе веселились и горланили те, кто своё уже сдал. Их голоса и смех залетали в окна. Мне стало скучно…
Строгая наша завуч предложила мне выбрать билет. И непонятно зачем и для кого, соблюдая конспирацию, два раза стукнула пальцем по одному из билетов. Зачем была эта таинственность? Всем всё было ясно. А камер наблюдений тогда не существовало даже в фантазиях учителя физики…
Я подумал тогда: «Какой плохой всё это спектакль! Как бездарно все играют. Как противно, когда все роли выучены, всем пьеса известна, всем она не по душе, но нужно что-то изображать. В таком спектакле невозможно сыграть хорошо».
Я взял тот билет. Наивная наша завуч не могла догадываться, что я не знаю ничего. Вообще ничего! И бессмысленно мне было предлагать лёгкий билет. Лёгких для меня не существовало. Все билеты были одинаковы… Помню, однако, что мне попался билет с темой «Интерференция». Слово запомнилось само собой.
Завуч, увидев, что моё кислое лицо не просияло от лёгкости билета, догадалась, что слишком хорошо обо мне думала. Я же медленно прошёл за парту, сел и опять не стал изображать никакой работы, а просто стал ждать чего-то. И дождался. Маленький кудрявый наш физик, завуч и какая-то дама не из нашей школы, то есть комиссия, пошептались… И физик, страдая и морщась, принёс мне бумажку, которую как бы невзначай оставил мне на столе, якобы проходя мимо меня по своей надобности. В тот момент я вспомнил спектакль «На дне» нашего областного театра драмы – так всё было бездарно задумано и сыграно.
На бумажке было что-то нарисовано и написано. Я это срисовал и переписал. Принесённую бумажку смял и сунул в карман. Как же мне было противно играть эту шитую белыми нитками роль! А в это время предпоследний бедолага что-то мямлил у доски. Мямлил, как под пыткой, но он всё же что-то говорил… Я же точно ничего сказать не мог.
Когда тот самый предпоследний закончил, к доске пригласили меня – распоследнего. Я к доске пришёл и, не издав ни звука, в смысле не сказав ни слова, медленно срисовал и переписал со своего листочка всё, что на нём было, мелом на доску. Физик, завуч и дама терпеливо ждали и тоже молчали. Закончив писать и рисовать, я положил мел на полочку да так и остался стоять, глядя на то, что начертал, вытирая взмокшую и испачканную мелом руку о брюки. Пауза висела невыносимо долго. Я говорить ничего не собирался. Учителя тоже. А пауза висела. «Ненавижу театр», – думал я, изнывая от безмолвия и бессмыслицы происходящего.
– Ты что, плохо себя чувствуешь? – в конце концов спросила завуч. Подождала моего ответа, но не дождалась. – Голова болит, да?
Я подумал и кивнул.
– Погода так и меняется всё время, – продолжила она. – У меня голова день и ночь болит… Ну что ж… Ступай, если не здоров… Иди, иди…
Я ещё раз кивнул и вышел не оглянувшись. Не хотел встретиться глазами с физиком. Вышел из класса, как говаривал дед, будто в штаны натряс. Было ужасно стыдно, противно и тошно. Но не от незнания физики, а от участия в бездарной постановке. За экзамен мне поставили тройку. Всё равно спасибо большое!
Остальные экзамены не буду описывать.
Сочинение по литературе только упомяну. Темы были такие… Приблизительно такие: «Тема свободы в стихотворении “Парус”», «Раскольников и Свидригайлов в романе “Преступление и наказание”», а ещё была свободная тема.
– Пожалуйста, не выдумывай ничего! Пиши, как мы обсуждали. И коротко. Короткими предложениями, – быстро прошептала мне учительница литературы, когда выдавала мне бумагу для написания.
Я быстро и коротко написал сочинение на свободную тему. Написал про то, что в пьесе «Горе от ума» Грибоедова автору особенно хорошо удалось создать образ умного и страдающего молодого Чацкого, который всё же вёл себя глупо, пытаясь дуракам объяснить, что они дураки, а подлецам, что они подлецы. Написал, что таким глупым поведением герой не мог добиться расположения Софьи и что Пушкин считал, что Чацкий мечет бисер перед свиньями. Как-то так.
За это сочинение мне поставили пятёрку. А учительница по литературе сказала мне перед выпускным вечером, что я пижон, что я ей надоел со своими фокусами и что подвёл её своим сочинением, поставил в глупое положение перед другими членами комиссии. Спасибо ей огромное! Была бы возможность, извинился перед ней тысячу раз. За все свои фокусы, а за спектакль «Сирано да Бержерак» отдельно.
В день выпускного мне не верилось, что больше никогда в жизни я не буду прикасаться к алгебре, физике, химии. Я так радовался! Так ликовал! Тогда само осознание значения фразы «никогда в жизни» радовало и вызывало восторг облегчения. Теперь эта фраза вызывает совсем другие чувства.
К выпускному вечеру, хотя это мероприятие громко именовалось «Выпускной бал», наш класс на собрании решил подготовить небольшой концерт и стенгазету. Девочки радостно загалдели, желая делать газету. Они любили ко дням рождения учителей делать газеты с нарисованными цветами и вклеенными в эти цветы фотографиями, а также писать разноцветными фломастерами стихи. Наверное, им было приятно заняться рукоделием и повырезать лица из фотографий за все школьные годы. Меня всегда удивляла страсть девочек к вырезанию чего-то из чего-то, к рисованию цветов и платьев.
Концерт же был практически заранее готов. В классе нашем номеров для этого концерта хватало. Отличница из отличниц, самая аккуратная, с прямой, как указка, спиной и шеей, девочка всегда на школьных концертах громко и самоотверженно читала стихи, в основном про то, как ярко надо жить и стремиться к ещё большей яркости. Несколько девочек регулярно грустно пели весьма печальные песни о том, что школьные годы – это лучшее время в жизни, про то, что школа никогда не забудется и что всё будет хорошо. Один долговязый, сильно заикающийся наш одноклассник ходил в какой-то кружок, где учили делать фокусы. Он их с удовольствием показывал на школьных концертах и не раз представлял нашу школу на городских смотрах. А ещё мы всем классом могли спеть совсем грустную песню про учителя, который нас всех любит, но мы неизбежно растём, покидаем школу, а ему предстоит любить новых идущих следом, но мы, его ученики, никогда не забудем ни школу, ни своего учителя. Вот и весь концерт.
– А у нас ещё есть артист, – вдруг сказал Паша и указал на меня. – Он может показывать пантомиму.
На слове «пантомима» Паша стал нелепо размахивать руками, растопырив пальцы. Все заржали.
– Ну что же, прекрасно! – сказала наша учительница английского языка, самая модная дама в школе, любящая всё диковинное и необычное. – Мы с удовольствием посмотрим и послушаем.
– Я не умею!.. Я не могу… – почти крикнул я, вскочив и опрокинув стул.
– Не скромничай, – сказала учительница английского.
– Но я один не могу, – отчаянно сдерживая крик, сказал я.
– Привлеки кого хочешь, – ответила она. – Порадуйте нас, чтобы нам было что вспомнить о вас хорошего… талантливого, – сказала она, уже обращаясь ко всему классу.
От собрания и до выпускного вечера оставалось ещё четыре дня. В один из этих дней был назначен устный экзамен по истории, самый лёгкий и не страшный.
В те дни я придумал и сделал свой первый в жизни спектакль. Крошечный. Дурацкий. Но спектакль! Спектакль с началом, финалом, персонажами, музыкой, костюмами и даже диалогами. Сначала я был обескуражен заданием подготовить выступление, но потом идея меня увлекла. О настоящей пантомиме я думать не стал. Это было недосягаемо. А вот сделать что-то весёлое мне очень захотелось… И тогда я придумал спектакль-пародию на индийское кино.
Американское кино тогда появлялось на экранах кинотеатров редко. Европейское тоже. Да и то это были фильмы либо исторические, сказочные, или содержащие критику буржуазного общества. Зато индийское кино показывали регулярно. Люди от него были в восторге. Драки, песни, любовь. Мои друзья и я это кино терпеть не могли. Но индийские фильмы мы знали. Лет до одиннадцати-тринадцати мы их всё же смотрели, а то и по нескольку раз. Там много дрались, стреляли и были всякие трюки. Песни и любовь мы терпели. Да и другого кино попросту не было. Девочки индийские фильмы смотрели и после тринадцати лет. Они терпели драки и стрельбу, зато песен и любви в том кино было больше. Мы, мальчишки, над ними издевались по этому поводу.
Наверное, в то время многие так или иначе пародировали индийские фильмы. Или как-то шутили на их тему. Идея моя была не оригинальна. Но я тех пародий, честно, не видел и шуток не знал. Так что я сам придумал свой спектакль. Придумал. Сел. И написал. Это было моё первое сценическое сочинение.
Для постановки нужно было привлечь двух человек. Третьим персонажем, главным героем, намерен был быть я сам. Точнее, я хотел сыграть двух персонажей – отца и сына. Но нужны были ещё мальчик и девочка. Необходимы. Первым делом я привлёк Пашу, который тут же отказался, хотя любил всякие затеи да и покривляться был не дурак. Но спектакль для выпускного вечера – это было другое дело, иной уровень Но я его уговорил. Соблазнил возможностью в спектакле на сцене продемонстрировать свои боевые навыки и достижения в области карате. С девочкой было сложнее. Девочки все хотели участвовать либо с подругой, либо никак. Подруга была не нужна. В итоге удалось убедить одну любительницу индийского кино. Она наивно поверила, что мой спектакль будет не пародийный, не ехидный, а наоборот. А ещё оказалось, что у неё есть настоящая индийская одежда и у неё возникала возможность в ней покрасоваться.
Не буду вспоминать наши репетиции. Это оказалось очень трудным, а главное, очень нервным делом. Любительница индийского кино, моя единственная актриса пришла на репетицию с подругой, объяснив, что без неё она не сможет одеться в индийский наряд. Одевалась она больше часа, а мои аргументы, что для первой репетиции костюм не нужен, она просто пропустила мимо ушей. Паша весь этот час изводил меня легкомысленным своим отношением к делу. Парень, который должен был включать музыку, всё время куда-то уходил.
Мы выступили прекрасно. Не могу вспомнить, как я называл свой первый спектакль. Что-то вроде «Месть за месть» или «Месть из мести». Паша играл злодея, который убивал доброго и хорошего парня, которого играл я. Девочка исполняла роль возлюбленной героя, а потом его мать. Я придумал и выучил танец, который означал, что мой герой очень хороший, добрый, честный, умный и воспитанный человек. Во время этого танца злодей убивал моего героя. Но до своей гибели мой персонаж оказывал жалкое сопротивление, потом танцевал, умирая. Паше в этом спектакле нужно было только громко и зло смеяться. А девочке в индийском наряде нужно было только изображать рыдания и красиво ходить. Она это делала предельно красиво, явно удивляясь смеху зрителей. Чистая, наивная душа.
После гибели моего героя Пашин злодей радовался, показывал разные приёмы, стойки, блоки и удары из карате. А потом уводил рыдающую героиню. Я же в это время быстро переодевался и появлялся в другом костюме. Мой обновлённый герой обращался к героине «мама», а к Пашиному злодею «отец». Я написал пару дурацких диалогов и придумал себе танец, который означал доверчивость, доброту, юность и полную наивность.
В конце спектакля мой герой по имени Виджай возмущался жестокостью отца по отношению к матери и ко всему на свете, он начинал удивляться, почему сам он такой добрый, а отец такой злой. Да ещё совсем не похож с сыном.
В итоге героиня выкрикивала фразу, которая разоблачала Пашиного злодея и сообщала Виджаю, что перед ним не родной отец. После чего шёл танец с дракой, в которой злодей, на свою голову обучивший Виджая карате, погибал в страшных муках. Паша очень хорошо кривлялся на полу актового зала – школьной столовой, изображая мучительную смерть. Кривлялся долго. И при этом по заданию режиссёра, то есть по моему указанию, громко и жутко хохотал. В конце героиня и Виджай танцевали танец радости и торжества справедливости.
Единственная фраза, которую произносила героиня, разоблачая злодея, осталась в моей памяти дословно. Когда я её придумал, то сразу понял, что она мне удалась и является главной фразой всего действа. Я очень гордился ею. Когда на этой фразе зал взорвался смехом и аплодисментами, я впервые ощутил и испытал авторское счастье.
А фраза звучала так: «Сын мой! Это не твой отец. Твой отец убит, а убил твоего отца твой отец».
Нам долго аплодировали. Я видел восторг. Я был и удивлён этим, и счастлив одновременно. Удивлён тем, что у меня получилось пусть маленькое, но выступление на сцене, а счастлив, потому что я хотел восторга, я его жаждал… И получил.
Все нас поздравляли. Хвалили. Я очень хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне что-нибудь про мой спектакль, оценил фразу, разглядел всю тонкость иронии и точность пародии… Но вслед за нами на сцену вышли девочки петь песню о чудесности школьных лет, потом были стихи, потом директор школы говорила нам торжественное напутствие, потом вручали отличникам грамоты и медали. Потом начал играть приглашённый ансамбль. Пошли танцы…Кто-то из одноклассников стал тайком уходить во двор или в туалет, чтобы выпить загодя припрятанного креплёного вина… Про мой спектакль забыли. Забыли быстро… А мне не хватило чего-то. Не хватило слов благодарности и внимания. Не хватило оценки и понимания… Не хватило!
Я тогда не знал, что не будет хватать никогда.
А потом было упоительное лето. Я готовился к вступительным экзаменам… Точнее, я что-то читал из списка литературы к тем экзаменам. Читал в своё удовольствие, ходил в кино на всё подряд. Летний город Кемерово был пустыннее обычного, демисезонного. Спокойнее. Ничто не отвлекало. Даже кино, которое я смотрел, забывалось через какой-то час после просмотра. Я ел мороженое, гулял по парку под названием Комсомольский в надежде найти хорошую скамейку, чтобы почитать. Хороших скамеек в том парке мне не попадалось. Все либо были сломаны, либо грязны, либо заняты. Честно говоря, я так и не научился читать в парках, на пляже, на балконе… Не смог. Всё меня отвлекало, да и теперь отвлекает… Жизнь мешает чтению.
Короче говоря, я поступил в университет. Экзамены сдал не без сильных волнений, но и без особого труда. Я и отвечал неплохо экзаменаторам, и у меня было существенное преимущество перед большинством поступающих. Фора. Козырь. Я был юношей. Мужским родом. А девяносто процентов желающих учиться русской филологии были барышни. В большинстве своём из районных центров, посёлков и деревень. А я был городской парень. Редкий экземпляр. Мне были рады.
Парней поступало на филфак всего десять человек. Поступили восемь. Двое откололись, да и то только потому, что поняли во время экзаменов, что не туда подали документы, и филология им точно не нужна в жизни и не интересна по сути.
За время подготовительных курсов перед вступительными экзаменами я познакомился с ребятами, с какими прежде не общался. Они были особенными. Они обращали на себя внимание. У них была своя компания, свой язык и даже своё собственное пространство и время. Они жили как бы не в Кемерово и как бы не в сегодняшнем актуальном времени. Они были постарше меня. Школу закончили кто пару лет назад, а кто-то и все десять. В армии не служили, как-то от неё отмазались. Что-то делали, где-то работали, или не работали. Подолгу жили не в Кемерово, часто вспоминали Москву и Питер. У одного были дети. На филфак они поступали компанией в четыре человека. Три парня и одна девушка. Однако эти четверо были только частью довольно большой группы тех самых особенных людей.
Они слушали особую музыку. Фрэнка Заппу. У них были пластинки группы Дорс, Чеслава Немана, Майлса Дэвиса… Читали они Германа Гессе, Хулио Кортасара… То, о чём они говорили и над чем смеялись, мне было непонятно. Но их компания меня так возбудила и так потянула в свои ряды! Я почувствовал жгучее любопытство и даже глубокий интерес.
До встречи с ними я был уверен, что много читал и слушал музыки. Но те имена, которые они называли, я в большинстве своём слышал впервые. Я подумал тогда: вот она – интересная студенческая, подлинно свободная жизнь. Вот, где настоящие глубокие содержательные разговоры и смысл.
С той компанией дружили аспиранты и молодые преподаватели филологического факультета. Сообщество, представителей которого я повстречал на подготовительных курсах, явно было центром притяжения для особенных людей. Я очень хотел быть особенным.
После поступления и зачисления, после получения студенческого билета, после торжественного ужина, который устроили родители в честь начала моего студенчества, но ещё задолго до начала занятий, летом, мне позвонил мой новый приятель, а теперь ещё и сокурсник, один из описанной выше компании. Он пригласил меня вечером в гости, «на квартирник». Так он сказал. В тот раз я впервые слышал этот термин. Адрес, который он мне сообщил, находился в самом-самом центре и в самом лучшем и красивом уголке города. Я прежде ни разу не бывал в домах и квартирах того уголка.
На том квартирнике собралось человек десять парней, мужчин и девушек. Сама квартира была большая, в сталинском доме, с хорошей мебелью и картинами на стенах. С превосходной библиотекой, красивой посудой в буфете. Квартира была почти как у профессоров в Томске, только чисто прибранная, без хлама, без джунглей разросшихся растений, без уютного беспорядка, а совсем наоборот. Всё было на своих местах, всё продумано, дорого и солидно.
Собравшиеся, наоборот, были продуманно неряшливы, длинноволосы, небриты и бледны. Они казались тайком проникшими ночью в музей. Девушек было две. Обе в джинсах и каких-то растянутых, застиранных свитерах. С прямыми, длинными волосами и обе в очках.
Когда я пришёл, все уже были в сборе. Большой стол в гостиной был отодвинут к стене. В центре комнаты на полу лежала серенькая скатерть. На ней стояли тарелки с хлебом и какой-то порезанной колбасой, блюдце с орехами, вазочка с конфетами. Всего немного. Никто ничего не ел. Ещё на скатерти стояли стаканы и бокалы. Пара бутылок вина и бутылка водки. Кто-то сидел на полу, кто-то на диване, кто-то курил на балконе. Голоса доносились с кухни. Все говорили разом. Смеялись.
Пригласивший меня парень представил меня всем. Парни и мужчины, которым я был представлен, как и девушки, были длинноволосыми, кроме одного, совершенно лысого. Все по очереди со мной поздоровались и продолжили свои разговоры. Я не знал, куда себя пристроить, потоптался и робко присел на диван. На том диване уже сидел тощий парень, одна из двух девушек, а перед ними на полу восседал высокий, румяный человек с кудрявой светлой бородой и роскошной шевелюрой. Они говорили оживлённо и весело то ли о какой-то книге, то ли о фильме, то ли о каком-то новом альбоме какой-то группы. Я слышал незнакомые иностранные имена, массу неведомых терминов, какие-то названия то ли городов, то ли планет, то ли рек, то ли просто неизвестных мне предметов одежды или продуктов питания. Я ничего не мог понять. Они же говорили так, что было ясно: они не просто знают значение всех этих слов, но и всеми упомянутыми предметами давно и привычно пользуются, бывали во всех упомянутых городах, а людей, чьи имена звучали, знают лично и близко.
Я, аккуратно стриженный, в своей аккуратной клетчатой рубашке с коротким рукавом, заправленной в мои любимые вельветовые брюки, казался себе в той компании страшно скованным дремучим провинциалом с окраины города. Города, который находится на окраине мира. Из глухомани. Из дыры.
В компании томских профессоров я не чувствовал себя столь убогим и ничего не знающим. Но мне было всё интересно, мне казалось, что всё наполнено смыслом. Я бы так и сидел, стараясь не привлекать внимания. Слушал бы и пытался запомнить незнакомые слова и названия. Но тут с балкона шагнул в комнату совсем бледный человек, очень худой, в белой, чистой, не глаженной длиннющей рубашке и сильно застиранных, почти белых, джинсах.
– Ну что, послушаем? – улыбнувшись, сказал он, обращаясь к собравшимся. – Запись свежая, можно сказать, тёплая. Ещё никто не слышал… Даже в Питере. Почти никто. А на просторах Сибири вы точно будете первыми.
– Давайте! – сказала девушка с дивана. – Мне не верится… Правда!.. Даже в дрожь бросает.
– Будем слушать новый альбом «Аквариума», – тихонечко, почти на ухо, сказал мне пригласивший меня парень. – Дима только что из Питера. Привёз запись. Только-только закончили писать… Ему дали… Гребенщиков лично…
– Только сразу говорю, – сказал человек в белой рубашке, улыбаясь, но серьёзно и многозначительно. – Чтобы без обид. Слушаем здесь и сейчас. Никому плёнку переписать не дам. Не могу. Дал слово. И домой никому не дам. Даже в руки не дам. Обещал… Ну что, готовы?
Магнитофон, усилитель и акустическая система в той квартире были великолепные. Японские. Я таких прежде ни у кого не видел.
Человек в белой рубахе сходил в другую комнату и принёс катушку с плёнкой… Магнитофон и усилитель включили, зажглись огоньки и экранчики индикаторов. Вздохнули и зашипели колонки. Все притихли, магнитофон начал вращать катушки, и плёнка потекла с одной на другую. Сначала зазвучала флейта.
Я тогда уже знал песни «Аквариума». Разные. Какие-то мне нравились, какие-то нет. Какие-то мне хотелось понять до конца, какие-то не хотелось понимать вовсе. Некоторые я знал наизусть и обожал.
Тот альбом мне совершенно не был понятен. Звучало всё неплохо, местами чудесно. Но я не понимал, о чём пелось. Я не знал буддистских терминов, не улавливал тем и не угадывал смысл. А все в той квартире понимали. Они вместе смеялись, вместе чему-то одобрительно кивали, переглядывались, чтобы поделиться восторгом. Я отчётливо видел, что всё, что мне непонятно, для остальных наполнено важным и ясным содержанием.
Я вообще-то слушал много музыки. Чаще всего дома один, бывало с другом или с несколькими приятелями. Какую-то я страстно любил и слушал с наслаждением. Но я никогда не слушал музыку так, как те люди в той квартире. Они впитывали всё. Их глаза закатывались или закрывались сами собой, так они растворялись в звуках. Они с упоением слушали даже шипение колонок и шелест плёнки в перерывах между песнями. Слушали, потому что это были шипение и шелест между песнями «Аквариума». Это шипение было записано на одной плёнке с голосом и музыкой Гребенщикова. Они наслаждались самим этим шипением.
Я тогда так захотел понять и почувствовать то же, что чувствовали собравшиеся! Я так захотел быть одним из них… Но ничего не понимал. Наоборот, чуть несколько раз не зевнул. С трудом и до сильной боли в скулах сдержал зевоту. Я понимал, что зевание под новый альбом «Аквариума» мне не простят.
Тогда, в той квартире, в элитнейшем районе Кемерово, сидя тихонечко на диване, я был уверен, что то общество, в которое я попал, – это и есть элита. Элита даже не Кемерово, а элита вообще.
Интересы этих людей были непостижимо далеки от того, чем жили, что делали, о чём думали, чего хотели, что читали и слушали, чем интересовались кемеровчане. Все! От вахтёров до врачей и преподавателей вузов. Мне страстно захотелось быть одним из тех, кто собрался на квартире, а не одним из кемеровчан.
После того вечера я потянулся к обществу этих людей всем своим существом. Я через день да каждый день к кому-то ездил домой или на дачу. Все мои новые знакомые были обеспечены и дачами, и квартирами в центре, и автомобили многим были доступны, что в то время было признаком широких возможностей. Никто из них не работал или не был очень занят и обременён обязанностями. Все как-то что-то и зачем-то делали. Но назвать это работой было нельзя. Я понимал, что квартиры и дачи принадлежали родителям, может быть дедушкам или дядям этих моих приятелей. А эти папы и дяди, очевидно, большие люди, но где они, эти предки, и почему отсутствуют, меня не интересовало.
Я удивлялся другому. Я же знал, хоть и не был знаком лично, что дети тех людей, которые жили в том районе города и имели дачи, не должны читать Музиля и Пруста или вообще что-то читать. Они не могут слушать Фрэнка Заппу и «Аквариум». Дети партийных руководителей, прокуроров, директоров шахт и заводов, главврачей и заведующих магазинами учились в двух центральных школах, похожих на уменьшенный вариант Смольного института. Про детей из тех школ ходили легенды и мифы. Люди пересказывали друг другу случаи про замятые жуткие скандалы, про настоящие оргии и даже про наркотики.
Новые мои знакомые были совсем не такими. Они могли часами говорить о неизвестных мне материях, обсуждать новую пластинку Дэвида Боуи или безмолвно слушать и страстно впитывать запись концерта Майлса Дэвиса. Они передавали друг другу книги… Были среди них те, кто мог много выпить водки и выпивал, а были те, кто не выпивал совсем. Курили в той компании поголовно. И, как я узнал позже, а сам догадаться и понять не мог в силу наивности и целомудренности, покуривали марихуану. Но тоже не очень активно. Иначе я заметил бы что-то странное. Они не матерились вовсе. Наоборот, старались говорить витиевато, часто иносказательно и иронично.
Вся мною прочитанная литература, всё, что я знал и любил, знанием чего я гордился, то, чего не читали и не знали одноклассники, было в том обществе, куда я случайно попал, давно и хорошо известным по умолчанию. Никакой Лермонтов, Толстой, Гоголь и уж тем более Стивенсон и Куприн ими не упоминались вовсе. Разве что Достоевский, да и то в связи с какими-то другими авторами или философами. Никакого Тютчева или Фета, никакого Блока! Про Твардовского или Рубцова глупо было даже заикнуться.
Сартр, Фриш, Беккет, Борхес, Гурджиев… Кортасар… Страшно сказать – Кастанеда… И масса ещё имён, которые я тогда услышал впервые. Некоторые из них я больше не слышал никогда.
Знания моих новых приятелей, их интересы мне виделись глубокими и особенными. А мои собственные познания и пристрастия осознались мною обычными, среднестатистическими, устаревшими и никуда не ведущими.
Они слушали и наслаждались такой музыкой, которая мне казалась либо слишком сложной, либо вообще не казалась музыкой. То, что слушал и любил я, было для них давно пройденным, переработанным материалом некой верхушкой, тем, с чего они когда-то начинали, но давно и быстро прошли, всё про это поняли и углубились или, наоборот, поднялись на качественно иной уровень.
Я брал у них записи и пластинки, брал книги. Слушал и читал. Упорно. И был в ужасе сам от себя. Мне трудно было слушать Майлса Дэвиса. Я не мог уловить разницы одной его композиции от другой. А Фрэнка Заппу я попросту не мог слушать. Я ощущал себя не то чтобы ущербным, но не способным полюбить ту музыку. Не способным даже её слушать.
С трепетом и пиететом один из моих новых знакомых дал мне на недельку почитать книгу Германа Гессе «Степной волк».
– Завидую тебе, – сказал он, протягивая мне весьма почитанную книгу в тёмно-синей обложке. – Ты ещё это не читал. Хотел бы я это прочитать так, будто не читал никогда. Перечитывал пять раз. Каждый раз открываю новое. Шедевр!.. А потом тебя ждёт его «Игра в бисер». Это вообще космическая книга.
Я прочёл «Степного волка». Это было трудно. Почти мучительно. Я заставлял себя. Заставлял не читать, а заставлял себя получать удовольствие, заставлял вчитаться и увлечься. Но мрак текста не давал мне такой возможности.
Сейчас мне ясно, что это мои юность и жизнерадостность сопротивлялись. Тягучий Роман Даниила Гранина «Картина», входивший в программу по внеклассному чтению, Тендряков и Приставкин не вызывали у меня такой тоски, как Герман Гессе. Даже Фадеев, даже «Мать» Горького многое во мне затрагивали. А тут… Я ненавидел себя!
Знакомство с тем обществом внесло смятение в мою душу и сознание. Мне не только хотелось быть в этом обществе, общаться в нём, слышать, слушать… Но и стать в нём заметной фигурой со своим мнением и со своей темой.
Но для этого мне необходимо было догнать их в развитии и познании. А как? Если то, что мне ими давалось для прочтения и прослушивания, усваивалось со скрипом, а то и попросту отторгалось. Я мучился! Они же в это время уходили вперёд семимильными шагами.
К тому же они много куда-то ездили, летали. В основном в Питер. У них были тесные связи с питерскими музыкантами, художниками, какими-то заметными, умными людьми. Из Питера они получали свежую музыку, тексты… От них я слышал про настоящие питерские «квартирники», то есть квартирные концерты Гребенщикова, Майка Наумова и Цоя. Записи этих квартирников мы слушали то на одной квартире, то на другой, то на чьей-то даче. Это мне искренне понравилось. И я слегка расслабился. Но те тексты, которые долетали из Питера, какие-то стихи новейших поэтов, новая проза, изобиловавшая, о ужас, матом, да ещё какие-то художественные манифесты литературных объединений или групп художников – этого уже я понять был не в силах. Мои же новые знакомые, наоборот, – всё понимали. Все эти стихи и манифесты были будто лично для них написаны.
Мне кажется, что я тогда совсем не думал о пантомиме. Не помню точно. Я был слишком увлечён, очарован. То очарование длилось недолго. Вскоре начались занятия. Начался университет.
Я не ожидал, что лекции и первые семинары так сильно меня увлекут. Мне понравился совершенно иной уровень обращения преподавателя из-за кафедры к аудитории, то есть ко мне, студенту, чем тот, что был в школе.
Первые же лекции по древнерусской литературе, языкознанию, античной литературе, фонетике просто поразили меня глубиной и объёмом тем, значений и смыслов. Я с упоением отдался учёбе. Поразительно, но то, что я изучал на первом курсе, запомнилось, врезалось в память и сохранилось в ней, уцелело намного лучше, чем то, что изучалось мною на третьем и четвёртом курсах университета. И уж тем более на пятом.
Я не пропускал ничего из учебной программы. А вот мои новые знакомые пропускали практически всё. Древнерусская литература, как они говорили, им была уже не нужна. Они сообщали об этом так, будто знают её глубоко и давно. Фонетика и языкознание было для них чем-то вроде букваря. Античную литературу они игнорировали, потому что лектор им не нравился. Они считали его формально относящимся к делу карьеристом, который недостоин их внимания и недостоин права говорить о великом античном наследии.
Появлялись они только на лекциях по введению в литературоведение, которые читал спокойный, ироничный и симпатичнейший преподаватель по фамилии Дарвин. Во время его лекций они часто, как знатоки, переглядывались друг с другом, постоянно что-то комментировали и даже хихикали. Для них эти лекции явно были слишком просты. Элементарны. Они уже прочитали работы Бахтина и Лотмана. Они были выше уровня тех лекций. Они приходили на них, только чтобы потешить своё самолюбие и убедиться в своей элитарности.
А я на лекциях по литературоведению почувствовал первый в жизни глоток, который ждала моя жажда знаний о том, как и каким образом устроено, живёт и работает произведение искусства. Я впервые услышал ответы на терзавшие меня вопросы, и их у меня сразу же возникло ещё больше.
На первом же занятии по теории литературы в качестве наглядного примера нам был предложен анализ стихотворения Лермонтова «Парус», того самого, что я учил наизусть в шестом классе. С этим стихотворением было связано столько школьной тоски и скуки! На этот белеющий на фоне моря парус за школьные годы было навешано столько тяжеловесных штампов! Он был и символом свободы и одиночества, и жажды чего-то прекрасного, и много чего ещё. Этот парус набил оскомину и мозоль. Он раздражал.
И тут вдруг давно заученное стихотворение, затёртый и истрёпанный по поводу и без повода «Парус» удивительным образом оказался невероятно сложно устроенным и тонко сшитым произведением. А потом в процессе разбора его деталей и анализа прямо у нас на глазах, в университетской аудитории, в устах преподавателя короткое стихотворение превратилось сначала в совершенный кристалл безупречной чистоты, а потом в уникальный бриллиант гениальной, сложнейшей огранки. «Парус» заиграл, засверкал всеми гранями, но ещё и поразил своей глубиной и ясностью.
У меня дух захватило от восторга. Я немедленно захотел подвергнуть такому же анализу все мои самые любимые стихотворения, а потом и прозу. Мне захотелось разобрать, препарировать, проанализировать всю известную мне литературу.
На третьем или четвёртом практическом занятии по введению в литературоведение наш очаровательный Дарвин предложил выбрать какие-то нам интересные литературные произведения для совместного анализа. Я тут же вскочил и сказал, что знаю, какой именно текст хочу проанализировать, и что всем он тоже будет интересен.
– Какой же? – улыбнувшись одними глазами, спросил Дарвин. – Весьма любопытно! Вы, надеюсь, понимаете, что произведение не может быть объёмным, мы ограничены во времени и… И ещё оно должно иметь бесспорные художественные достоинства. Лучше обратиться к классике. Это надёжнее всего.
– «Неточка Незванова»! – выдохнул я радостно. – Достоевский! Очень хорошее и небольшое…
У Дарвина поднялась одна бровь, он таинственно улыбнулся, опустил глаза, подумал и снова поднял взгляд на меня.
– Хорошая повесть, – улыбаясь непонятной мне улыбкой, сказал он. – Прекрасная… Но, поверьте мне, она огромная… Курсе на третьем постарайтесь вспомнить своё предложение… Тогда вы поймёте. – Он коротко задумался и улыбнулся ещё таинственнее. – На эту повесть можно потратить всю жизнь. Просто поверьте на слово… Давайте лучше я предложу… Ну-ка кто сможет продолжить?.. Ночевала тучка золотая… Ну?
– На груди утёса великана, – растерянно продолжил я, думая об услышанном.
Я со всем возможным рвением и упоением готовился ко всем занятиям, старался читать всё, что было рекомендовано, сердился на себя, если не успевал хоть что-то прочесть. Я почти прописался в читальном зале университетской библиотеки. После школьной лени и скуки всё во мне вскипело, всё ожило, всё с жадностью впитывало новые знания. Я не сомневался в нужности получаемого на лекциях и из книг. Родители не скрывали удивления, наблюдая за мной, сосредоточенным и увлечённым. А я утомлял их тем, что при любой возможности пытался рассказать им о своих открытиях, поведать, сообщить, объяснить то, что узнал в самом начале своего филологического пути.
О пантомиме я не вспоминал вовсе. Упражнения, тренировки пальцев, растяжки и работу над идеальной осанкой тоже позабыл. Позабыл как что-то необязательное и ненужное.
В новую свою компанию удавалось вырываться реже. Но я всё же находил время для встреч с моими длинноволосыми, бледными приятелями. Я не хотел рвать с элитой. Очарование их мирка и общества ещё не померкло. Но мне определённо стало с ними скучновато.
А ещё я перестал быть с ними во всём согласен. До открытой полемики не доходило, но внутренний спор со многими их утверждениями во мне уже начался. К тому же мне не нравилось, что мои сокурсники из той компании стали подшучивать надо мной по поводу моего рьяного отношения к учёбе. Меня это задевало, но не критично.
Интеллектуальный шарм и флёр тех вечеров, особые темы разговоров и ощущение приобщённости к важным культурным процессам, которые происходили в Москве и Питере, возможность пользоваться свежими их плодами и даже быть их частью крепко держали меня в том обществе.
Никто из тех элитарных моих сокурсников в итоге не отучится и года. Они не захотят и не смогут, как все остальные, в основном девочки из шахтёрских городков и посёлков, готовиться к экзаменам и зачётам, сдавать в срок сессию. Преподаватели быстро поймут их высокомерное отношение к себе и своим предметам. Они расстанутся с этими интеллектуалами без сожаления, если даже не с облегчением.
Я тоже с ними расстанусь, когда пойму, что их надменный взгляд на то, что мне интересно и важно в учебном процессе, на всё почти, что мне дорого в искусстве, меня обижает и оскорбляет.
Уходя из той компании, я громко хлопну дверью и заявлю перед уходом что-то обличающее и что-то насчёт того, что Герман Гессе – напрочь устаревшая муть и заумь, которая интересна только таким, как те, кто над ним трясётся, таким вот заумным отщепенцам, бездельникам и словоблудам. Вслед мне прозвучит дружный, громкий, вполне искренний и тем самым ещё более обжигающе-обидный смех.
Это теперь я понимаю, что мне посчастливилось пообщаться и сдружиться с последними хиппи уходящей эпохи, которая не ощущалась уходящей, а, наоборот, казалась бесконечной. Это были особые хиппи, уникальные сибирские битники, которые сами себе выдумали особый образ жизни, интересы и философию, будучи уверенными, что попросту точно восприняли и усвоили истинные идеи битничества и хиппизма.
В них фантастически преломилось всё: и музыка, и литература, и прочие месседжи их кумиров. Убеждён, что Фрэнк Заппа был бы страшно удивлён теми смыслами, которыми наделяли и освящали его музыкальные шалости кемеровские его апологеты. Уверен, что у Фрэнка не было более преданных поклонников, чем сибирские интеллектуалы.
Я вспоминаю их теперь с теплотой. При всей их абсолютной и сущностной бесплодности, лени и полной неспособности слушать и слышать современность они всё же были яркими. У них была своеобразная романтика и бесспорная стойкость.
Их невозможно было соблазнить или заставить делать карьеру, жить нормальной социальной жизнью и вообще делать хоть что-то, пусть даже за значительные деньги. Они, конечно, не голодали. Но, думаю, и реальный голод не заставил бы их работать. Сдохли бы тихонечко в обнимку с книгой Пруста или Музиля, докуривая последний косяк плохой сибирской марихуаны, но палец о палец не ударили бы ради пропитания. Где-то они теперь?..
Я благодарен им ещё и за то, что моё знакомство с ними, очарование, а потом бегство из их компании случились вовремя. Очень вовремя! Как своевременная, пусть и болезненная прививка. В данном случае прививка от жажды и стремления к элитарности. С тех пор я шарахался от любых закрытых обществ, братств и цехов. Про секты даже не говорю.
После того как я расстался с той компанией, меня уже ничего не отвлекало от учёбы. Я был ею поглощён полностью и целиком. Я стал посещать научные семинары, где мне было трудно что-либо понять, потому что то была территория зрелых литературоведческих интересов старшекурсников и аспирантов.
Я не поднимал головы от книг, конспектов, учебников. Латынь – и та меня радовала своим завораживающим академизмом.
Так бы оно и шло, так бы оно и продолжалось, если бы однажды холодным осенним вечером, которым сыпал первый снег за окном, мама не заглянула ко мне в комнату, где я при свете настольной лампы с сомнамбулическим наслаждением читал «Медею» Еврипида.
– Сынок, – сказала мама, – отвлекись на минутку. На следующей неделе в среду у нас в институте будет набор в студию пантомимы… Объявление видела вчера, но забыла тебе сказать. Это тебе ещё интересно?
Я не сразу до конца сообразил, что услышал. Могучая трагедия Еврипида не позволила моментально переключиться.
– В среду? – скорее из вежливости спросил я. – А во сколько?
– В девятнадцать часов, – ответила мама.
– В девятнадцать?.. Наверное, не смогу. У нас по средам научный семинар. Но спасибо!..
– Я подумала, тебе будет интересно… Дело твоё. Я должна была тебе сказать…
– Да-да… Спасибо, мама, – сказал я и продолжил читать буквы, но уже не складывая их в слова.
Я услышал, как мама закрыла за собой дверь. Мои глаза оторвались от книги. Я уставился в тёмное окно с летящим за ним по диагонали быстрым снегом. Посидел так секунду или минуту… А потом сердце сжалось, все внутри похолодело и опустилось в ноги, как от вида жуткой высоты или разверзшейся пропасти. В голове же при этом прозвучало: «Пантомима! Не может быть!.. В среду. В девятнадцать часов… У мамы в институте… В Кемерово… Быть не может!»
Не могу представить, как бы всё обернулось в моей жизни, чем бы я теперь жил, что делал бы, где и с кем… Если бы мама не увидела того объявления, или увидела, но забыла бы о нём, или, наоборот, сознательно решила мне о нём не сообщать, дабы не отвлекать от учёбы… Страшно подумать!
Институт, в котором мама преподавала страшные для моего слуха и сознания дисциплины – теплотехнику и термодинамику, находился в те времена на окраине города. Почти за городской чертой. Он стоял в темноте и за пределами света, которым ночью город освещает свои улицы и дворы. Потом уже город вырос и сначала обнял здание и территорию института, а потом и поглотил его своей растущей плотью. Но тогда это учебное заведение стояло на отшибе и к нему от границы светящихся окнами домов вела едва освещённая, а частенько совсем тёмная дорога. Когда выпадал и ложился снег, дорога та превращалась в скользкую тропу, а весной в некую болотную трясину, поверх которой периодически бросали узкие дощатые тротуары. На окраине ветер гулял почти свободно. Улицы Кемерово, как и всех новых сибирских городов, широки, расстояния между домами на их окраинах щедры, деревья редки и худосочны. Ветрам было где разгуляться. А за городской чертой дуло так, что люди шли в мамин институт против ветра чуть ли не под углом в 45 градусов или сбивались с тропы под особо сильными боковыми порывами.
Я не любил тот институт. Здание его было отвратительно некрасиво, да ещё и плохо построено. Ходили слухи, что проект этого здания был разработан для юга, а его построили в Сибири. В пользу такой версии говорили несуразно большие окна, которые никак не соответствовали лютой зиме. Эти окна с приходом холодов замерзали, покрывались белым инеем и слепли.
Мне доводилось бывать у мамы на работе, и мне не нравилась общая атмосфера, которая там царила. В мамином институте готовили кадры для пищевой промышленности. Он так и назывался: Технологический институт пищевой промышленности. В нём учились будущие холодильщики, технологи мясной и молочной продукции, заведующие разными пищевыми производствами и даже директора столовых, ресторанов и прочих ужасов тогдашнего общественного питания.
Разумеется, студенты, жаждущие получить все эти профессии, были не такими, какие учились в университете на историческом или математическом факультетах, не такими, как весёлые и циничные студенты-медики, и даже не такими отчаянными, как будущие инженеры разных шахтёрских специальностей, которых готовил кузбасский политех.
Студенты-пищевики были какие-то изначально взрослые, конкретные и не студенческие. Никакое студенческое творчество не могло зародиться и произрасти в стенах маминого института. Почему же студия пантомимы появилась в нём, для меня остаётся загадкой до сих пор. Возможно, в те времена существовали нормативы, по которым в каждом учебном заведении должны были существовать хоть какие-то творческие коллективы, вот руководство института и решило завести себе столь экзотическую студию. Кто знает… Но то, что студия пантомимы возникла именно в мамином скучном институте, стоящем практически за городской чертой, во многом и многое определило.
Но это мне стало ясно потом, а тогда сообщённая мамой новость меня просто ошеломила. Как могла появиться чудесная, таинственная, недосягаемая и очень нездешняя пантомима в скучном, мрачном и холодном институте пищевой промышленности?!
Мама меня удивила в пятницу, а набор в студию был объявлен на среду. К вечеру воскресенья я уже с большим трудом мог сосредоточиться на чтении учебника исторического языкознания. Весь понедельник и вторник на лекциях я ловил себя на том, что не слушаю, а рассеянно думаю о том, что мне предстоит в среду. Я усиленно старался не думать об этом, но получалось слабо.
Несколько раз я просил маму подробно мне пересказать, что было написано в том самом объявлении. Нужно ли к 19 часам в среду что-то подготовить, в смысле как-то продемонстрировать свои физические и артистические способности? Может быть, нужно что-то с собой иметь? Может быть, нужна какая-то специальная одежда или обувь? Но мама ничего такого не могла вспомнить и всякий раз, будучи на работе, забывала то объявление перечитать.
Во вторник после занятий я, вместо того чтобы пойти в библиотеку, поехал в мамин институт с одной только целью – прочитать объявление лично. От конечной остановки троллейбуса мне пришлось долго идти по осенней, холодной слякоти, на островках которой лежал не тающий уже снежок.
В холле на скучной доске объявлений, мимо которой местные студенты проходили не оглядываясь, среди объявлений о сдаче донорской крови, среди графиков каких-то дежурств и тому подобного, я не сразу нашёл листочек, на котором от руки синим фломастером было написано: «Такого-то числа (число соответствовало среде) в 19 часов в балетном зале, аудитория № (такая-то), состоится конкурсный набор в студию пантомимы. Приглашаются все желающие».
Слова «конкурсный» и «пантомима» были подчёркнуты красным. Объявление было маленькое, неприметное, написанное неуверенно и коряво. Но сердце моё бешено заколотилось. Особенно от слова «конкурсный».
Это слово предполагало, что в студию пантомимы ожидается много желающих, но количество тех, кто сможет быть в неё принят, ограниченно. То есть будет конкуренция и каким-то образом претенденты должны будут доказать своё право быть зачисленными.
Однако в объявлении больше ничего не сообщалось. Что будет за конкурс, что для него нужно подготовить или что с собой необходимо иметь – ни слова. Так что то, что нужно будет сделать, чтобы доказать своё право на попадание в студию пантомимы, для меня осталось загадкой. Тайной!
Полностью озадаченный и взволнованный, я пошёл из пищевого института домой. Мы жили не очень далеко, у самой окраины, но всё же в городской черте. Шёл я, погруженный в размышления, практически не разбирая дороги, хотя обычно старался ходить осторожно, чтобы не заляпать обувь. Дорога была сплошной грязью.
Как часто я думал в те времена: «Бедная мама! Как она ходит по этой дороге? Как умудряется она по ней ходить на каблучках? Как ей трудно! Как невесело, грустно, страшно зимними кромешными утрами и вечерами ходить ей на работу и с работы. Ужасная, унизительная, тоскливая дорога!»
Весь вечер накануне заветной среды я повторял упражнения из книжки И. Рутберга, разминал пальцы и гадал, гадал, гадал… Что же меня могут попросить сделать? И что сам могу показать?
Я вспомнил, как артистично умел падать в снег, изображая убитого, но подумал, что вряд ли это пригодится. Вспомнил, что веселил одноклассников рожами и кривляньем, довольно ловко мог изобразить разных калек: хромых, паралитиков, а также припадки и конвульсии. Вспомнил и сразу решил забыть… А больше я ничего такого не умел. Такого, что могло бы показать мои физические и пластические возможности. Ну и артистические в том числе.
Волнуясь, я гнал от себя мысль, что, возможно, придётся читать стихотворение или басню. Я твёрдо решил, что если потребуют, то встану и уйду. Я терпеть не мог выразительно читать стихи, и мне было мучительно неудобно слушать то, как свои стихи читают поэты. Я испытывал в этот момент жуткую неловкость за самих поэтов, как будто мне приходится наблюдать за человеком, который делает что-то нелепое и постыдное. Особенно сильную неловкость вызывали у меня телевизионные выступления А. Вознесенского и Б. Ахмадулиной. Даже один на один с телевизором я испытывал за них неловкость. Зачем они это делают так, думал я. Стихи были прекрасны, восхитительны. Зачем они так тянут звуки, зачем завывают, зачем придают чудесным сочетаниям слов такие нечеловеческие интонации? Зачем убивают собственные стихи и смыслы? Я сам глазами читал их стихи куда лучше. Во мне они звучали ясно и прекрасно… Хорошо, что тогда я ещё не слышал Бродского и прочёл его раньше, чем увидел и услышал.
Но самой большой загадкой и тайной, волновавшей меня накануне той среды, было вот что: а кто там в студии пантомимы будет проводить конкурсный набор? Кто будут эти люди? Неужели в Кемерово есть те, кто такое может сделать и потом пантомиму преподавать? Будет ли это некая комиссия из пантомимических специалистов и артистов? Или это будет какой-то один человек?..
А ещё меня очень интересовало, кто будут те люди, которые так же, как я, хотят пантомимой заниматься, знают, что это такое, и прочли то самое крошечное объявление в стоящем за городской чертой институте.
Мне грезились в качестве первых некие знакомы И. Рутберга, этакие тонкие, стройные пожилые люди с великолепной осанкой и балетной походкой. Таких я видел в кино про аристократов. В качестве вторых я представлял себе высоких длинноногих и длинношеих юношей и девушек, очень грациозных и гибких.
Так фантазировал я и тут же задавал себе вопрос: а откуда они все могут взяться в Кемеровском институте пищевой промышленности?
Я не помню, как прожил ту среду до вечера. Помню только, что тщательно продумал и подобрал одежду, в которой отправился на конкурсный набор в студию пантомимы. Я всегда, точнее, лет с четырнадцати был сильно недоволен своей фигурой, завидовал тонконогим и длинноногим сверстникам. Поэтому оделся во всё темное и, на мой взгляд, стройнящее. Начистил ботинки, почистил щёткой пальто, долго решал, в какой шапке пойти. А шапок было две. В итоге пошёл без шапки.
За секунду до моего выхода в прихожую выглянула мама.
– Ну что? Пошёл? – спросила она.
Я кивнул и буркнул что-то вроде, мол, да.
– Удачи, – спокойно сказала она.
Я снова кивнул, открыл дверь и шагнул за неё.
– Ты что, без шапки?! – успела негромко крикнуть мама, но я уже закрывал дверь.
То, как я шёл в студию пантомимы в первый раз, я запомнил отчётливо. Это был путь не в мамин институт, а именно на пантомиму.
Я пройду по той дороге множество раз, и это всегда будет для меня дорога в студию, а не в какой-то институт пищевой промышленности. С тех пор я никогда больше не думал про ту дорогу как про тоскливую, плохую и страшную.
Я шёл. В тот день к вечеру здорово приморозило и слякоть с грязью прихватило. Дорога стала скользкая, вся в коварных ямках, застывших лужах и шишках мёрзлой грязи. Но при этом совсем не пачкающая. Воздух стал студёный и почти неподвижный. Руки моментально замёрзли, я сунул их в карманы пальто и сжал там в кулаки. Однако шёл я не горбясь и не стал запахивать лёгкое своё пальтецо.
Со мной происходило нечто подобное тому, что я чувствовал в Томске, когда шёл на спектакль «Шляпа волшебника». Я ощутил, что со мной происходит что-то непостижимо важное и значительное, грядёт то, что будет иметь огромное значение для всей моей жизни.
Мне не было страшно, мне было волнительно. И во всём происходящем звенела странная торжественность. Торжественность, свойственная переломным событиям.
Когда я почти дошёл, совсем стемнело. Наступила холодная, осенняя сибирская тьма. Границы города с фонарями и окнами остались за спиной, и мне открылось ясное звёздное небо, которое нависло над уродливым зданием института. Здание это бледно светилось простуженным светом редких, ещё не погасших окон. Я взбежал на крыльцо легко и со всей возможной грацией.
Часы над входом показывали без четверти семь. Фойе института и его длинные коридоры были совершенно безлюдны. Гардероб стоял закрытый. В это время в моём университете ещё кипела жизнь. А тут… Тут казалось, что внутри холоднее, чем на улице.
Я постоял немного, подождал, пока появится кто-нибудь из местных обитателей. Я забыл узнать у мамы, где находится балетный зал. Первым из коридора на выход прошёл молодой толстый мужчина. Я извинился, поздоровался, он приостановился, и я спросил его про местоположение балетного зала. На мой вопрос он ответил тягучим «Чего-о-о-?», усмехнулся и ушёл. Потом я спросил двух весёлых, румяных старшекурсниц. Они переглянулись, засмеялись и сказали, что у них тут нет такого. Примерно так же мне ответили ещё несколько человек. Стало ясно, что балетный зал не пользуется в пищевом институте популярностью.
Объявления на доске уже не было, а номер помещения я не запомнил. Я уже решил пуститься в поиски и рыскать по всем этажам и корпусам, как появилась старенькая техничка1 и объяснила мне, как пройти.
Поднимаясь по указанной лестнице, я озадаченно думал о том, что не увидел в фойе многочисленных желающих пройти конкурсный отбор в студию пантомимы. Точнее, я не увидел ни одного желающего. Все, кого я встретил, спешили на выход.
На втором этаже главного корпуса свет был погашен. Налево уходил коридор, в котором тускло светили бледные лампы. Я прошёл по нему до конца.
Коридор заканчивался открытой дверью, ведущей в довольно большое и неожиданно ярко освещённое помещение. Я зашёл в него без пяти минут семь.
Это был обычный зал для занятий танцами. Я прежде в таких не бывал, но видел подобные в кино и каких-то передачах про балет. Одна его стена была полностью зеркальная, вдоль неё на высоте моей груди тянулся деревянный поручень, то есть балетный станок, только я тогда ещё не знал, что он так называется. Напротив зеркальной стены находилось большое сплошное от пола до потолка окно, которое тоже в тот момент представляло собой зеркало, потому что за ним густела непроглядная тьма. У дальней стены стоял покрытый серой тканью рояль.
В балетном зале ещё я увидел низенькие скамейки, стоявшие вдоль окна, и несколько стульев. На всём этом сидело человек десять. Точнее, все они были женщинами разного возраста. В основном молодыми, но всё же определённо старше меня. Они сидели молча. Кто-то был в наброшенных на плечи пальто или куртках. Кто-то держал верхнюю одежду на коленях.
Только одна была в тонком светлом свитере с глухим горлом, широких брюках и мягких светлых ботинках без каблука. Стул, на котором она сидела, стоял посреди зала строго напротив входа.
Взгляды всех были устремлены на меня. Очевидно, мои шаги слышались издалека, они гулко звучали, отскакивая от скучных и блёклых стен коридора, пока я по нему шёл. Я остановился в дверях, не решаясь шагнуть внутрь под столь пристальными взглядами.
Внимательнее всех и даже строго на меня смотрела та самая женщина, что сидела на стуле напротив входа. У неё была очень маленькая голова, туго собранные светлые волосы, маленькое лицо, и вся она была тоненькая и маленькая. Большими у неё были только очки с минусовыми стёклами близорукого человека. От этого глаза её казались совсем маленькими и по-настоящему строгими.
Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: весь конкурсный набор, вся студия и вся кемеровская пантомима – это именно вот эта маленькая строгая женщина.
– Здравствуйте, – нарушил тишину я.
– Здравствуйте, – сказала маленькая женщина в очках и посмотрела на часы. – Проходите, садитесь. Можете не раздеваться, тут прохладно.
Я прошёл и сел на ближайшую низенькую скамейку. Снова воцарилась тишина. Мне неудобно было разглядывать присутствующих, так что сидел я смирно. Прошла минута, может быть, две. Тогда я встал, снял пальто и снова сел. Я не чувствовал ни холода и вообще температуры. Прошла ещё минута. Женщина в очках вдруг приподняла левую руку, глянула на часы и тихонько хлопнула ладонью по коленке.
– Ну всё, – сказала она спокойно, бодро и почти весело, – все, кто хотел прийти, пришли. Пожалуй, начнём…
Вся её строгость исчезла, она заулыбалась. В ней не было видно ни капли уныния или разочарования тем, что пришло совсем мало людей. Она выглядела совершенно довольной.
– Итак, – продолжила она, оглядев всех внимательно сквозь толстые очки. – Меня зовут…
В это время в коридоре послышались гулкие шаги, все, и я в том числе, повернулись к открытой двери. Шаги приближались. Они звучали почти грозно. Вслед за шагами в помещение робко вошёл взъерошенный мужчина. Он был в очках, которые принято называть роговыми, только они были из какой-то коричневой пластмассы и сидели на лице вошедшего криво и нелепо. Всё в нём было нелепо. Мятый коричневый пиджак был ему узок в плечах и короток везде. Комканные брюки, наоборот, были везде велики. Рубашку он застегнул на все пуговицы до самой верхней, и она его явно душила. Ботинки его были нечищены никогда. Портфель в руке был куплен явно в школьные годы.
– Простите, – сказал он. – Я опоздал?
– Самую малость, – ответила женщина в очках. – Проходите.
– Спасибо! – кивнул он. – А тут, если я не ошибаюсь, набирают на панто… Простите! – Он открыл портфель, поковырялся в нём, достал какую-то бумажку или, как говорила моя бабушка, листик, уставился в него и прочёл: – …на пантомиму. – При этом он сделал ударение на «о».