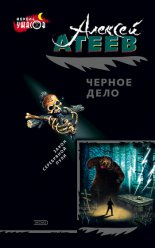Покров заступницы Щукин Михаил

Вот такие мои дела и заботы, дорогой, любимый Владимир. Слышишь ли ты меня, доходят ли до тебя мои мысли, слова и молитвы? Мне так хочется верить, что ты меня слышишь!
Навеки твоя Варя».
Глава третья
1
Старуха сидела в каталке, накрытая толстым клетчатым пледом. На голове у нее криво был надет белый ночной чепец, сбившийся на самый затылок, и через реденькие седенькие волосы проглядывала желтоватая кожа. Лицо тоже отливало желтизной, словно было покрыто плесенью, которая выцвела от старости. Но голос, когда она закричала, оказался совсем не старческим – тонкий, визгливый, будто лаяла без удержу молодая и злобная собачонка. Гиацинтов даже отшагнул назад – не ожидал он такого приема.
А старуха, не давая ему рта раскрыть, взвизгивала:
– Вон! Вон из моего дома! Я даже слышать не желаю об этой паршивке! И вас не желаю видеть! Вон! Вон! Ничего не скажу! Уходите! Еще раз придете, в полицию пожалуюсь! Вон!
Сухонькая, сморщенная ручка выскользнула из-под пледа, и маленький кулачок взметнулся над головой; Гиацинтову даже показалось, что если бы старуха смогла до него дотянуться, она бы обязательно ударила. Он отшагнул еще на шаг, запнулся за какие-то тряпичные клубки, валявшиеся на полу, откинул их ногой в сторону и понял с отчаянием, что узнать от старухи ему ничего не удастся. Повернулся, пошел темным, длинным коридором, который был тесно забит узлами, узелками, старыми тряпками, рваными коробками, покрытыми толстым слоем пышной пыли. Все это добро валялось на полу, висело на стенах, а проход был столь узким, что Гиацинтов невольно задевал рухлядь, оставляя за собой серое удушливое облако. Выбравшись, наконец-то, на улицу, он долго чихал и никак не мог остановиться. Молча ругался: «Ведьма старая! Даже выслушать не пожелала! Где теперь Вареньку искать?!»
Присел на деревянную лавочку, устроенную под старой, высокой липой, достал платок из кармана, высморкался и с ненавистью посмотрел на большой деревянный дом с мезонином, откуда он только что ретировался. А шел ведь сюда с надеждой – вот распахнется дверь, а навстречу ему – она, Варенька… Но встретила его злобная, сумасшедшая старуха, и даже не верилось, что это Варина родная тетка.
«Верится, не верится, адрес-то точный. Что же теперь делать? – Гиацинтов поднялся с лавочки, оглядел тихий, безлюдный московский переулок и подбодрил самого себя: – Найдем! Человек не иголка!» Поглядел еще раз на дом с мезонином и пошел медленным шагом, направляясь в конец переулка, аккуратно обходя большие темные лужи, густо усеянные палым листом. Даже не верилось, что на дворе уже наступил декабрь, – зима в этом году в Москву не торопилась, и над улицами, переулками Первопрестольной властвовала промозглая сырость. Гиацинтов передернул плечами, поднял воротник пальто и в этот момент услышал сзади торопливые, шлепающие шаги. Оглянулся. Его догоняла, на ходу подвязывая теплый платок, низенькая, толстая баба, похожая на кубышку. Тяжело оскальзывалась и всякий раз взмахивала короткими руками, будто хотела оторваться от земли и взлететь.
– Барин, барин! – задышливо позвала баба. – Погоди, барин! Не угнаться мне за тобой!
Гиацинтов остановился.
Баба подбежала к нему, едва-едва перевела дух и выговорила:
– Слышала, про Вареньку спрашивать изволили, интерес имеете… Так я могу сказать, если любопытно…
– Где она? – Гиацинтов схватил бабу за плечи, встряхнул, но, вовремя опомнившись, опустил руки.
– Какой ты скорый, барин! Вынь да положь! – Баба подтянула потуже узел платка под толстым подбородком и неожиданно сообщила: – Я пирожные люблю, да и ликерчику бы отведать по такой погоде… Там, как выйдешь из нашего переулка, за углом кофеенка имеется…
– Пошли!
Скоро они уже сидели в кофейне, и хитрая баба, будто испытывая терпение Гиацинтова, не торопясь, с удовольствием, расправлялась с пирожными, не забывая опрокидывать рюмочку с ликером. Но вот, кажется, наелась. Потянулась в очередной раз к графинчику, но Гиацинтов ловко передвинул его на край стола:
– После допьешь. Говори, что знаешь.
– Ладно, барин, спасибочко, потешил мою слабость. Люблю я пирожное, а с ликерчиком… Грешна, барин, грешна… Ты кто Варе-то? Кавалер? Да знаю, знаю, кто ты такой, не отнекивайся. Ну так слушай, кавалер. Варя не по своей воле с Москвы съехала. Тут такая катавасия была – пыль до потолка! Как кавалера ее, тебя, значит, на войну отправили, Варя и завяла, будто цветочек без полива. Придет в гости к Степаниде Григорьевне, тетке своей, как из училища отпустят, а глазки на мокром месте, исхудала – страсть. Ну а тут в газетке вычитали, что кавалера на войне убили, и задумала Степанида племянницу свою замуж выдать. А после и жених объявился. Сказывал, что вместе с кавалером Вариным воевали, и видел он своими глазами, как того желтоглазые подстрелили. Варя плачет-убивается, а они над ней как коршун с коршунихой кружат, силком под венец толкают. Все с нее требовали чего-то, от батюшки Вариного в наследство что-то осталось, вот они и требовали. А Варя стоит намертво – нет, не отдам! Батюшка мне, говорит, завещал, значит, мне и принадлежит. И какое там может быть наследство – мыши в амбаре зубами стукали! Затолкали бы они сиротку в замужество, как пить дать, затолкали бы, да только батюшка один, который раньше с отцом Вариным знакомство водил, быстренько все спроворил, посадил сердешную на поезд и отправил. Так скоро спроворил, что она попрощаться даже не появилась.
– Куда Варя уехала? Знаешь?
– Знала, сказала бы, – баба вздохнула, – она для меня как родная душа была. Я ведь у Степаниды давно служу, и кухарка у нее, и нянька, и поломойка. Одно хорошо, что теперь полы мыть не надо, она в последнее время, как с ума тронулась, заставляет меня все тряпки с улицы в дом тащить. И складывает их, и складывает – ногу поставить некуда. А злая, как собака цепная. Ну, злая-то всю жизнь была…
– Да черт с ней, твоей Степанидой! – не выдержал Гиацинтов. – Что еще про Варю знаешь?!
Баба подобрала ложечкой крошки пирожного с тарелки, ложечку старательно облизала, повертела ее в толстых пальцах, разглядывая, и тихо, почти шепотом, спросила:
– А чего Варя в магазине купила, когда ты ее в первый раз на улице встретил?
– Бусы она купила своей подруге! Зачем ты это спрашиваешь?
– Да так, любопытства ради. Что ты думаешь – пирожных сунул, ликеру налил, и дура толстомясая перед тобой наизнанку вывернулась. Удостовериться мне до конца требуется, я ведь тебя только два раза издали видела, когда ты Варю к Степаниде привозил. Боюсь, не обмануться бы…
– Теперь удостоверилась?
– Вот теперь с легким сердцем; чую, что не обманулась. Держи…
Из пышного рукава кофты баба ловко вытащила почтовую карточку и положила ее на стол перед Гиацинтовым. Он схватил, прочитал: «Великий Сибирский рельсовый путь. Станция Никольскъ». Под надписью помещалась фотография вокзала с башенками и каких-то людей в форме, стоящих на перроне. Судя по мундирам, железнодорожных служащих. Перевернул: «Здравствуйте, моя родная тетушка, Степанида Григорьевна! Простите меня великодушно, что уехала, не попрощавшись с Вами. Таким образом, к сожалению, сложились обстоятельства. Я получила хорошее место и буду теперь служить учительницей. Всех Вам благ и радостей, и пусть Вас Бог любит. Варя». Даты написано не было.
– Когда карточку получили?
– Да месяца два минуло. Я ведь грех на душу взяла, карточку эту не отдала, спрятала. Жених, у которого сватовство расстроилось, сильно ругался на Степаниду, все твердил, что надо искать Варю, хоть из-под земли ее достать. А скоро куда-то уехал, думаю, что на поиски отправился. Вот по этой причине я карточку и спрятала, будто знала, что ты появишься, из убиенного в живых восстанешь, как на Втором пришествии.
Баба чуть заметно улыбнулась, и Гиацинтов разглядел, что глаза у нее под толстыми припухлыми веками – умные и проницательные.
– Тебя как зовут?
– Пелагея, Пелагея Трифоновна. Ты шибко-то кошелек свой, барин, не растопыривай, заплатил за угощение, и славно. Я не из-за денег, из-за Вари тебе открылась. Спрячь кошелек, спрячь. А вот ликерчик поближе мне подвинь… Ох, грешна… И нечего тебе тут рассиживаться, ступай с Богом, а то зайдут знакомые да увидят нас, до Степаниды дойдет… Ступай, барин, ступай.
– Спасибо тебе, Пелагея Трифоновна. Должник я теперь твой.
– На том свете расплатишься… угольками!
Пелагея Трифоновна рассмеялась дробным смешком и налила себе полную рюмку ликера.
Гиацинтов, не оглядываясь, быстро вышел из кофейни и сразу же остановил извозчика, коротко бросив ему:
– На Страстную гони!
2
Почему-то именно в этот момент ему захотелось оказаться там, где он в первый раз увидел Варю. Казалось, что все было вчера, но, когда он остановил извозчика, выпрыгнул из пролетки и подошел к каменному Пушкину, ему показалось, что с памятного вечера прошла уже целая жизнь и он за эту жизнь успел так состариться, что испытывал сейчас лишь одно желание – закрыть глаза и жить только в прошлом.
Там, в прошлом, стоял сверкающий январь с легким, хрустящим морозцем, на календаре значился день святой Татианы, и московское студенчество, напористое и горластое, отмечало свой веселый, разгульный праздник. Отмечать его начинали, как всегда, на Моховой, где в студенческой церкви служили молебен и проводили в присутствии высокопоставленных гостей торжественный акт, а уж затем толпами и мелкими компаниями студенчество стекалось в «Эрмитаж», где запыхавшиеся официанты спешно эвакуировали из залов цветы в деревянных подставках, стеклянные вазы, фарфоровую посуду и прочее – буквально все, что можно было разломать или расколотить. Наступало безудержное, а порою казалось, что и безумное, студенческое гулянье. Лилось дешевое пиво и водка, потому что денег на благородное шампанское никогда не имелось, ораторы говорили речи, встав на столы, но их мало кто слушал, ведь у каждого были свои мысли и он желал их обнародовать громким криком. Шум стоял невообразимый. Нетрезвый и нестройный хор орал:
- Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!
- Вся наша братия пьяна, вся пьяна, вся пьяна.
- А кто виноват? Разве мы?
- Нет! Татьяна!
Покинув «Эрмитаж», как поле боя, господа студенты устремлялись к Тверской заставе – в рестораны «Яр» и «Стрельна», где обычная публика в этот день не появлялась и где также, как в «Эрмитаже», спасали, будто перед татарским нашествием, все ценное.
Гиацинтов с компанией своих однокурсников оказался почему-то у памятника Пушкину, где подвернулся им городовой, у которого на груди, поверх шинели, щедро были развешаны Георгиевские кресты и медали.
– Качать русского воина! Ура!
– Господа студенты! Не буйствуйте! Никак невозможно, я при исполнении!
Ничего не слышат, да и слушать не желают господа студенты. Городовой, прижимая одной рукой шашку к животу, а другой рукой уцепившись за кобуру с револьвером, взлетал над студенческой толпой и успевал лишь вскрикивать о том, что находится при исполнении.
Наконец городового опустили на землю. Установили на ноги, гаркнули ему хором троекратное «ура» и решили двигаться пешком к Тверской заставе. Двинулись с криками и с песнями. И надо же было замешкаться на мостовой одинокой девушке с маленьким полотняным мешочком в руке. Вместо того чтобы развернуться и убежать, она замерла перед орущей, пьяной толпой и прижала мешочек к груди, будто желала им защититься.
– Да здравствует красота и молодость!
– Я встретил вас, и жизнь пропала!
– Прошу коленопреклоненно всего один лишь милый взор!
И в этот миг, оказавшись ближе других к девушке, Гиацинтов увидел ее глаза – огромные, голубые. В них плескался ужас, будто внезапно возникло перед девушкой неведомое чудище. Гиацинтов знал по опыту, что однокурсники его, пусть и пьяные, ничего плохого девушке не сделают, покричат-погорланят и дальше пойдут, но этот ужас в голубых глазах так пронзил его, что он раскинул руки, закрыв собой девушку, и крикнул:
– Молчать и не приближаться! Эта особа находится под моим личным покровительством!
Студенты, продолжая дурачиться, замолчали разом, послушно и стыдливо опустили головы, словно провинившиеся приготовишки[11], и тихим степенным шагом, как в похоронной процессии, прошли мимо. Прошли и взорвались общим оглушительным хохотом, довольные до чрезвычайности своей импровизированной шуткой.
Гиацинтов, не опуская раскинутых рук, продолжал стоять перед девушкой, видел ее глаза, в которых, еще не исчезнув, продолжал плескаться ужас, видел, что из-под теплого платка выбились кудряшки, а красивые, плавно очерченные губы обиженно вздрагивают, словно она собирается заплакать от пережитого страха.
– Вы не пугайтесь, они же пошутили, день сегодня такой, – принялся успокаивать Гиацинтов, – сегодня студентов даже полиция не забирает. А вы так испугались, будто на вас разбойники напали.
– Я пьяных боюсь, – призналась девушка мягким, вздрогнувшим голосом, – как увижу, душа в пятки уходит, а я сама не своя, даже шага ступить не могу… А вам – спасибо.
И она поклонилась, оторвав, наконец-то, от груди полотняный мешочек. Гиацинтов опустил руки и в ответ тоже учтиво поклонился, совершенно не понимая, что с ним происходит: ему не хотелось догонять своих товарищей, которые, уходя все дальше, продолжали кричать и звать его, не хотелось участвовать в общем разгульном веселье, не хотелось даже просто идти куда-то – вот так бы стоял, и стоял, и смотрел бы, смотрел на девушку, которая только что благодарно поклонилась. Но запас красноречия еще не изменил ему, и он, не двигаясь с места, вытянулся, руки по швам, и представился:
– Студент славного Московского университета Владимир Гиацинтов. Так всем и рассказывайте – кто вас спас, обязательно называя мою цветочную фамилию. А я могу знать – кого именно спас?
Девушка несмело, смущаясь, улыбнулась и уже спокойным, не вздрагивающим голосом, сказала:
– Варвара Нагорная.
– Тогда слушайте меня, Варя, очень внимательно. Во избежание неприятностей и учитывая, что господа студенты нынче непредсказуемы, я просто обязан вас сопроводить. Разрешите это сделать?
– Наверное, не разрешу, – серьезно, перестав улыбаться, ответила Варя и покачала головой, отчего кудряшки на чистом лбу весело качнулись, – я ведь все правила сегодня нарушила, а если вы меня и провожать еще будете – вот тогда уж неприятностей мне точно не избежать.
– Да какие же вы правила нарушили? – искренне удивился Гиацинтов.
– Видите ли, Владимир, я в епархиальном училище учусь, а правила там у нас очень строгие, меня отпустили, потому что тетушка заболела, и я должна вовремя вернуться. А если кто-то увидит, что я шла с мужчиной, вот тогда и случится настоящая неприятность, могут из училища удалить.
– Наслышан был о ваших правилах, но даже не предполагал, что они столь суровые. Кстати, где ваше училище находится?
– На Большой Ордынке.
– Далековато, – снова удивился Гиацинтов, – далековато ваша тетушка от училища живет. Где же она живет, здесь, на Тверской?
– Да нет, не на Тверской, она в Замоскворечье… Я сегодня, признаюсь вам, все, что только можно, нарушила…
И Варя просто, откровенно рассказала о том, что подруга упросила ее заехать в магазин на Тверской, где они месяц назад вместе были и где подруга высмотрела себе бусы… Упросила заехать и купить эти самые бусы. И накопленные деньги выдала. Варя от тетушки поехала сразу в магазин, бусы нашла, а вот когда стала расплачиваться, тут и случился конфуз: денег едва-едва хватило, да и то лишь потому, что приказчик на недостачу нескольких копеек махнул рукой. Вот и вышла Варя из магазина с бусами, но совершенно без денег. А так как извозчика нанять было нельзя, она отправилась пешком. И теперь очень торопится, боясь опоздать, и ей совсем не следует стоять так долго и рассказывать о своих приключениях, да тем более молодому мужчине…
Гиацинтов даже не замечал, что, слушая Варю, он широко и радостно улыбается, словно она сообщала ему очень приятные известия. Никогда не терпевший надутого жеманства в женщинах, он был просто-напросто очарован простотой и откровенностью Вари: она говорила очень серьезно и в то же время была так доверчива, будто давным-давно его знала и была твердо убеждена, что этот человек никогда не обидит и ему можно рассказать обо всем – он поймет. Внезапно она оборвала свой рассказ, замолчала, а затем тихо спросила:
– Почему вы улыбаетесь? Я что-то смешное вам говорю?
– Нет-нет, – поспешно ответил Гиацинтов, – у меня просто настроение сегодня такое… праздничное, Татьянин день все-таки… А пешком вы дальше никуда не пойдете, я сейчас возьму извозчика, мы поедем к вашему епархиальному училищу и успеем вовремя, дабы из этого училища вас не удалили.
– Я так не могу! – запротестовала Варя.
– Вы не можете, а я могу. Стоять здесь и не шевелиться, – Гиацинтов отбежал в сторону, взмахнул рукой, подзывая извозчика, и, когда тот подъехал, мигом усадил Варю, не давая ей опомниться, и приказал:
– Трогай, братец. – Обернулся к Варе и, опережая, чтобы не успела она что-то возразить, спросил: – А бусы красивые? Стоило из-за них столько хлопот иметь?
Варя потупилась, вздохнула и тихо ответила:
– Бусы красивые. Только носить их у нас все равно нельзя – нарушение правил. Могут и наказать примерно. Господи, что же за день-то сегодня такой!
Да, день был необычный – Татьянин день.
3
Гиацинтов поднял воротник пальто, отвернулся от резкого, промозглого ветра, который набирал силу, и, на прощание еще раз взглянув на каменного Пушкина, пошел по Тверской. Сколько было мечтаний, сколько раз представлялась ему во время долгих скитаний эта картина: вот идет он по Тверской, а рядом – Варя. И почему-то всегда представлялось еще, что в Елисеевском магазине купит он свежей клубники и будет угощать свою милую, бесконечно любимую спутницу, будет брать по одной ягодке и подносить ей к самым губам… А день должен стоять солнечный, летний или, наоборот, зимний – с мягким и тихим снегом…
Ничего не сбылось! И Вари рядом нет, и погода мерзкая, и Тверская, потемневшая от холодной мокряди, кажется серой и неуютной, как заброшенный дом, в котором давно никто не живет.
А самое главное – он, Владимир Гиацинтов, всегда уверенный в себе и никогда не терявший присутствия духа, ослабел, будто его разом покинули силы, растерялся, и даже шаг его, упругий и быстрый, переменился – слышал, как подошвы ботинок старчески шаркают по мостовой.
Он остановился возле фонарного столба, усеянного мелкой водяной пылью, прислонился к нему плечом и закрыл глаза, надеясь, что вспомнится и увидится ему лицо Вари: красиво очерченные губы, всегда строгие глаза, наполненные небесным, голубым светом, кудряшки на чистом высоком лбу… Но как ни напрягал память, ему ничего не вспомнилось и не увиделось.
– Эй, господин хороший! По какой надобности со столбом обнимаемся?
Гиацинтов вскинулся, распахнул глаза – перед ним стоял высокий тучный городовой с пышными усами, и голос у него звучал под стать внушительной фигуре – громко и раскатисто.
– А не с кем больше, братец, обниматься! С тобой же нельзя, по уставу не положено…
Городовой шутку оценил, хмыкнул в пышные усы и посоветовал:
– Вы бы, господин, в другом месте штучки свои проделывали, где не так людно. А здесь – непорядок, столб не для того предназначен, чтобы с ним обниматься.
– Понял – столб предназначен для фонаря, а не для меня! – гаркнул неожиданно Гиацинтов, вытянувшись в струнку перед городовым. – Разрешите следовать дальше?
– Ступай, господин хороший, ступай, – разрешил городовой и проводил его внимательным, цепким взглядом.
Получив разрешение, Гиацинтов не стал задерживаться. Дальше двинулся обычным своим шагом – упругим и стремительным. Неожиданная встреча с городовым будто встряхнула его – следа не осталось от короткой и нечаянной слабости.
Он шел быстрой походкой и думал о том, что жизнь его после возвращения на родину начинается с неожиданных сюрпризов. Первый сюрприз – это, конечно, поручик Речицкий, который, как оказалось, абсолютно ни в чем не виноват. Трудно было Гиацинтову смириться с этим обстоятельством, но он переборол самого себя: купил огромную охапку роз в цветочном магазине и вместе с Речицким, никуда его от себя не отпуская, явился к его супруге и повинился – ваш муж не заслуживает тех слов, которые я написал. Юное создание подпрыгнуло от радости, восхитилось розами и даже поцеловало Гиацинтова в щеку. Речицкий все воспринял как должное, был спокоен и немногословен, сообщив, что в Москву он сможет приехать лишь после того, как закончит свои дела по службе в Скобелевском комитете. Попросил это передать Абросимову и заверить командира полка, что он обязательно приедет.
Вот об этом и собирался сейчас сообщить Гиацинтов своему командиру, а заодно и предстать перед ним: вот я, живой и здоровый…
В скором времени он уже читал на медной, до блеска надраенной табличке: «Полковник в отставке Абросимов Евгений Саввич». Дверь ему открыла миленькая, совсем еще молоденькая горничная в идеально белом, накрахмаленном переднике, спросила, кто он такой, и, услышав ответ, сразу же обернулась, позвала:
– Евгений Саввич! Пожаловали! Встречайте!
Ясно было, что Гиацинтова здесь ждали. Из глубины квартиры – громкие, торопливые шаги. И вот уже Абросимов, в парадном мундире, при всех наградах, остановился перед Гиацинтовым, быстро его разглядывая, а затем порывисто обнял, притянул к себе и троекратно расцеловал. Отстранился, еще раз окинул взглядом и снова обнял, дрогнувшим голосом сказал лишь одно слово:
– Живой…
И дальше, принимая от него мокрое пальто, передавая его горничной, продолжал повторять только это слово:
– Живой, живой…
Будто крутнулось время назад, и он встретил Гиацинтова, удивляясь и радуясь, что видит его живым, не в своей московской квартире, а возле входа в штабную палатку, которая установлена была на краю китайской деревушки.
В просторной комнате с высокими окнами был накрыт стол, и Абросимов, усадив гостя, сам разлил вино по бокалам и, поднявшись, одернул мундир; круглое широкое лицо, излучавшее добродушие и радость, переменилось: залегла над переносицей глубокая складка, обозначились желваки, и темные глаза из-под лохматых бровей сурово блеснули.
– Владимир Игнатьевич, простите за высокопарность, давно у меня не было такого светлого и радостного дня… Я так рад… Я ведь все это время… Впрочем, это отдельный и долгий разговор, и мы еще поговорим. А теперь – за встречу!
После обеда они прошли в кабинет, и там, придвинув ему пепельницу и коробку с сигарами, Абросимов потребовал:
– Рассказывайте, Владимир Игнатьевич. Все рассказывайте. С самого начала и до сегодняшнего дня.
– Москвина-Волгина здесь нет, – улыбнулся Гиацинтов, – значит, героем авантюрного романа мне не бывать, и поэтому можно говорить правду. Докладываю, господин полковник… Уснул я в штабной палатке, даже не помню, как уснул, помню только – взрыв, вспышка и – провал. Вроде бы очнусь, и опять провал. Окончательно в себя пришел, когда меня Федор нашел, тунгус, нижний чин из моей команды. Вдвоем мы и выжили. На третий день встал на ноги, огляделся – плен. Бежать никакой возможности, все время голова кружилась. Вскоре нас переправили в Японию. Вот оттуда, через три месяца, мы все-таки с Федором сбежали. В порту стоял английский торговый пароход под разгрузкой, джентльмены японцев поддерживали и снабжали, это я своими глазами видел. Одежду мы с Федором заранее припасли и под видом грузчиков попали на пароход. Спрятались, дождались отплытия, а когда я уже понял, что в океан вышли, тогда явились с повинной. Отнеслись к нам довольно холодно, но бить не били и за борт не выкинули. Они, эти благородные джентльмены, поступили согласно высоким принципам демократии: каждый человек имеет право на жизнь. Когда дошли до Гавайских островов, они нас продали, как рабочих скотин, местным бандитам. Занятие у нас было милое и сладкое – рубить тростник на сахарных плантациях. Больше года мы там пробыли, а потом снова сбежали, старым способом – на корабле. Но в этот раз уже умнее были – прятались до последнего, до тех пор, пока в Германию не пришли. А там, в порту, наши корабли стояли. Правда, и здесь пришлось в трюме отсиживаться, но все-таки добрались. Сначала до Петербурга, а нынче и до Москвы. Теперь осталось только заявить по властям и службам, что я живой, и получить какой-никакой документ, а то ведь я до сегодняшнего дня, как босяк, никакой бумажки за душой не имею.
– Понимаю. – Абросимов поднялся, заложил руки за спину и принялся прохаживаться по кабинету, говорил, словно рассуждал сам с собой: – Понимаю, что подробности своих злоключений вы опустили. Понимаю также, что первым делом бросились разыскивать Речицкого, которого считали главным виновником этих злоключений, и даже вызвали его на дуэль. Хорошо, что ваш друг, Москвин-Волгин, оказался проворным и успел мне сообщить об этой дуэли, иначе пришлось бы кого-то отпевать… Я все понимаю, Владимир Игнатьевич, но скажу сразу и определенно – энергию и чувство мести нужно всегда направлять по точному адресу. Выверенному и точному!
– Может, вы назовете мне этот адрес, господин полковник?
– Не торопитесь. Когда должен приехать Речицкий?
– Он сказал, что ему нужно еще два дня, чтобы завершить дела по службе и получить отпуск. А Москвин-Волгин приехал вместе со мной, но у него назначены встречи, и договорились, что соберемся у вас к вечеру…