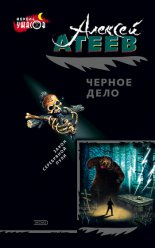Покров заступницы Щукин Михаил

Покров заступницы
Глава первая
1
Стоял он у порога, привалившись плечом к косяку, и красовался. Новенький полушубок – нараспашку, а под ним – алая, как молодая кровь, рубаха, перехваченная тонким наборным пояском зеленого цвета. Конец этого пояска держал в правой руке, игрался с ним, покручивая то в одну, то в другую сторону, и большие, карие глаза смотрели прямо и безбоязненно. Из-под шапки, лихо сдвинутой на затылок, вывалился на волю завитый в колечки чернявый чуб, а на губах, ярких и пухлых, как у девки, лениво шевелилась наглая усмешка, которая больше всего и взбеленила парней.
Да и как им было не взбелениться…
Пришли на вечерку, чин чинарем, частушки под гармошку пели, девок на колени к себе усаживали, угощая их семечками и пряниками, кто половчее и кто подальше от керосиновой лампы сидел, тот и руки успевал совать своим зазнобам в разные места, куда не следует, и царило в просторной избе безудержное веселье – широкие крашеные половицы только покряхтывали, когда топтали их в пляске проворные молодые ноги.
И вдруг – полюбуйтесь на меня!
В самый разгар вечерки настежь распахивается дверь и появляется на пороге красавчик, симпатичное личико у которого давно уже по крепкому кулаку скучает. Давно… Предупреждали парни Гриню Черепанова, по-хорошему говорили ему: не шастай к нам, на Пашенный выселок, в своей деревне веселись, в Покровке, там и подружку себе высматривай – нет, не слушается. Прищурит упрямые глаза, скривит губы, будто незрелой калины откушал, и опять на вечерку заявится. А в этот раз, в сегодняшний вечер, и вовсе края потерял, окончательно на чужие угодья перелез. Прихлопнул за собой дверь, постоял молчком, дождался, когда гармонист притомится, а пляска закончится, и в наступившей тишине властно, по-хозяйски потребовал:
– Дарья, выйди, слово тебе сказать хочу…
Будто законную и послушную жену позвал, заведомо зная, что она не сможет ослушаться.
Дарья Устрялова возле гармониста стояла, платочком ему потное лицо обмахивала. Медленно обернулась к порогу, глянула на Гриню и, не торопясь с ответом, слегка передернула плечами. Крупные желтые бусы шевельнулись на крутой груди и стрельнули яркими отблесками. Дарья прижала их ладонью, склонилась в низком поклоне, уронив до самого пола богатую каштановую косу, и, рывком выпрямившись, ответила:
– Благодарствуем вам за почтение, добрый человек! Да только я не собачка, которой свистнули, она и побежала. У меня от общества секретов нет, говори при всех, если нужда имеется.
– Наедине сказать хочу. Выйди! Ну!
– Не запряг, а понужаешь!
– Ты не ершись, Дарья… Поразмысли, я подожду…
И Гриня прислонился плечом к косяку, заиграл концом наборного пояска, показывая всем своим видом, что от задумки своей не отступится, ждать будет столько, сколько понадобится. Дарья, ни слова больше не обронив, повернулась к нему спиной и снова принялась заботливо обмахивать цветастым платочком гармониста, который глядел на нее, изумленно вытаращив глаза, – нашла время платочком своим трясти! Сейчас тут такое случится – все вспотеют! И никаких платочков не хватит, чтобы красные сопли вытирать.
Нехорошая, на короткое время, снова установилась тишина. И обломилась, как хрупкий ледок под каблуком:
– Нарвался ты, парниша!
– У нас терпелка не железная!
– Так разукрасим, дорогу забудешь!
– Вышибай его на крыльцо, нечего рассусоливать!
Крики все громче, злее, а Гриня, будто оглох и ничего не слышит, подпирает по-прежнему косяк плечом, ухмыляется и только глаза чуть прищурил. Кинулись к нему сразу двое парней, которые ближе других оказались, ухватить хотели за отвороты расстегнутого полушубка, но не успели – в один неуловимый миг преобразился Гриня: пригнулся, набычив голову, словно меньше ростом стал, и крепко сжатые кулаки вымахнулись навстречу парням, да так ловко и сильно, что парни, обгоняя друг друга, полетели через всю избу, рухнули на пол, и звонкий девчачий визг, режущий уши, ударил в стены. Лампа мигнула, выбросив черный плевочек, и погасла.
В темноте, шарахаясь на ощупь, пашенские парни ломанулись к дверям, но двери оказались заперты. Бились в них плечами, ногами стучали – без всякой пользы. Кто-то догадался и чиркнул спичку, зажег лампу. Ровный яркий свет наполнил избу, и все увидели, что Грини здесь нет – как корова языком слизнула.
Парни продолжали долбиться в двери, сопели, ругались, девки визжали, а Дарья Устрялова, спокойная, словно вокруг ничего не происходило, старательно обмахивала гармониста платочком и загадочно улыбалась.
2
Крепкий сосновый кол, которым были подперты двери, Гриня припас заранее. Теперь, недолго постояв на крыльце и послушав шум и ругань, он весело свистнул, похвалив себя за догадливость, и легко спрыгнул через пять ступенек на землю, которую заботливо и надолго укрывал тихий, ровный снег, начавший падать еще с утра. В этот час, ближе к полуночи, он поредел, крупные хлопья кружились уже не так густо, и небо прояснилось, обозначив темные, рваные тучи, из-за которых выныривала время от времени, как поплавок, половинка блеклой луны.
Вот и ладно. Какой-никакой, а свет есть, чтобы не сбиться с дороги и не блукать в сплошной темноте. Гриня еще раз свистнул, громко и длинно, от полного своего удовольствия, и скорым, летящим шагом выскользнул за околицу Пашенного выселка, направляясь к Покровке, до которой было ровно пять верст.
Шел, поскрипывая новыми сапогами, и захлестывала его отчаянная лихость, а силы в молодом теле играли такие безудержные, что в одиночку мог сразиться со всей ватагой пашенских парней, которые надумали его стращать, чтобы не появлялся он в выселке на вечерках. Не на того наскочили… Правда, и ему не удалось выманить Дарью на улицу, поговорить с ней наедине, но эта беда поправимая: на следующей неделе, в воскресенье, вместе с отцом и матерью красавица сама пожалует в Покровку к родной тетке на именины, а уж он, Гриня, своего не упустит, придумает, как улучить момент и сказать нужные слова.
Вольно, весело шагалось ему по свежему и неглубокому снегу, сладкая истома обволакивала, когда вспоминал и видел, как наяву, Дарью – лицо ее с ямочками на щеках, богатую каштановую косу и высокую грудь, которая буйно оттопыривала голубенькую кофточку с беленькими цветочками. Погоди, дай срок, дотянется он, расстегнет яркие, костяные пуговки и распахнет эту самую кофточку…
Немало уже отмахал Гриня от выселка, когда запоздало подумал о том, что пашенские парни, выбравшись из избы, со злости могут и в погоню удариться. И хотя страха перед ними не было, он все-таки благоразумно свернул с дороги, круто взял вправо, пересекая небольшое поле, и скоро вышел к пологому берегу Оби, по которому тянулась широкая, натоптанная тропинка – она легко угадывалась даже под снегом. От реки, еще не покрытой льдом, ощутимо тянуло влагой и холодом. Гриня плотнее натянул шапку и прибавил ходу.
Ни разу не остановился, не передохнул, единым махом одолел пять верст и вот уже различил редкий собачий лай, обозначивший деревню. А скоро замаячили мутно и крайние дома Покровки – рукой подать. Перед домами, по обе стороны от дороги, лежала большая поляна, украшенная по краям старыми, толстенными ветлами. И едва Гриня поравнялся с этими ветлами, как мелькнули навстречу ему стремительные тени, тяжелая палка, фыркнув в полете, ахнула по ногам, высекая нестерпимую боль, и он, не устояв, сунулся лицом прямо в снег. Подняться уже не смог. Навалились гурьбой и принялись молотить без всякой жалости. Молча били, деловито, только тяжело хэкали, будто дрова кололи. Попытался Гриня вскочить на ушибленные ноги, да куда там – прижулькнули к земле и еще яростней, стервенея от злости, расхлестывали большое, но беспомощное теперь тело. Только и смог, что лицо закрыл ладонями, ощутив, как они становятся теплыми от крови, которая брызнула из разбитого носа.
– Хватит, не до смерти, – раздался хриплый голос, и удары прекратились.
Гриня, будто растоптанный, лежал пластом, не поднимая головы, и слышал, одолевая тяжелый гул в ушах, как всхрапнули кони, и дробный стук копыт откатился от поляны, а вскоре затих. Полежал еще, подождал и лишь после этого отнял от лица ладони, огляделся – никого, пусто. Будто приснилось. Со стоном встал на карачки и таким манером, на карачках, передвигая колени и переставляя подламывающиеся руки, выбрался на дорогу и снова лег, перевернувшись на спину. Наскреб снега, запечатал им кровящий нос и торопливо стал хватать воздух широко раскрытым ртом, приходя в себя и понимая, что перехитрили его пашенские парни. Не стали разыскивать, куда он побежит, в какую сторону, а прыгнули на коней и махнули сразу до Покровки, где и сели в засаду, укрывшись за ветлами. Дорога здесь одна, мимо не проскочишь. Вот и получилось, что Гриня сам к ним в руки явился – берите меня, тепленького.
Его и взяли. В такой оборот взяли, что не знает теперь, как до дома добраться…
Разгоряченное, избитое тело остывало, холодом пронизывало спину от снега, на котором лежал. Подниматься надо, не будешь ведь до утра валяться. Гриня поднатужился, перевернулся на бок и встал на колени. Да так и замер, упираясь руками в землю и вздернув голову, – прямо на него скакал белый конь. Белый от копыт до взвихренной гривы, только во лбу маячило маленькое темное пятнышко, похожее на звездочку. Поднял глаза выше и обомлел – на коне сидела девушка, одетая во все белое. Трепетал у нее за спиной белый шарф, взвихривалось длинное белое платье, и казалось, что струится от коня и от девушки яркий, режущий темноту свет. Гриня даже глаза закрыл – испугался. Когда их снова открыл, увидел – конь, остановив свой беззвучный бег, стоит рядом, а девушка, наклонившись с седла, тянет к нему, Грине, длинную, тонкую ладонь. Вот дотянулась, взъерошила его чуб и заливисто, в полный голос, рассмеялась – будто серебряный звон рассыпала. «Чур меня, чур!» – запоздало вспомнил Гриня и даже правую руку оторвал от земли, чтобы перекреститься, но не успел – конь с места взял крупной рысью и пошел отмахивать в сторону от деревни. В полной тишине скакал, даже малого звука не слышалось. Девушка, выпрямившись в седле, оборачивалась, взмахивала рукой, словно звала последовать за собой, и все рассыпала звонкий смех – будто невидимый след оставляла на снегу.
Оборвался ее голос внезапно, как только конь достиг высокой стены густого бора. Вошел белым пятном вместе со своей всадницей в темный ряд сплошных сосен и – сгинул.
Перекрестился Гриня, помотал тяжелой ноющей головой, чтобы в глазах прояснило, и даже чуб потрогал, проверяя самого себя – умом не тронулся? И тут различил тусклое позвякивание недалекого колокольчика. Сначала подумал, что поблазнилось, – нет, наяву позвякивает, хоть и реденько, негромко, как обычно бывает при неторопкой езде, когда уставшая лошадка идет шагом. Прислушался и уловил: еще колокольцы голоса подают, видно, не одна лошадка тянется в сторону деревни.
Так и оказалось. Шел по дороге, направляясь в Покровку, небольшой обоз из шести подвод, на передней из которых сидел родной дядька Грини, развеселый и острый на язык Василий Матвеевич Черепанов. Он сразу распознал своего растерзанного племянника, затащил на телегу, даже шапку разыскал, отря хнул ее от снега и заботливо натянул на неразумную молодую голову, приговаривая:
– Это еще ладно, что они тебе башку не оторвали, будет на чем шапку таскать. Крепко отлупили-то?
Гриня отмолчался.
– А я смотрю, стороной пролетели, верхами, как черти, кто, думаю, такие… А это пашенские. Дали взбучки моему племянничку и домой подались. Из-за Дашки бока-то намяли?
Гриня снова отмолчался.
– Ох, на грех девка вызрела. Уж такое у нее обличье скоромное, что глядишь и губы облизываешь. Ладно, ты не горюй. Синяки заживут, и Дашка, глядишь, никуда не денется… Одна закавыка – как перед дедом оправдываться станешь?
– Дядь Вась, а ты коня белого не видел? Не попадался по дороге? Девка на нем скакала в белом платье…
– Это они в дурной голове у тебя, Гриня, скачут. Случается такое от ушиба. Ты моргай почаще, оно и пройдет. Деду-то чего скажешь?
Гриня вздохнул и потрогал пальцами разбитый нос, разбухший, как хлебный мякиш в воде. Такой нос не укроешь и не спрячешь, поэтому и ответ придется держать по всей строгости, а деда своего, Матвея Петровича Черепанова, внук крепко побаивался. Поэтому и затосковал заранее, предчувствуя, что сурового внушения, а может случиться, что и бича, избежать не удастся.
– Ладно, ты не отчаивайся, – успокаивал его Василий Матвеевич, – с нами из Никольска учительница едет, и письмо у нее к тяте, чтобы, значит, помогал школу ставить. Я ее первой в избу заведу, пока туда-сюда, может, и прошмыгнешь…
– Ага, – безнадежно отозвался Гриня, – мимо него прошмыгнешь, дед все видит, хоть и старый.
– Ты раньше смерти не помирай, племянничек. Вот приедем сейчас, и все ясным станет. Но-о-о, болезная! Шевели копытами, немного осталось!
И он шлепнул вожжами уставшую лошадку, которая послушно перешла на мелкую рысь.
3
День этот не заладился у Матвея Петровича Черепанова еще с утра, когда случилось с ним досадное огорчение: полез он на печку, чтобы достать валенки, и оборвался. Поставил ногу на приступку, а выпрямить ее не смог, задрожала она, как у немощного, колено щелкнуло, будто сухой сучок, и, не удержавшись за край печки, он загремел на пол, больно ударившись о скамейку. Поднялся и долго, удивленно смотрел на печку, которую сам когда-то сложил и на которой любил греться в последние годы. Никак не мог понять – по какой такой причине оборвался?
Сел на лавку, сложил руки на коленях, еще раз полюбовался на печку и ответил самому себе: нет никаких особых причин, кроме одной – старость одолевает. Да и то сказать, восьмой десяток давно разменял, на девятый пошел, вот ноги-то и поизносились, подрагивать стали, в коленках щелкать.
Во второй раз забираться на печку Матвей Петрович не рискнул, побоялся, что получится еще одно огорчение. Взял ухват, дотянулся им и скинул на пол белые катанки – теплые, нагретые. Сунул в них ноги, притопнул по половице и повеселел: а ничего еще, скрипа не слышно…
Валенки ему понадобились по погоде – за окном густо валил снег. Как и положено по всем старым приметам – Покров наступал. Матвей Петрович оделся потеплее, нахлобучил шапку, вышел на крыльцо и замер, будто в белую стену уперся, – снег стеной стоял, от земли и до неба. Без просвета. И дух веял, особый, будто спелый арбуз разрезали. Матвей Петрович вздохнул на полную грудь, повеселел еще больше и бодренько спустился с крыльца, собираясь пройтись вдоль улицы, которая вела на невысокий взгорок, где вздымалась острой макушкой в небо маленькая деревенская часовенка. Помолиться там собирался.
И надо же было – поскользнулся. Правда, успел ухватиться за перила. Упасть не упал, а спину пересекло, будто железный гвоздь вколотили чуть повыше заднего места. Стоял, согнувшись, и чуял, что без опоры даже одного шага сделать не сможет. Ни взад, ни вперед, ни вбок – вот как прихватило! Видно, пошевелил старые кости, брякнувшись с печки, вот они и зауросили.
Выручила его сноха Анфиса, которая давала коровам сено. Увидела со стога согнувшегося свекра, бросила вилы и, поспешая на помощь, заполошно заголосила:
– Тятя, ты чего согнулся?! Худо тебе?!
– Ты шибко-то не ори, – урезонил ее Матвей Петрович, – народ сбежится. Пособи-ка лучше на крыльцо взобраться.
Анфиса бабой была могучей, в кости широкой, и долго не раздумывала: чуть согнула крепкие ноги, уложила свекра на плечо и таким манером, в один мах, доставила его в избу. Уложила на кровать в горнице, разула, раздела, метнулась в погреб, достала редьку и, мелко нарубив ее сечкой в корыте, приложила на больную поясницу тестя, крепко перемотав чистой тряпицей.
Редька попалась злая, щипала, но Матвей Петрович даже не морщился – терпел, чувствуя, как саднящий гвоздь понемногу уходит из больного места. К вечеру совсем полегчало. Он даже поднялся с кровати, присел к столу и поужинал. А вот ночью, после недолгого сна, спина разболелась снова. Матвей Петрович лежал, перемогая боль, смотрел, не смыкая глаз, в темный потолок, и на душе у него было тоскливо.
В это время и раздался громкий стук в ворота, долетели с улицы голоса, и он сразу догадался, что сын Василий вернулся из Никольска, куда его отправляли три недели назад на плотах. По осени с недавних пор снаряжали в город плоты, там железная дорога недавно построилась, и лесу требовалось много. Вот жители Покровки и приноровились сплавлять плоты, а попутно, на продажу, грузили на них облепиху, бруснику, вяленую рыбу, арбузы – Никольск разрастался быстро и все съедал подчистую.
Матвей Петрович хотел подняться, чтобы встретить сына, но едва пошевелился, как поясница заныла еще сильнее, и он передумал. Слышал, как Анфиса открывала ворота, что-то говорила мужу, торопливо и неразборчиво, а затем испуганно ахала и снова говорила. Подосадовал: «До чего баба громогласная! Тараторит, как сорока…» А вот и сама Анфиса, легка на помине, вошла в горницу с лампой в руках, известила:
– Тятя, Василий приехал, а с ним учительница пожаловала, у нее письмо к тебе имеется. Как сделать-то? Сюда ее провести или спать уложить?
– Пусть все спать ложатся, – решил Матвей Петрович, – утром разговаривать станем, нечего зря керосин палить. И ты лампу по избе не таскай, уронишь ненароком, пожар сделаешь…
Анфиса послушно вышла из горницы, и скоро в избе все стихло.
Прикрыл глаза Матвей Петрович, хотел задремать, но сон отбегал от него, и дело было не в больной пояснице, а в том, что в последнее время спал он совсем мало – вздремнет, как птичка на ветке, и снова в темный потолок любуется, прошедшую жизнь вспоминает. Теперь она все чаще возвращалась к нему, и давнее прошлое вставало перед ним ярче и острее, чем прожитый накануне день…
…Сгрудились телеги с нагруженным на них скарбом, кричали бабы, ревели ребятишки, но громче всех причитала и завывала старуха Никандрова; стащив с головы платок, распатлав седые волосы, вздергивала вверх длинные худые руки и голосила:
– Ты куда нас завел, лиходей?! Здесь и луна на небе в другу сторону повернута! Заворачивай обратно, домой нас веди!
И так она причитала, будто на похоронах, срываясь на визг, что никто слова не мог вставить. Как с ума сошла старуха, все ей чудилось, что в сибирской земле молодой месяц повернут рогами в другую сторону. Не выдержал тогда Матвей Петрович, осерчал крепко и, выдернув платок из рук старухи Никандровой, сунул этот платок ей прямо в раскрытый рот – как запечатал. Рявкнул на баб, чтобы они тоже замолкли и ребятишек успокоили, а затем уже, подняв голос до сердитого звона, тоже закричал:
– Какого лешего вы вразброд потянулись, как дурные коровы из стада! Силком вас сюда никто не тащил! Осталось-то – пережевать да выплюнуть! Потерпеть надо – не помрете!
И много еще чего выкрикивал Матвей Петрович, убеждая односельчан, что обратной дороги в Тамбовскую губернию нет, что надо идти дальше и что совсем скоро откроются перед ними благодатные места. Выкрикивал, а сам чувствовал, что плохо доходят его горячие слова. Устали люди, изверились, выветрилась из голов сладкая мечта за длинную и трудную дорогу. А как все мечтали, снимаясь с насиженного места, что придут в Сибирь и ждет их там вольная земля – бери сколько пожелается, живи как твоей душе угодно, катайся как сыр в масле.
Не вышло с сыром и с маслом… Без хлеба, на просяной каше, да и той не досыта, перебивались в последние дни. А лето в сибирских краях выдалось дождливое, дороги закисли непролазной грязью, телеги тонули по самые ступицы, кони измаялись, и ребра торчали у них под кожей, как палки. Вот и зароптал народ – где обещанная благодать? И, зароптав, призвал к ответу Матвея Петровича, который ходил в Сибирь ходоком и место для будущего житья выбирал, а после, вернувшись в тамбовскую деревню, рассказывал: и лес там богатый, и луг, и две речки, которые, слившись, в большую реку Обь впадают, и земли для будущей пашни немерено имеется… Слушали его разинув рты, верили каждому слову, а по весне, отслужив в деревенской церкви молебен, погрузили на телеги пожитки и тронулись в путь – на новое место жительства, в благодатный край.
А теперь – шиворот-навыворот. Одни возвращаться желают, другие предлагают здесь остановиться, куда добрались, а третьи и вовсе отчаялись, руки опустили и только кричали, высказывая в сердцах Матвею Петровичу, как главному виновнику, обидные слова.
Вот и не стерпел он, заткнул рот старухе Никандровой, сам пошумел, а после, успокоившись, стал уговаривать мужиков, приводя свои резоны: лето кончается, если возвращаться – померзнут зимой в дороге, здесь, где остановились, – степь голая, ни речки нет, ни озерка, и земля – сплошной суглинок, на котором лишь дурная трава растет… Долго уговаривал, упорно и вдруг осекся на полуслове, выругался черным ругательством и под ноги себе плюнул. Осенило его внезапно: а чего он, спрашивается, разоряется-убивается? Не желают? Ну и не надо! Насильно мил не будешь, хоть голову расколоти! Подозвал к себе сыновей, их у него четверо было, и велел им запрягать коней – дальше поедем! Кто желает, пусть следом пристраивается, а кто не желает… Вольному – воля!
Следом за Черепановыми пристроились всего лишь четыре семьи: Никандровы, вместе со своей старухой, которую силком усадили в телегу, Ореховы, Зубовы и Топоровы. Остальные с места не тронулись. Иные еще и ругались, посылая в спину обидные слова. Особенно старался Игнат Пашенный, мужик злой и никого, кроме себя, не почитавший. Уж такими речами он провожал отъезжавших, что у лошадей уши торчком вставали. Но Матвей Петрович все вытерпел, даже не оглянулся и ни слова в ответ не высказал. Понимал: не следует теперь в перепалку ввязываться, если уж разлетелся горшок, грохнувшись об пол, склеивать его – дело безнадежное. Иное теперь у него на уме было, более важное, – поскорее вывести всех, кто ему доверился, на благодатное и вольное место, которое он сам облюбовал и выбрал.
И Матвей Петрович вывел.
Когда небольшой обоз поднялся на взгорок, где теперь стоит часовенка, когда распахнулась перед глазами вся округа, с сосновым бором, с речками, с Обью, с широким лугом, украшенным озерками, все замолчали и притихли – не ожидали такого увидеть. Вот уж верно – вся обещанная благодать в одном месте сомкнулась. А день стоял тихий, теплый, солнце еще по-летнему светило, и все казалось ласковым и добрым, как в сказке.
К первым заморозкам переселенцы успели срубить на скорую руку неказистые избушки, стайки из жердей для живности; огляделись в окрестностях и еще раз уверились – благодатное место. Даже предстоящая зима этой уверенности не поколебала.
Незадолго до Покрова призвал Матвей Петрович своих сыновей, всех четверых, поставил их перед собой и неторопливо оглядел. Хорошие сыновья, ладные. Стоят по старшинству, все погодки: Александр, Алексей, Иван и самый младший – Василий, ему совсем недавно семнадцать стукнуло. Помолчал, разглядывая, и объявил свою отцовскую волю:
– На Покров, ребята, я всех вас женить буду, на всех одну свадьбу справим. А пока время есть, невест себе выбирайте. Что у Никандровых, что у Ореховых, что у Топоровых, что у Зубовых девок в избытке имеется. Любых выбирайте.
Никто из сыновей не ослушался, и на Покров все они стали женатыми.
Решение свое Матвей Петрович пояснял по-житейски просто:
– Так-то оно лучше, когда все родственники, крепче друг за дружку держаться станем.
Как в воду глядел.
На первых порах только родственная скрепа и помогла. Зима выпала морозная, снежная, избушки, из сырого леса срубленные, грели плохо, с едой было тоже худо, но выручила охота – птицы и зверя в округе имелось в избытке, только не ленись. И до весеннего солнца, до первой зеленой травки, выдюжили. А дальше – только рубахи успевай скидывать, которые от едучего пота сами собой на ремки разваливались.
Через три года крепкая, ладная, работящая, а потому и сытая деревня стояла в благодатном месте. Назвали ее Покровкой.
И через три года появились односельчане из тамбовской деревни, которых привел Игнат Пашенный. Стали проситься в общество, каялись, что не послушались в свое время Матвея Петровича, остались на суглинках и досыта нахлебались горькой жизни. Матвей Петрович, избранный бессменным старостой, собрал своих родственников, и вынесли они решение: на готовое не пустим, а вот в чистом месте, где пожелаете, можете и обосноваться. Так появился Пашенный выселок, хотя, если разобраться, никто никуда не выселялся. Но название прилепилось, как кличка, и особо над ним не задумывались. Со временем встал на ноги и выселок. Только вот мира и лада между покровскими и пашенскими до сих пор нет. Уже несколько десятков лет прошло, многих первых переселенцев сибирская земля в себя приняла, а скрытая вражда невидимо тлеет, как уголек под толстым слоем пепла…
– Ох, грехи наши тяжкие, – вздохнул Матвей Петрович, пошевелился, прислушиваясь к больной пояснице, и посмотрел в окно, завешенное ситцевой занавеской, – светать начинало. Вот и еще одна ночь прошла, а сна как не бывало.
И все-таки рано утром он накоротке уснул – зыбко, чутко. И увиделось ему странное видение: стоит он за околицей Покровки в густом тумане, белые волны плывут, клубятся; и вдруг невесомо, земли не касаясь, выходит из этих волн седая женщина с длинными, распущенными волосами и прямиком направляется к нему. В поводу она вела белого коня, а на коне сидела маленькая девчушка в белом платьице, смеялась, запрокидывая голову, и всплескивала в ладошки. И женщина, и конь, и девчушка проплыли-проскользили мимо него, не останавливаясь, и он различил лишь тихий голос: «Помнишь наш уговор? Не забыл? Мне помощь твоя понадобится… Не отказывай… Сын твой Василий газетку привез из города, прибери ее, чтобы не потерялась, пригодится скоро… Я сама тебя позову, когда срок наступит. Услышишь».
И – канули.
Обернулся Матвей Петрович, а за спиной – никого. Только туман клубится. «Да как же так? – тревожно думал он во сне. – По какой причине она снова объявилась?»
Хотел крикнуть вослед, но краткий сон оборвался, как нитка, и увиделось, что горницу заливает солнечный свет.
Матвей Петрович тихонько приподнялся на кровати, сел, поставив на пол широкие ступни босых ног и низко опустил голову.
4
Гриня с малых лет выламывался из большой черепановской родовы, как колючий, с шишками, репейный куст, нечаянно попавший в стог отменного сена. Вроде всем хорош парень – и руки растут откуда надо, и за словом в карман не полезет, и работать может до седьмого пота, но лишь до тех пор, пока ему вожжа под хвост не угодит. А как угодит – сразу и выпрягся. Хоть кол ему на голове теши. Набычится, глаза прищурит и стоять будет на своем до посинения. Ничем не свернешь.
Даже Матвей Петрович поразился, когда в первый раз попытался призвать внука к порядку. Доложили ему досужие бабы, что Елена, жена третьего, по возрасту, сына Ивана, до сих пор своего первенца кормит грудью, а парнишка уже на своих ногах и разговаривает, как мужик, – порою зло и матерно. Пошел проверить, хотя и не охотник он был появляться в избах своих сыновей без явной причины, потому что уважительно понимал – хозяин в семье должен быть один. Но тут не удержался – поднялся на крыльцо сыновней избы без приглашения. Открыл дверь, перешагнул через порог и остолбенел: Елена перед лавкой стоит, титьки на волю из кофтенки выпустила, а на лавке, крепко сбитый, как крутое тесто, Гриня ногами перебирает от удовольствия и во всю моченьку мамку сосет. Матвей Петрович от увиденного растерялся и ничего лучшего не придумал, как спросить:
– Ты чего, паршивец, делаешь?
Гриня нехотя оторвался от важной своей работы, деловито сплюнул на сторону, губы ладошкой вытер и сообщил:
– Титьку сосу…
– Тебе сколь годов-то?
– Сестой…
И дальше, как ни в чем не бывало, приник к мамкиной груди.
Сообща парнишку от титьки отвадили, для чего Елене пришлось мазать соски горчицей. Гриня неделю поорал, но, видя, что на уступки ему не идут, известил, как о деле решенном:
– Хрен с вами, теперь касу варите.
И закидывал в рот кашу, и все, что на стол ставили, будто после долгой голодухи – мгновенно и чисто, ни крошки не оставлял.
Но скоро наелся, жадничать перестал и пошел в рост – как на дрожжах поднимался. В четырнадцать лет его уже за взрослого парня принимали. На сенокосе наравне с мужиками по целой копне на стог забрасывал и лишь ругался, когда навильник, не выдержав тяжести, ломался, а сухое сено рушилось на землю.
Это было по лету, а по зиме Гриня остался без отца и без матери. Иван с Еленой поехали за Обь, за сеном, и с тех пор их больше никто не видел. Провалились они в промоину вместе с санями и с конем. Ушли под лед, и кроме санного следа ничего от них не осталось. Супруга Матвея Петровича, тихая и бессловесная Анна Федоровна, внезапного несчастья не пережила, скончалась той же зимой, и пришлось деду с внуком перебраться к Василию Матвеевичу, под крышей у которого они и живут по сей день.
Гриня после потери родителей не плакал, не убивался, даже слезинки не уронил, только угрюмо смотрел себе под ноги и на щеках, под молодой румяной кожей, тяжело ходили желваки. А вскоре появилась у него привычка – усмехаться нагло, если ему что-то не нравилось; глядит тебе прямо в глаза и усмехается. Матвей Петрович, чтобы дурь эту из внука выбить, и за бич хватался, и ругался, но мозги вправить парню так и не смог.
Сам же Гриня, терпеливо снося ругань и порку, на деда никогда не обижался, побаивался его, однако усмехаться продолжал по-прежнему, и упрямство его с годами только крепло.
Вот и в это утро, рано проснувшись, он сразу же вспомнил, как били его пашенские парни, и, вспомнив, твердо решил: «Ладно, подождите, я вам сопатки еще начищу, переловлю по одному и начищу!» Но тут же и позабыл об этой угрозе, потому что совсем иное встало перед глазами – белый конь, девушка на этом коне и вьющийся за ней белый шарф, а еще послышался, как наяву, громкий, серебряный смех, будто она рядом стояла. Гриня даже голову повернул – нет, никого рядом с топчаном не было. Лишь на полу шевелились блеклые отсветы – это Анфиса, поднявшись раньше всех, затопила печку. Гриня вскочил, подергал плечами, разгоняя боль, – крепко его все-таки отмолотили! – и быстренько оделся. Анфиса, увидев его уже в шапке, вздернула руки:
– Ты куда в такую рань собрался?
– Пробегусь с утра, может, зайчишек добуду, по снежку-то, – торопливо отвечал Гриня, доставая свою старенькую берданку.
– Погоди, я хоть молока тебе налью, там картошка с ужина осталась…
– Да я не надолго, тетя Анфиса, скоро вернусь.
И быстренько, чтобы время на лишние разговоры не тратить, прошмыгнул в двери, а скоро уже выводил из конюшни каурого жеребчика, накидывал на него седло. По пустой улице, обозначенной в редеющих сумерках только дымами из печных труб, выехал за деревню, на поляну. Разглядел истоптанный ночью снег, бурые кровяные пятна и от этого памятного теперь места взял напрямик в сторону бора, куда ускакал белый конь со своей всадницей.
Ехал не торопясь, придерживая жеребчика, внимательно приглядывался, пытаясь отыскать хоть какие-то следы, но их не было. Ровный, чистый снег лежал нетронутым. На востоке уже начинало синеть, виделось все яснее и поле до самой стены темного бора лежало как на ладони. И никто здесь вчерашней ночью не проезжал и не проскакивал. Но Гриня упрямо ехал дальше, уверенный в том, что должен остаться хоть какой-то знак. Ведь не может такого быть, что ему все привиделось. Бить его, конечно, били, но память-то при нем оставалась, не тронулся же он умом, в конце концов! И Гриня забирал повод то вправо, то влево, направляя жеребчика челноком по полю, но напрасно – чисто. Доехал до бора, до крайних сосен, и остановился. Спрыгнул с седла, пошел медленным шагом, ведя за собой жеребчика в поводу.
Но и здесь, среди высоких сосен и молодого подроста, ничего ему отыскать не удалось, кроме путаной вязи от заячьих лап, – резвились здесь лопоухие, совсем недавно. Но даже охотничий азарт не взыграл у Грини, берданка так за спиной и осталась. Поднялся на увал, вскинул глаза, оглядываясь вокруг, и замер – прямо перед ним, в двух шагах, висел на нижней сосновой ветке длинный белый шарф, доставая одним концом до самой земли. В полном безветрии он даже не шевелился. Гриня стащил рукавицу, протянул руку и осторожно снял шарф. Мягкая, гладкая материя была прохладной. Шарф легко струился между пальцев, словно вода. Гриня бережно сложил его и сунул за пазуху. Еще раз огляделся – нет, никаких следов вокруг даже не маячило. Прошел дальше по макушке увала, ничего больше не нашел и направился домой, пребывая в полной растерянности, потому что никакого объяснения увиденному ночью и своей сегодняшней находке у Грини не было, только одно удивление – разве могут такие чудеса случаться?!
За спиной у него, просекая первыми лучами макушки сосен, вставало круглое солнце.
5
Учительница, которую попутно доставил Василий Матвеевич, возвращаясь из Никольска, была еще совсем молоденькая; розовая после сна и умывания. По-детски смущалась, опуская глаза, и теребила тонкими пальцами края легкого вязаного платка, накинутого на плечи. Иногда она поднимала глаза, смотрела на всех, сидящих за столом, и улыбалась растерянно, словно просила прощения, что доставила так много хлопот.
Матвей Петрович только что прочитал письмо, которое она привезла с собой, аккуратно сложил по сгибам большой бумажный лист, исписанный красивым почерком никольского владыки Софрония, снял очки с носа и сказал:
– Вот и ладно, голубушка, что приехала. Как тебя звать-величать-то будем?
– Варвара Александровна, Варя…
– Ну, Варя – это для домашнего обихода, а на людях – Варвара Александровна. Теперь слушай, Варвара Александровна, чего я говорить буду. Предлагали нам в Покровке министерскую[1] школу открыть, а мы подумали и решили, что нам приходская[2] нужна, церковная. Церкви у нас пока нет, но часовенку сподобились, поставили, и церковь тоже поставим. Вот я и поехал в город к владыке нашему, Софронию, просьбу изложил, и обещал он помочь. Не забыл, значит, исполнил обещание. Школы у нас раньше никакой не имелось, все больше странствующих учителей[3] на год нанимали. Когда хороший попадется, а когда – так себе… В прошлом годе совсем никудышный оказался. Не про ученье с утра у ребятишек спрашивает, а допытывается, у кого в семье какую еду на день готовят. Мы его по очереди кормили. Вот и начинает узнавать – где посытнее и послаще, узнает и говорит – передай матери, сегодня к вам питаться приду. Прямо беда с ним была… А теперь у нас и школка своя будет, и учительница тоже своя. На житье мы тебя пока здесь определим, у нас боковушка имеется свободная, чистенькая… Там и будешь. Анфиса все покажет. Теперь ты рассказывай – откуда, какого роду-племени и какими-такими путями в наших краях оказалась…
За столом, кроме Матвея Петровича и Варвары Александровны, сидели Василий Матвеевич и Анфиса, с любопытством разглядывали гостью, а сама гостья под их взглядами смущалась еще больше, и даже голосок у нее подрагивал:
– Я в Москве епархиальное училище закончила и… вот сюда приехала.
– Из Москвы?! – ахнули все в один голос.
– Да, из Москвы, – кивнула Варвара Александровна.
И дальше рассказала, что в Сибирь надумала ехать по собственной воле и охоте, а знакомый батюшка, отец ее духовный, посоветовал добираться до Никольска, где служит владыка Софроний, и рекомендательным письмом снабдил, потому что они с владыкой давно, еще с семинарии, знакомы и дружны. Доехала она до Никольска благополучно, пришла в епархию, и владыка принял ее очень душевно, как родную. Написал письмо для Матвея Петровича и поручил своим помощникам разыскать попутную оказию до Покровки, чтобы ехала она с людьми надежными и без всякой опаски. А тут, как раз к случаю, в городе оказался Василий Матвеевич, вместе с которым она и приехала без всяких происшествий в Покровку, и очень довольна, что ее здесь так хорошо встретили.
Продолжая удивляться, Матвей Петрович покачал головой, но больше Варвару Александровну расспрашивать ни о чем не стал, рассудив, что времени впереди много и будет еще возможность побеседовать обстоятельней.
После чая Анфиса увела гостью в маленькую боковую комнатку; отец с сыном остались вдвоем, и Василий Матвеевич принялся подробно рассказывать о том, что плоты нынче пришлось гнать с большими трудами, потому что Обь к осени сильно обмелела, но все обошлось, доплыли без задержек и лес продали в тот же день, как причалили. Также удачно сбыли ягоды, арбузы и рыбу, даже на базар ехать не понадобилось – все на берегу разобрали. Еще хотел Василий Матвеевич поведать, что на обратном пути, у самой деревни, подобрали крепко побитого Гриню, но передумал – вот вернется тот с охоты, тогда и разбирательство начнется. А раньше времени, пожалуй, торопить это разбирательство и не стоит, пусть своим ходом катится.
Рассказом сына Матвей Петрович остался доволен. Да и как не быть довольным, если такое большое дело – сплав плотов в город – удалось исполнить без всяких проволочек и без огорчений.
– Молодцы, ребята, – скупо похвалил он и сразу перевел разговор: – Ты, Василий, к вечеру мужиков кликни к сборне, надо будет про школу все порешать – какое жалованье положим, как дрова запасать станем, ну и кто ребятишек своих нынче в ученье отдаст… Все обговорить требуется. Ты там газетку, видел, из города привез, дай мне, полюбопытствую. А я пока пойду, полежу, спина у меня расхворалась. Скажи Анфисе, пусть еще редьки достанет…
Матвей Петрович поднялся из-за стола, пошел в горницу, но остановился и спросил:
– А Гриня где у нас нынче?
– До света еще поднялся, сказал, что на зайцев собрался, и ружье взял. Анфиса говорит, что и есть не стал.
– Ну ладно… Как вернется, пусть ко мне заглянет.
В горнице Матвей Петрович лег на кровать, поерзал, устраиваясь удобней, и собирался уже задремать, но тут подоспела Анфиса с редькой и, перематывая тестю больную поясницу, принялась сообщать:
– Гостья-то наша до того стыдливая, слово скажет и краснеет, не знаю, как она с ребятишками справляться будет. Вещички даже не разложила, сразу за стол села, тетрадку достала и пишет чего-то… Я заглянула, а личико у нее горькое-горькое, будто заплакать собирается. Оно, конешно, без отца, без матери да в чужих людях – как тут не загорюешь…
– Ты поменьше к ней заглядывай, своими делами занимайся, – строго оборвал Матвей Петрович, помолчал и добавил: – Обживется, привыкнет и горевать перестанет.
6
Маленькое оконце в комнатке выходило на широкий и длинный огород, который полого спускался к речке. На краю огорода чернела приземистая баня. Крыша ее была увенчана скворечником на длинном шесте, а на скворечнике сидела ворона и чистила клювом оттопыренное крыло. Дальше, за речкой, виднелся луг, а еще дальше, за лугом, тянулся темной полосой лес и подпирал острыми макушками небо.
И все в этой картине было необычным, все казалось чужим и неведомым, и даже яркое солнце, озарявшее округу, не развеивало грустного чувства. Варя долго смотрела в окно, и чем дольше она смотрела, тем печальнее становились ее глаза. С эти печальным чувством она и вывела в раскрытой тетрадке первые строчки:
«Здравствуй, мой дорогой, навечно любимый Владимир!
Теперь, когда тебя нет на белом свете, я, не таясь, пишу эти слова, и душа моя наполняется тихим светом – так горько и так сладко беседовать с тобой и рассказывать обо всем, что происходит в моей жизни. Больше мне рассказывать некому, а ты, я уверена, всегда бы выслушал меня и понял. После того дня, когда я прочитала в газете о твоей гибели на войне, весь мир, который меня окружал, будто подернулся черной тенью. А я запоздало раскаиваюсь, что была с тобой холодна и скрывала свои чувства. Одно лишь меня оправдывает, что я не могла предвидеть, что случится со мною… А случилось многое. Прости, ради Бога, но я ловлю себя на мысли, что пишу совсем не о том, что хочется тебе сказать. Мне хочется сказать слова благодарности. Спасибо, родной, что ты встретился в тот памятный и бесконечно счастливый день, и я сразу же полюбила тебя – на всю жизнь, какая мне будет отпущена. Если бы этого не случилось, я бы, наверное, не смогла устоять перед людской злобой, которая обступала меня совсем недавно. Но я даже помыслом не согрешила против нашей любви, я неожиданно почувствовала себя очень сильной. Когда-нибудь я расскажу об этом подробно, а сейчас лишь сообщаю, что я начинаю свою жизнь заново, с чистого листа.
Вскоре после окончания курса в епархиальном училище я уехала из Москвы, а можно сказать, что и сбежала, как можно дальше. Письмо это, дорогой Владимир, я пишу из сибирской деревни с милым и хорошим названием Покровка, пишу как раз накануне Покрова, а за окном лежит белый, чистый снег. Здесь, в Покровке, я буду учительницей церковно-приходской школы, и здесь, вполне может так сложиться, я и останусь навсегда, потому что возвращаться мне некуда и не к кому. Тем более что ты со мной рядом, в моем сердце, и я беседую с тобой в любую минуту, когда вспоминаю, и пишу тебе письма, после которых мне становится легче. И совсем неважно, что ты никогда этих писем не прочитаешь и что они никуда не будут отправлены, а будут лежать на дне моего сундучка. Главное, что ты со мной. Я вижу тебя, слышу твой голос, твой смех, и этого мне вполне достаточно, чтобы проживаемые дни не казались напрасно прожитыми. А иногда я очень жалею, что не была с тобой рядом там, на войне, где я смогла бы перевязать твои раны, успокоить твою боль. Понимаю, что это глупость и несуразность, но все равно жалею…
На этом пока я закончу сегодняшнее письмо, потому что более подробно и обстоятельно напишу в следующий раз, а сегодня слишком много чувств переживаю и никак не могу успокоиться, чтобы мысли свои изложить по порядку. Знай, что я всегда буду тебя любить, и пусть твоей душе будет легко и светло там, где она сейчас пребывает.
Твоя Варя».
7
– Держись! Держи…
И оборвался хриплый, надсадный крик, будто острым ножом срезанный, канул и растворился в густой, беспорядочной пальбе, которая грохотала со всех сторон, туго забивая уши тупой и давящей болью. Но Владимир Гиацинтов успел этот крик услышать и даже голос узнал – кричал Белобородов, кричал, похоже, в последний раз, пытаясь ободрить своего командира и подать знак: я здесь, иду на помощь…
Не дошел.
И никто уже не дойдет.
Нет отныне команды охотников[4] Забайкальского полка, соскользнула она, как в ночной поиск, без возврата, и остался под градом пуль безудержно наседающих японцев лишь командир, с одной-единственной, предназначенной ему теперь участью – последовать без задержки за своими подчиненными.
Но он, уже не надеясь выжить, все-таки продолжал воевать. Отстреливался, сколько мог, а затем кубарем, через голову, рискуя разбить ее о камни, скатился с узкой горной тропы в заросли высокого, непролазного кустарника, перезарядил свой винчестер и замер, не обнаруживая себя, пытаясь получить хотя бы несколько минут передышки, чтобы понять и уяснить: что произошло, как так получилось, что в спину им совершенно неожиданно ударили японцы? Зло, напористо, накатываясь тремя цепями и ведя такой плотный огонь, что сбитые пулями ветки кустарника сыпались без перерыва на землю, словно состригали их гигантские ножницы.
Под ноги ему вдруг выкатился серый комок. Гиацинтов вскинул винчестер, готовый выстрелить, но комок замер, прижимаясь к редкой траве, и прорезались круглые от ужаса глаза молодого зайца. Ошалевший от грохота, потерявший всякую осторожность, заяц бросился к живому существу, надеясь найти у него защиту. Гиацинтов не удержался, протянул руку и тронул зайца за плотно прижатые уши. Тот вскинулся над землей, развернулся в воздухе, упал на все четыре лапы и нырнул дальше в кусты, между тонкими стволами которых зияло небольшое свободное пространство. Гиацинтов, не раздумывая, рухнул плашмя и заполз в узкий и тесный лаз. Обдирая колени и локти, по-змеиному извиваясь, щекой бороздя землю, он продвигался вперед, и лаз, словно уступая его упорству, становился шире.
Через недолгое время, ориентируясь по звукам пальбы, Гиацинтов догадался, что все три японские цепи ушли вперед, а он остался у них позади. Кустарник перед ним поредел, и он настороженно приподнялся на четвереньки. Огляделся через просветы между листьев, и по спине, мокрой от пота, проскочил острый, пугающий холодок.
Гиацинтов ничего не понимал.
В просветах перед ним змеились траншеи, которые еще утром занимала рота поручика Речицкого. Они были пусты. И никаких следов боя: ни трупов убитых, ни брошенного оружия, ни воронок от взрывов – ничего, что он ожидал увидеть. Траншеи были просто пусты. Гиацинтов выполз из кустарника, добрался до края одной из них. Заглянул вниз. Пусто. Лишь сиротливо валялся на дне закопченный солдатский котелок, видимо, забытый в спешке каким-то растеряхой.
Значит, рота ушла, даже не известив командира охотников, что уходит. Оставила позиции и открыла японцам свободный проход к горному хребту, у подножия которого охотники готовились к подъему. Именно по хребту, по самой его макушке, Гиацинтов задумывал уйти на вылазку в японский тыл, да только получилось наоборот – ему ударили в спину. На голом месте, прижатые к горному склону, охотники продержались недолго, хотя и за малый срок успели хорошо проредить первую цепь. Но выше головы не прыгнешь… Гиацинтов видел, как гибнет его родная команда, и ничего не мог сделать, чтобы ее спасти.
Теперь, отползая от пустой траншеи и снова целясь к спасительному кустарнику, он испытывал только одно жгучее желание – выжить. Выжить лишь для того, чтобы встать перед поручиком Речицким и посмотреть ему в глаза…
8
До этого дня военная судьба Владимира Гиацинтова складывалась, как беспроигрышная игра в карты.
Он пошел на войну вольноопределяющимся, бросив университет и выхлопотав направление в Забайкальский полк, которым командовал его хороший знакомый – полковник Абросимов. С полковником в свое время они участвовали в конных скачках, соревновались в стрельбе и знали друг друга как хороших спортсменов. Поэтому неудивительно, что командир полка сразу же предложил Гиацинтову командовать охотниками, сопроводив свое предложение короткой речью:
– Дело, конечно, рисковое, но зато отважное. А вы, Владимир Игнатьевич, как я знаю, человек отважный. Вот и беритесь за это дело. Набирать в команду охотников будем сибирских таежников и тунгусов, потому как они стрелки и следопыты – дай Бог. А что для парадного строя не годны – невелика печаль, нам тут не до парадов… Только у меня просьба, Владимир Игнатьевич, со своим винчестером в общий строй не вставайте, сами понимаете, не по уставу.
– А воевать с ним разрешается? – вежливо-ехидно поинтересовался Гиацинтов.
– Воевать разрешается, – будто не заметив ехидности, улыбнулся Абросимов, а затем со вздохом добавил: – Эх, веселые были времена!
Да, времена, и совсем недавно, действительно, были не скучные. Молодые офицеры и друживший с ними студент университета Гиацинтов в летнем саду, в ресторане, завели спор с иностранцами, как позже оказалось, англичанами, о разных способах стрельбы. И англичане стали убеждать, что самый эффективный – у американских ковбоев. И еще сообщили, что один из присутствующих англичан таким способом владеет. Дальше – больше. Головы молодые, горячие… Закончилось тем, что прямо из летнего сада две компании, русская и английская, отправились за город, где и устроены были самые настоящие соревнования. Особо отличился Владимир Гиацинтов, показав такой уровень, что англичанин, учившийся стрелять у американских ковбоев, честно признал свое полное поражение, хотя и огорчился неимоверно. А по возвращении в ресторан в летнем саду, видимо от этого самого огорчения, напился до полного изумления и пообещал своему победившему сопернику прислать в подарок скорострельный винчестер.
Как ни странно, обещание свое англичанин не заспал – выполнил.
Вот с этим винчестером Гиацинтов и прибыл в Забайкальский полк.
Впрочем, через неделю-другую никто уже не обращал внимания ни на винчестер вольноопределяющегося, ни на его внешний вид: папаха, гимнастерка с наплечными ремнями, широкий кожаный пояс, на котором висел трофейный японский кинжал, а на ногах вместо сапог – поршни[5].
Столь же необычно была экипирована и вся остальная команда охотников, представлявшая из себя зрелище очень живописное: одна часть состояла из сибирских охотников и являла собой вид внушительный, крепкий – все бородатые, кряжистые; а другая часть, состоявшая из тунгусов, казалась хрупкой и ранимой – невысокого роста, узкоплечие, лица у всех безбородые. Но знающим, воевавшим людям было хорошо ведомо, что никакой разницы между охотниками нет и что каждый из них в бою стоит десятерых.
Охотники ходили в японский тыл, устраивали засады, вели разведку, выслеживали и уничтожали хунхузов[6], иначе говоря, воевали без передыха, и военное счастье от них не отворачивалось.
Гиацинтову, несмотря на молодость, хватило ума полностью доверяться опыту и смекалке своих подчиненных, а они, в свою очередь, ценили его за беспредельную храбрость и за то, что он никогда не укрывался за их спинами.
Слава о команде охотников Забайкальского полка разнеслась быстро и широко. О ней писали в газетах, где печатали фотографические снимки бойцов и их командира. Но охотники газет не читали и о славе своей в далекой отсюда России даже не догадывались. Гиацинтов тоже газет на войне не читал, а к славе своей относился равнодушно, потому как терзали его ежедневно совсем иные заботы: провиант, патроны, очередной приказ и вечная головная боль – как этот приказ выполнить и не потерять своих охотников. Вылазки команды отличались особой лихостью, иногда казалось, что даже безрассудством, но всегда заканчивались успехом и почти без потерь. Гиацинтов полагался на своих бойцов, ставших для него родными, как на самого себя.
И вот теперь этих родных нет…
…Он огляделся, поднялся на ноги и двинулся вперед, чутко покоя в руках свой винчестер, в котором оставался всего один патрон.
9
Через трое суток Гиацинтов вышел в расположение Забайкальского полка. Оборванный, грязный, с разодранной щекой, кровь с которой тонкой цевкой сочилась на шею, он шарахался из стороны в сторону, едва держась на ногах, но упрямо отталкивал солдат, пытавшихся его поддержать, и сиплым, срывающимся голосом твердил:
– К командиру полка… К Абросимову… Срочно…
Маленькая китайская деревушка, тесно улепленная низкими, грязными фанзами, кишела, как муравьиная куча, – всю ее, до отказа, заполнил отступающий полк. В сумерках горели костры, опасно сыпали искрами на крыши, покрытые сухим гаоляном[7], пахло разваренной кашей и конским навозом; где-то неподалеку безудержно голосил петух, видимо, одуревший от столь обильного людского нашествия и спутавший утро с вечером.
Штаб полка располагался в большой палатке, разбитой на окраине деревни. У входа в нее стоял часовой. Он не узнал Гиацинтова и грозно выставил винтовку:
– Стой! Кто такие? По какой надобности?
– Борисов, доложи – командир охотников Гиацинтов.
– Владимир Игнатьевич… Я вас не признал, – часовой растерянно опустил винтовку.
– Я сам себя не признаю, – просипел Гиацинтов, – доложи, Борисов, быстро, пока я тут не свалился.
Но докладывать не потребовалось. Полковник Абросимов, услышавший голоса, сам выбежал из палатки, замер, будто споткнулся, затем крепко ухватил шатающегося Гиацинтова за плечи, повел в палатку и на ходу приговаривал:
– Живой! Живой! Живой!
А когда усадил командира охотников на раскладной стул, растерянно добавил:
– Мы ведь вас похоронили, Владимир Игнатьевич… Батюшка наш даже заупокойную отслужил…
– Позовите поручика Речицкого.
– Зачем он вам? Петренко! Чего стоишь! Чаю, галеты, коньяк достань! Умыться приготовь!
Денщик Абросимова сорвался с места, расторопно засуетился, но Гиацинтов его остановил:
– Погоди, воды дай…
Двумя руками ухватил железную кружку. Руки тряслись, и вода расплескивалась на колени, тогда он рывком вздернул кружку к потрескавшимся губам, долго пил судорожными глотками, и острый кадык на шее, темной от пота, пыли и крови, сновал вверх-вниз, как челнок. Отнял от губ пустую кружку, перевел дух и голосом, уже не столь сиплым, повторил:
– Позовите поручика Речицкого.
– Да помилуй Бог, зачем он вам, Владимир Игнатьевич?! И не могу я его сейчас позвать, он боевое охранение проверяет.
– Все равно позовите, я дождусь. Хочу в глаза посмотреть. Из-за него всю мою команду положили. Как траву косой… Сбежал, сволочь, вместе с ротой и даже не предупредил! Японцы через пустые траншеи, как по проспекту, проскочили! Прижали нас на голом месте и… И кончили! Нет больше у вас охотников, господин полковник! Позовите Речицкого! Или я сам пойду его искать!
Круглое, щекастое лицо Абросимова посуровело, глаза сузились, и он резко наклонился, положил руку на плечо Гиацинтова, строго спросил: