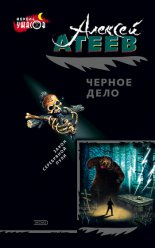Покров заступницы Щукин Михаил

За чаем, подкладывая Варе большие ломти пышной шаньги и ближе подвигая тарелку с творогом и со сметаной, Анфиса рассказывала:
– Василий Матвеич-то с Гриней за сеном поехали, за Обь, и тятя с ними отправился, не утерпел. Теперь вот переживаю, лед-то еще не шибко крепкий, как бы беды не случилось… А ты чего не ешь? Клюешь, как синичка! Ты крепче, крепче кушай, а то худая, как соломина, дунет падера, и унесет тебя за деревню – где искать станем?
Собственная шутка Анфисе очень понравилась, и она рассмеялась долгим, дробным смешком. И вдруг осеклась, прислушиваясь:
– Никак калитка стукнула… Каки-то гости к нам пожаловали…
Не поленилась, поднялась из-за стола и выглянула в окно, чуть приоткрыв занавеску. Да так и замерла, забыв ее опустить. Охнула от удивления и протяжно выговорила, словно пропела:
– Ну, лахудра бесстыжая! Идет и не запнется, чтоб тебе расшибиться! Средь бела дня прется!
Выговорив-пропев это, Анфиса проворно вернулась за стол, присела на лавку и, чинно сложив руки, снова замерла, поджав узкие губы и устремив взгляд в двери, которые распахнулись, и на пороге появилась Дарья Устрялова. Встала в дверном проеме, красивая, как картина в раме, и, отмахнув каштановую косу за спину, поздоровалась:
– Добрый день, добрые люди! Хлеб да соль вам!
Анфиса кивнула в ответ, но узких губ не разомкнула. Варя отозвалась негромким голоском:
– Здравствуйте.
– Тетя Анфиса, не выручишь нас? Приехали с тятей в гости к нашим, а у них соль кончилась, не одолжите горсточку?
И смотрела, улыбаясь, будто не замечая неприветливого вида хозяйки, светилась, радостная, словно не соли пришла одалживать, а принесла счастливое известие, за которое ожидала благодарных слов.
Но таковых не дождалась.
Молча поднялась Анфиса из-за стола, молча открыла дверцу навесного шкафчика и достала оттуда деревянный туесок, украшенный причудливой резьбой, в котором хранилась соль. Расстелила на столе чистую тряпочку, наклонила туесок, чтобы насыпать соли, и вдруг туесок, без всякой видимой причины, выскользнул у нее из рук, прокатился по столу, оставляя за собой кривую белую полоску, и с громким стуком упал на пол. Варя от неожиданности даже вздрогнула. Анфиса же, наоборот, не охнула, руками не всплеснула, стояла будто окаменелая, смотрела на опрокинутый туесок, на рассыпанную соль, и лицо у нее становилось обиженным, словно собиралась от огорчения заплакать. Но нет – плакать она не собиралась. Руки в бока уперла, двинулась грудью на Дарью и разомкнула, наконец-то, крепко сжатые, узкие губы:
– За солью, говоришь, пожаловала?! А не за Гриней ли ты сюда заявилась, бесстыжая?! И как только твои шары от стыда не лопнут! Заманила парня, голову ему закружила, под кулаки поставила, а теперь, когда он на тебя плюнул, бегаешь за ним, как собачонка, вынюхиваешь, где он пребывает! Хоть покраснела бы для приличия!
Дарья вспыхнула маковым цветом, но совсем не от смущения, а по причине отчаянной решимости. Зазвенел высокий голос:
– А хоть бы и так! Мой он, владела им и владеть буду! Захочу – без соли съем! Так ему и передайте, как я сказала!
Толкнулась спиной в двери, выскочила в сени и просквозила на улицу, оставив за собой калитку распахнутой настежь. Не слышала, что ей вслед сердито выговаривала Анфиса, да и слышать не желала. Хрустела валенками по мерзлому снегу, торопилась, срываясь на бег, и жарко, отрывисто от сбившегося дыхания, шептала:
– Мой ты, Гриня, мой будешь! Зубами ухвачусь, а не отпущу!
Трепетала гордая душа, не желала смириться. Да и как она могла смириться, если недавно еще люто завидовали Дарье все пашенские девки: такой парень красивый и жених завидный, да из семьи не бедной, вьется вокруг, готовый, кажется, ноги мыть и воду пить, а она красуется и морщится, будто королева заморская. Да окажись на ее месте любая девка пашенская, да помани ее Гриня хоть пальчиком, побежала бы без оглядки, только подол бы у юбки вился… И таяла от удовольствия Дарья, догадываясь о затаенных мыслях своих подружек, в радость ей было, что она не такая, как иные, а особенная. И вдруг ахнулось все, как в яму глубокую, даже не булькнуло. Не появлялся Гриня на вечерках в Пашенском выселке после памятного вечера и драки с парнями, не искал встреч, когда Дарья вот уже в третий раз приезжала в Покровку. Если бы парней пашенских испугался, было бы понятно, да только не боялся он их, уже двоих подкараулил поодиночке и обоим носы распечатал. Нет, не тот человек Гриня и не тот нрав у него, чтобы испугаться, другая причина отвернула его от Дарьи.
Какая?
Вот и хотела узнать и выяснить, вот и направилась прямо в дом к Черепановым, надеясь увидеть там Гриню и услышать от него хоть какое-нибудь слово, да не вышло, как хотелось, – не увидела и не услышала, а только наслушалась обидной ругани от Анфисы. Впрочем, на ругань, которой поливала ее Анфиса, плевала бы она с приступочки – пускай гавкает, ветер унесет; совсем другое корежило – неизвестность. Не знала Дарья истинной причины Грининой остуды и потому не могла придумать способа, чтобы заново, на короткий поводок, привязать его к себе, так привязать, чтобы и пикнуть не посмел.
«С теткой надо поговорить, заделье придумать, чтобы ей помочь, тогда и у тяти отпрошусь, останусь еще на день-другой, вот и посмотрим, где ты, Гриня, суженый мой, ряженый, прятаться от меня изволишь…» Придумав это, совсем неожиданно для самой себя, Дарья даже остановилась, перевела дух, выпрямилась, расправив плечи, перебросила косу на высокую грудь и дальше поплыла по улице, как лебедь по озеру.
3
Гриня в это время, ни о чем не догадываясь, переметывал на сани второй стог и так скоро и ловко кидал плотные пласты пахучего сена, что Василий Матвеевич, не успевая управляться на возу, незлобиво прикрикнул:
– Ты, парень, утихомирься, а то завалишь меня по самую макушку!
Пожалуй, и верно. Можно передохнуть, пока дядька совсем не запалился, принимая и утаптывая тяжелые пласты. Гриня воткнул вилы в сено, оперся грудью на черенок и стащил шапку, подставляя потную голову под легкий морозный ветерок. Над головой у него поднялось белесое облачко. Оглянулся назад, отыскивая взглядом деда, и увидел, что тот, оставляя за собой глубокие следы, бредет по снегу на край луга, к старым высоким тополям, которые ярко врезались темными макушками в чистое, синее небо.
«Это куда его нелегкая понесла?» – подумал Гриня и хотел даже окликнуть деда, но Василий Матвеевич, успев притоптать сено на возу, скомандовал:
– Наваливай, племянничек! Обед скоро, пора щи хлебать!
Скорее так скорее, да и в пустом животе уже булькало, с утра ведь не ели. Гриня поднатужился, выворотил из-под ног едва ли половину оставшегося стога, перевалил его на воз и накрыл Василия Матвеевича с головой. Тот глухо ругался, раскладывая сено, но управился быстро, и вот они уже затянули бастрык[9], подскребли вилами одонья, и все четыре воза готовы были стронуться с места, чтобы потянуться неторопливо в сторону деревни.
Но стронуться пока не могли – Матвея Петровича требовалось дождаться. А он уже из глаз пропал, ушел куда-то за тополя, и на снегу были видны только глубокие следы. Тогда стали кричать, звать его, но Матвей Петрович не отзывался.
Да куда же он убрел-то?!
Гриня покричал еще, покричал и, не дождавшись ответа, пошел по дедовым следам. Добрался до тополей и увидел, что следы, круто завернув влево, спускаются вниз, к маленькому луговому озерку, которое ощетинивалось по берегам густым, серым камышом. Прямо в этот камыш и уходили следы.
«Чего он там позабыл?» – Гриня, удивляясь все больше, начинал тревожиться и убыстрял шаги, почти бежал, благо что снег лежал неглубокий. Проскочил через камыш, увидел на озерке пятачок чистого льда, не заметенного снегом, и хотел уже выскочить и лихо прокатиться по нему, как вдруг опешил и замер на месте. А затем, сам не зная почему, отшагнул назад, в камыш, и присел, скрываясь за сухими стеблями, обметанными густым инеем.
Смотрел, широко распахнув глаза, и глазам своим не верил.
На краю ледяного пятачка, чисто выметенного ветром, стоял Матвей Петрович, низко опустив голову, будто нашкодивший парнишка, а перед ним возвышалась женщина, одетая в легкое белое платье. Длинные седые волосы опускались ниже плеч и сливались с этим платьем. В руке она держала повод, а за спиной у нее, вздергивая головой, будто пытаясь этот повод вырвать, гарцевал белый конь, белый от копыт до макушек ушей. Тот самый, который беззвучно скакал в памятную ночь. Но тогда на нем была девушка, а теперь почти старуха – седая, и лицо у нее в морщинах, темное, будто подкопченное смолевым дымом. Она что-то медленно говорила, а Матвей Петрович, не поднимая головы, слушал и ничего не отвечал. Только слушал. Что она говорила, Гриня не понял, лишь различил необычный голос, напоминавший негромкое, протяжное пение. Напрягался изо всех сил, пытаясь понять, глядел во все глаза, по-прежнему оставаясь в своем укрытии, и в этот раз уже не испытывал ни страха, ни удивления. Ясная и четкая, явилась к нему догадка: нет, ничего ему той ночью не поблазнилось, все наяву было, как и шарф на бугре, который он привязал к сосне. И еще понимал Гриня, что дед все знает: и про этого коня, и про девушку, и про старуху, перед которой стоит сейчас так почтительно.
Тогда почему он Грине до сих пор ничего не сказал, если знает?
Женщина между тем говорить перестала, отступила на шаг и низко поклонилась, а выпрямившись, сразу же повернулась и пошла медленным шагом, не выпуская повода из руки. Конь послушно следовал за ней, встряхивал гривой, и шаг у него был короткий, редкий, будто он подлаживался под медленное движение женщины. Следов за ними не оставалось, и снег лежал нетронутым.
Матвей Петрович, продолжая стоять на прежнем месте, смотрел им вслед до тех пор, пока они не скрылись за молодым ветельником. И лишь после этого, когда белый конь и седая женщина исчезли из глаз, словно растворились в просветах между ветками, обвислыми под снегом, он сдвинулся со своего места и пошел по собственным старым следам, не оглядываясь и горбясь.
Гриня окликать его не стал. Посидел еще, притаившись в камыше, выждал время, чтобы дед его не увидел, а затем быстро, напрямик, добежал до саней, где Василий Матвеевич уже притомился ждать и встретил его сердитым вопросом:
– Вы где оба потерялись? Деда нашел?
– Да вон идет, следом, – Гриня перевел дух, обошел возы, подтыкивая сено, оглянулся – дед был уже совсем рядом. Спокойный, неторопливый, будто ничего и не случилось на маленьком луговом озерке. Глянул на возы, легко взмахнул рукой:
– Трогайте.
– Может, на возу поедешь? – предложил Василий Матвеевич, – чего ноги бить?
– Пожалуй, и поеду. Пособите забраться.
Воткнули вилы в сено, Матвей Петрович, опираясь на них и цепляясь за бастрык, поднялся наверх, уселся и, ловко поймав подкинутые вожжи, стронул коня с места.
Возы, оставляя за собой глубокий санный след, медленно и тяжело потянулись в сторону Оби.
Пока добрались до дома, пока перекидали сено, пока распрягли и напоили коней, короткий день покатился на убыль, и поэтому решили больше за Обь не ездить, хотя с утра собирались сделать две ходки. Матвей Петрович снял рукавицы, высморкался и вздохнул:
– Все, пошабашили. Ступайте обедать, я следом подойду.
Гриня послушно пошел к крыльцу, но вдруг, словно что-то вспомнив, вернулся и увидел, что дед, задумавшись, сидит на краешке саней, низко опустив голову, и рассеянно сбивает рукавицами снег с белых катанок. Гриня осторожно присел рядом, помолчал, набираясь решимости, и спросил:
– Дед, а там, на озерке, ты с кем разговаривал?
Матвей Петрович долго не отвечал, продолжая шлепать рукавицами по катанкам, а затем, как будто и не слышал, о чем его спрашивает внук, тихо заговорил:
– Мудро сказано – нет ничего тайного, что не стало бы явным. Нет такого секрета, который похоронить можно, хоть на три ряда его закопай, все равно кончик наружу высунется. Такие вот дела, Григорий. Говорил я тебе и еще раз скажу: придет время – все узнаешь. Все тебе поведаю, ничего не утаю. А пока помалкивай и с расспросами ко мне не лезь. На будущей неделе я тебя в город отправлю, и пока там одно дельце не сделаешь, домой не вертайся.
– Какое дельце, дед?
– Заковыристое. Но парень ты у нас бойкий, шустрый – осилишь. А теперь пошли в дом, обедать пора.
Отобедали чинно, молча. Но, когда принялись за чай, Анфиса, не в силах сдержать в себе распирающую ее новость, принялась в подробностях рассказывать о том, что приходила Дарья Устрялова и что наговорила она дерзостных слов целый короб и, похваляясь, грозилась, что Гриню без соли съест, потому что имеет над ним власть, какой ни один человек не имеет… И много еще чего наговорила, оказывается, Дарья в пересказе Анфисы и могла бы еще больше наговорить, да только Матвей Петрович стукнул по столу ладонью и прикрикнул:
– Не тарахти! Дай спокойно чаю попить!
И в наступившей тишине громко швыркал, схлебывая чай с блюдца и прижмуривая глаза от удовольствия, будто новость, которую сообщила Анфиса, пролетела мимо его ушей.
4
Но не пролетела эта новость мимо ушей Грини.
Вечером, обрядившись в алую рубаху, подпоясавшись зеленым пояском, торопливо накинув полушубок и насунув на голову шапку, он незаметно выскользнул из дома и зачастил скорым шагом в самый дальний конец улицы, где стоял, последним в правом ряду, большой дом – там жила тетка Дарьи Устряловой. Возле дома, замедлив ход, Гриня успел заглянуть в ограду и увидел, что саней в ограде нет. А это значит, что родитель Дарьи отъехал домой. А сама Дарья отъехала или осталась?
Все эти дни, минувшие с памятной вечерки в Пашенном выселке, он почти не вспоминал о Дарье, а если и вспоминал, то мимоходом, скользом, потому что стояло перед глазами, не исчезая, видение девушки на белом коне. Было оно таким ярким и четким, будто наяву. И все эти дни, даже после того, как побывали они с дедом на увале, где пришлось оставить шарф, привязав его к сосне, даже после этого видение не исчезло. И лишь сегодня, после рассказа Анфисы, словно костерок, притухший на время, заполыхало, как от порыва ветра, жаркое желание – до зла горя захотелось увидеть Дарью. Будто на невидимой веревочке привели его к крайнему дому, возле которого он и топтался сейчас, прохаживаясь то в одну, то в другую сторону, выбирая путь поближе к заплоту, чтобы могли его увидеть из окна.
Увидели.
Глухо состукали двери, скрипнули за глухими тесовыми воротами скорые шаги, открылась калитка, и Дарья, даже не успев застегнуть пуговицы на шубейке, выскочила на улицу и остановилась, замерла, словно пристыла к утоптанному снегу. А после неторопливо застегнула шубейку, поправила полушалок и, перекинув косу на грудь, приблизилась к Грине замедленной, плывущей походкой и чуть заметно склонила гордо посаженную голову:
– Добрый вам день, Григорий Иванович. Какими ветрами в наши края занесло?
– Да никакими, шел мимо, дай, думаю, загляну.
– В прошлый раз сказать чего-то хотел, да не получилось… Чего сказать-то хотел, Гриня?
– Да я теперь уж и забыл. – Гриня нагло смотрел на Дарью, но не в лицо ей смотрел, а на шубейку, в том месте, где она круто оттопыривалась высокой грудью. – Пойдем куда-нибудь, чего мы тут стоим, посреди улицы.
– И все ты, Гриня, за собой куда-то тянешь. То на улицу выйди, то с улицы уйди… – Дарья смотрела на него, чуть прищурив глаза, и улыбалась, будто знала что-то такое, о чем никто даже и не догадывался. – Видно, сказать чего-то хочешь, а не говоришь. Ты уж скажи, Гриня, что у тебя на душе лежит, чтобы знала я, чего от меня хочешь…
– Да ничего не хочу, так…
– Как? – Дарья продолжала улыбаться, чуть приподнимая брови, словно удивлялась, что Гриня не может найти нужных слов.
А он и в самом деле не знал – какие ему слова следует говорить? Не будешь ведь рассказывать о том, что одолевает его сейчас одно-единственное желание – увести Дарью в какое-нибудь укромное местечко и расстегнуть ее шубейку, а там, если повезет, и до кофточки добраться…
Гриня вскинул голову, увидел морозный закат, который уже затухал, уступая место сизым сумеркам, наползающим на деревню, и неожиданно сообщил:
– Стемнеет скоро.
– Ты к чему это говоришь, Гриня? Сказать больше нечего? – Дарья улыбалась по-прежнему, и не требовалось большого ума, чтобы догадаться – смеется красавица над парнем, водит его вокруг себя, как привязанного, и получает от этого большущее удовольствие.
Гриня об этом догадывался, но схитрил, не подавая вида, и выговорил твердо, взгляда не отрывая от шубейки:
– Да есть чего мне сказать, Дарья. Много сказать хочу. Только не здесь, пойдем…
– Куда?
– А я покажу!
И первым, не дожидаясь согласия Дарьи, пошел в конец улицы, где пустовал на отшибе старенький амбар. Раньше хранили в нем общественный запас зерна на случай неурожая или пожара, но после того как построили новый амбар, этот забросили, и стоял он теперь, дожидаясь, когда разберут его на дрова.
К этому амбару и шел Гриня, не оглядываясь, но чутко прислушиваясь – поскрипывают ли за ним шаги Дарьи по снегу?
Поскрипывали…
Остановился возле подгнившего порожка, замер, набычив голову, как перед дракой, и резко обернулся. Молча ухватил Дарью за рукава шубейки и вдернул следом за собой в амбар, притиснул к стене, вздрагивающими руками принялся нашаривать большие костяные пуговицы. Дарья даже не охнула, только ярко, как у кошки, вспыхивали в потемках широко распахнутые глаза.
Стояла она безвольно, ослабнув телом, вся – податливая, и молчала, словно лишилась голоса. Вдруг вскинула руки, сомкнула их в тесное кольцо на шее Грини, и приникла к нему так близко, что он ощутил, как вздрагивают у нее колени.
Сникла гордая и норовистая красавица, и волен был сейчас Гриня делать с ней все, что угодно. Он распахнул, наконец-то, шубейку, сунул руки в тепло девичьего тела и отдернул их, будто обжегся, – увидел в проеме обвислой двери старого амбара, в сумерках, белого коня. Тот шел неторопливой и легкой рысью совсем недалеко. Юная всадница на коне в этот раз не смеялась, она лишь зазывно взмахивала рукой, словно приглашала последовать за собой.
Гриня вылетел из амбара, как пуля, бросился вслед за белым конем и за белой всадницей, летел, отмахивая молодыми ногами огромные скачки, но напрасно – не догнал. И долго стоял в чистом поле, не ощущая самого себя, словно все еще бежал, задыхаясь, хотя не было видно ни коня, ни всадницы.
Окольным путем, чтобы не пересечься с Дарьей, вернулся Гриня домой и, отказавшись от ужина, собрался спать. Но его призвал к себе в горницу Матвей Петрович и сурово известил:
– К Дашке больше не вяжись, с гонором девка, не будет с нее толку. Сядет на шею – хуже хомута, в кровь изотрет. А в Никольск послезавтра отправишься, пока морозы не стукнули и дороги не перемело. Теперь слушай, чего тебе сделать там надобно…
5
Следующий день прошел в сборах.
Попутно, чтобы порожняком туда-сюда не гонять, в сани уложили мерзлые овечьи шкуры, которые Гриня должен был доставить в Никольске скорняку, у которого и фамилия была самая что ни на есть подходящая – Скорняков. С ним у Матвея Петровича имелся давний договор, обоюдно выгодный для каждой стороны: одному шкуры нужны для его изделий, а другому деньги не помешают.
И никто из домашних, кроме Грини и Матвея Петровича, даже не догадывался, что в нынешнем году доставка шкур для скорняка лишь предлог для более важного и скрытного дела.
Вечером хорошенько накормили коня на дальнюю дорогу, а утром, еще потемну, Гриня выехал из ограды и, ловко устроившись на мягком сене в передке розвальней, запрокинул голову и стал смотреть в небо, на котором начинали блекнуть перед рассветом крупные звезды. Под полозьями и под конскими копытами сухо поскрипывал снег, шуршало пахучее на морозе сено, отдалялся и затихал, оставаясь за спиной, редкий собачий лай.
Хорошо было ехать, в полное свое удовольствие – сам себе хозяин и никто над душой не стоит.
И думалось тоже складно и вольно.
Сначала он думал про Дарью, которая раньше не давала ему покоя и даже по ночам являлась в жарких, порою таких стыдных снах, что о них и рассказать никому нельзя; и чем яростней он желал быть с ней рядом, тем обидней она над ним подсмеивалась, а позавчера, будто переродившись, послушно пошла за ним к амбару, таяла в его руках, как восковая свечка тает от огонька. И случилось бы наверняка самое тайное и желанное, если бы не появился белый конь со своей всадницей. И теперь еще стоят они перед глазами, а в воздухе, извиваясь, струится белый шарф, тот самый, который он своими руками привязал к сосне на дальнем увале…
И не было у него сейчас никакого иного желания, кроме одного – снова увидеть девушку на коне и последовать за ней в любую сторону. А Дарья… С Дарьей странная штука, будто на костер, еще вчера полыхавший, ведро воды опрокинули. Он и потух разом. Угли и те не шают. Чудно!
Дальше Гриня думал про город, в котором очень любил бывать. И с плотами туда сплавлялся не раз, и по зиме ездил, и всегда с любопытством вглядывался в городскую жизнь – шумную, бойкую, пеструю. Все там шевелилось, кипело, бурлило, и хотелось с головой нырнуть в эту жизнь, такую манящую и веселую.
И лишь об одном не думал Гриня – о том деле, которое поручил ему дед. Не думал по той простой причине, что не знал, как его исполнить. Дед лишь сказал, как всегда, немногословно – изворачивайся, как можешь, а дело сделай. А как извернуться – не посоветовал. Но Гриня ни капли не горевал: чего, спрашивается, раньше времени голову забивать лишними переживаниями, вот приедет в город, оглядится, тогда само придумается. У него всегда так бывало – как до края доберется, так сразу и умная догадка осенит. Уверен был, что и в этот раз осечки не случится. Все он сделает легко и играючи.
Утренние сумерки между тем проредились до светлой голубизны, обозначилась по правую руку длинная полоса студеной зари, морозец покрепчал, и снег под копытами и под полозьями зазвучал громче.
Новый день начинался.
Скоро Гриня выбрался на прямоезжий тракт, ведущий до Никольска, и здесь уже раздумывать стало некогда. Не зевай, гляди во все гляделки, иначе зацепится дурной лихач за розвальни – беды не оберешься. Особо рьяные удальцы летели на своих тройках по тракту столь стремительно, будто их из тугого лука выстрелили.
Но все обошлось, никакой оплошности не случилось, к вечеру Гриня добрался до постоялого двора, переночевал, а на следующий день, после обеда, был уже в Никольске.
Большой двухэтажный дом Скорнякова стоял недалеко от железнодорожной станции, и когда Гриня подъехал к высоким глухим воротам, донесся длинный, протяжный паровозный гудок – будто оповестили, что гость пожаловал. Но ворота открывать не торопились. Гриня постучал раз, другой – никто ему навстречу не вышел. Тогда он толкнул узкую калитку с толстым железным кольцом, и она перед ним бесшумно и гостеприимно распахнулась. На просторном дворе, выложенном булыжником и старательно очищенном от снега, никого не было, лишь два растрепанных воробья суетливо прискакивали в дальнем углу, где росла высокая рябина, и клевали опавшие ягоды.
Гриня шагнул во двор, остановился и громко позвал:
– Хозяева!
Ему никто не отозвался. Тогда он прошел через двор, поднялся на высокое крыльцо и дернул за витую веревочку, на конце которой висел медный шарик, – знал, по прошлым приездам в город, что после этого должен зазвенеть звонок.
Но и после звонка никто не вышел и не подал голоса.
Гриня потоптался на крыльце, еще раз дернул за веревочку и едва успел отскочить в сторону – широкая, толстая дверь, украшенная снаружи коваными железными завитушками, отлетела настежь, грохнула о стенку сеней, будто из пушки пальнули, и вылетел из нее, перебирая ногами в воздухе, неведомый человек в длинном черном пальто. Полы этого пальто взметнулись, как крылья, и человек продолжил полет, минуя все ступеньки высокого крыльца. Рухнул прямо на булыжник и растянулся черной кляксой. «Убился!» – беззвучно ахнул Гриня. Но человек бойко вскочил и, прихрамывая, шустро кинулся к распахнутой калитке. Нырнул в нее и исчез.
И лишь после этого на крыльцо вышагнул сам хозяин – Скорняков. Был он высоченного роста, широк в плечах и необъятен во чреве – просторная рубаха, в которую можно было троих запихнуть, внатяг лежала на животе и едва не лопалась. Скорняков стукнул широченными ладонями, одной о другую, будто невидимую пыль с них стряхивал, и сердитый, еще не остывший от злости взгляд узких татарских глаз уперся в Гриню. Кто таков?
– Я… – начал было Гриня, но Скорняков перебил его глухим нутряным басом, который поднимался, казалось, из самых глубин необъятного живота:
– Признал. Черепановский? Ступай калитку закрой.
Когда Гриня послушно выполнил приказание и вернулся на крыльцо, Скорняков молча провел его в дом, заставил раздеться и усадил за стол, заваленный бумагами и амбарными книгами. Раскрыл одну из них, обмакнул ручку в чернильницу и спросил:
– Сколько шкур привез?
– Ровным счетом сорок.
– Ишь ты! – хмыкнул Скорняков. – Ровным счетом! Пересчитаю. Распишись вот здесь… Как там Матвей Петрович поживает, чего на словах передать наказывал?
– Поклоны шлет, здравствовать желает. А еще просил приют дать, на время, в счет расплаты. Дело одно поручил мне в городе исполнить…
– Ладно, приют дам, без расплаты; у меня не постоялый двор, за так добрых людей пускаю. Посиди тут, обожди, работник придет, поедешь с ним в мастерские, там и приют тебе будет, и кормежка, и коня доглядят…
Не успел он договорить, как на пороге нарисовался работник – молодой, здоровенный парень, под стать самому Скорнякову – об лоб можно было поросят бить. Молча выслушал хозяина, молча кивнул и махнул могучей рукой, показывая Грине – ступай за мной.
Вышли на улицу, парень примостился сбоку на розвальни, сказал, куда ехать, и скоро они были уже в мастерских, где шкуры сложили в амбар, коня распрягли и поставили в конюшню. Самого Гриню парень определил в маленькую каморку с топчаном и с крохотным столиком возле узкого подслеповатого окошка. Хоромы, да и только.
– Располагайся пока, на ужин свистну. – Парень собирался уже уходить, но Гриня остановил его:
– Погоди, тебя как зовут-то?
– Савелием раньше кликали.
– А меня Гриней. Скажи, Савелий, кого это хозяин из дома так вышиб, что тот, бедолага, до самой калитки летел?
– Да… – Савелий поморщился. – Сын это евонный. В гимназистах был, а после в Москву отправили, дальше учиться. Вот и выучился… Никчемный человек. Но это у них дело семейное, и ты не любопытствуй, не вздумай у хозяина спрашивать, не любит он этого. Понятно?
Гриня развел руками – чего ж тут непонятного? И больше ни о чем Савелия не спрашивал. А после ужина сразу же лег спать и уснул, как пластом земли придавленный – ни одного сна не увидел.
6
Утро выдалось звонкое и веселое: легкий мороз прищелкнул, реденький-реденький снежок заскользил с неба. Все вокруг заиграло и заблестело, как яркая игрушка.
Гриня плотно позавтракал вместе со скорняковскими работниками, вышел за ворота мастерской, огляделся, сдвинул на затылок шапку, из-под которой буйно выбивался густой чуб, и весело присвистнул от хорошего настроения.
– Не свисти с утра, а то весь день просвистишь!
Оглянулся – Савелий, оказывается, следом за ним за ворота вышел. Расставил могучие ноги и потянулся, раскинув руки, так сладко, что слышно было, как под легкой шубейкой смачно хрустнули косточки. Круглое, сытое лицо его сияло довольством.
«Да, парень, не изработался ты здесь…» – невольно подумал про себя Гриня, а вслух сказал:
– Это в избе свистеть нельзя, а на улице – можно.
– Ну свисти, если глянется, – благодушно разрешил Савелий, – куда идти-то собрался?
– Надо мне попасть на Туруханскую улицу, а там номера имеются и магазин… Шик…
– Ши-и-к… – передразнил Савелий, – деревня ты, выговорить толком не умеешь! «Парижский шик» называется! Вот как! Я хозяина туда на прошлой неделе отвозил, он там меха на продажу сдает. Богатющий магазин! И чего ты покупать собрался?
– Дырку от бублика! – усмехнулся Гриня. – Мне в номерах людей разыскать, важное дело имеется…
– Тогда топай прямо, никуда не сворачивай, а как в пожарную каланчу упрешься, сразу бери направо, в переулок, пройдешь его, вот и Туруханская. Зеленую вывеску ищи. Магазин на первом этаже, а номера на втором, а заходить в номера надо со двора. Все запомнил, лапоть?
– Не дурней сопливых, – огрызнулся Гриня.
– Смотри у меня, не балуй, – Савелий еще раз потянулся, раскинув руки, – а то вечером вернешься, я тебе шею намылю.
– Свою побереги, – посоветовал Гриня и пошел, не оглядываясь, прямо.
Он нигде не заплутал, поспешая быстрым шагом, и скоро уже стоял перед двухэтажным каменным домом с множеством узких и высоких окон. Над парадным входом висела большая зеленая вывеска, на которой золотом переливались под солнцем витиевато нарисованные буквы – «Парижский шик». А ниже, буквами поменьше, значилось: «Богатый выбор самых новых, изысканных моделей». Гриня поглазел на вывеску, даже в магазин хотел зайти, ради любопытства, но передумал. Обогнул дом и там, над крайним входом, увидел другую вывеску, не столь яркую и не столь большую, блеклую и обшарпанную, – «Меблированные номера Сигизмундова. Самовары бесплатно». Тяжелая дверь открылась беззвучно. Узкая, полутемная лестница вела на второй этаж. Еще одна дверь, и Гриня оказался в широком коридоре, где за низкой конторкой, перекладывая бумаги, горбился низенький господин в очках. Гриня несмело подошел к нему, кашлянул, и господин, не поднимая головы, скороговоркой выговорил:
– Вынужден разочаровать, свободных номеров в наличности не имеется.
– Да мне другое… – замялся Гриня, – мне номера не нужны…
Господин поднял голову. Лицо у него было сухонькое, птичье, как будто скукоженное, а маленькие, острые глазки смотрели цепко и умно. Кивнул:
– Понимаю. Кого разыскиваете?
– Мне вот… Здесь пропечатано…
Гриня расстегнул полушубок, высвободил из штанов подол рубахи, где на изнанке был пришит просторный карман. Из кармана вытащил газету, сложенную в осьмушку, развернул ее и положил на конторку, ткнул пальцем:
– Вот… Тут пропечатано…
Господин брезгливо сморщился, глядя на изжульканный газетный лист, но изволил взглянуть на указанное объявление и даже вслух его прочитал:
– Коммивояжерам крупной московской компании требуются для постоянных разъездов на разные расстояния извозчики, трезвые и аккуратные. Оплата честная. Обращаться в меблированные номера Сигизмундова, в первой половине дня. Спросить Кулинича.
Прочитав, господин вздернул маленькую головку, цепко и быстро окинул Гриню острым взглядом и вскинул сухонькую руку:
– По левой стороне четвертая дверь. Ступайте и обрящете.
Гриня пошел по коридору. Вот и четвертая дверь по левой стороне. Старая голубенькая краска давно отщелкнулась, железная ручка болтается на одном гвоздике. Он громко постучал, отчего железная ручка звякнула, а дверь сама собой распахнулась.
В большой и просторной комнате стоял посредине узкий и длинный стол, заставленный винными бутылками и тарелками со снедью, а за столом сидели двое мужчин и одна женщина, которая курила длинную папиросу и пускала в потолок ровненькие колечки дыма. Гриня в первый раз увидел, что баба курит папиросу, и от удивления даже замер, разглядывая во все глаза, как она это делает.
– Вас, молодой человек, папенька с маменькой разве не учили, что после стука нужно дождаться разрешения, а уже после этого – входить? И обязательно здороваться. – Женщина стряхнула пепел прямо на стол и вздохнула: – Ну, рассказывай – какая нужда привела?
– Здравствуйте, – Гриня стащил с головы шапку и кивнул, как будто поклонился. – А дверь сама открылась, я и спросить не успел, извиняйте. А пришел… вот! Пропечатано тут…
– Пропечатано, говоришь… Тогда давай, почитаем, что там пропечатано. – Один из мужчин поднялся из-за стола, и оказалось, что он очень высокого роста, худой и поджарый; на узком, будто приплюснутом лице, тщательно выбритом до синевы, ярко светились черные, как затухающие угли, глаза.
Он взял газетный лист, мельком глянул на него и вернул Грине. Спросил:
– А ты не сообразил, что газета почти месячной давности? За это время уже и помереть можно, а ты на работу пришел наниматься!
– Да ладно, не придирайся к парню, – вмешался второй мужчина и тоже поднялся из-за стола; этот был поменьше ростом, пошире в плечах, с окладистой русой бородкой, смотрел весело и улыбался, – он и так смущается. Значит, денежек заработать решил?
– Если получится, чего же не поработать, – резонно ответил Гриня.
– Только учти, условия у нас строгие. Первое – трезвый, второе – исполнительный, а третье – куда сказали, туда и поехал, без вопросов и без разговоров. Согласен?
– А чего же не согласиться, – снова резонно, как ему казалось, ответил Гриня, – только знать бы хотелось – какая оплата будет?
– Будет, будет тебе оплата, достойная и честная, – крепыш похлопал Гриню по плечу и заглянул ему прямо в глаза, а показалось, что в самую душу. Неуютно, тревожно стало Грине под этим взглядом, и он подумал: «Ну, дед! И на какого лешего они тебе понадобились! Мутно здесь… И баба – архаровка! Сидит и курит! Ладно, потерплю, раз пообещался…»
А обещался Гриня, согласно наказу Матвея Петровича, выполнить следующее: разыскать людей, которые в газетке объявление печатали, наняться к ним на работу и все про них разузнать – кто такие, чем занимаются, о чем между собой разговоры разговаривают. Одним словом, все, что возможно, выведать. Гриня, услышав это, конечно, удивился, но дед цыкнул: «Сказано – делай! А время придет – расскажу, для чего эта надобность».
Вот и стоит он сейчас перед двумя мужиками и перед бабой, которая вторую папиросу прикуривает и в дыму вся, будто за спиной у нее дымокур развели, напихав в старое ведро сухих коровьих лепешек; стоит и представляется тюхой-матюхой, который на все согласен, лишь бы его на работу наняли. Сам не зная почему, но Гриня решил, что нужен им именно такой извозчик – будто мешком из-за угла стукнутый.
И, кажется, не ошибся. Его еще порасспрашивали: какого коня имеет, какие сани, да бывал ли в дальних поездках, и, расспросив, велели утром, к десяти часам, быть возле номеров.
Гриня поклонился, задом упятился в двери, двинулся по узкому коридору к выходу, молча ругаясь: «А про оплату так и не сказали! Вот хитрованы! Может, вернуться, спросить? Ладно, завтра спрошу».
Вышел он из меблированных номеров Сигизмундова, огляделся, и захотелось ему прямо сейчас же, в сию минуту, оказаться дома.
Но дом находился далеко, и достигнуть его в столь краткий срок было невозможно.
7
Жизнь в Покровке тем временем текла спокойно, размеренно, без тревог и волнений. Только и событий случилось, что Варя несказанно удивила Анфису, прямо-таки сразила ее наповал, когда вечером подоила и обиходила коров; молоко процедила и разлила по кринкам и уже собиралась кормить остальную живность, когда вернулись хозяева, задержавшиеся до самых сумерек в доме младшего сына на дальнем конце Покровки, где сноха, удачно разродившись, одарила их очередным внуком.
Возбужденная, еще не отойдя от пережитого волнения – роды она сама принимала, – Анфиса сначала никак не могла понять: почему молоко в кринках, а чисто вымытый подойник стоит на своем законном месте? Озиралась по сторонам, будто в своей родной избе заблудилась, и даже не голосила, как обычно, а тихо, шепотом спрашивала:
– Оно как так случилось? Кто хозяйничал?
Когда выяснилось, что хозяйничала Варя, что она даже сена коровам дала, Анфиса охнула и села на лавку, глядя во все глаза на свою постоялицу, словно желала удостовериться – она это или не она?
Варя смеялась и говорила:
– Да я любую работу делать умею, меня папенька с маменькой всему научили!
И уже поздно вечером, после ужина, когда пили чай, Варя откровенно, впервые за все время проживания у Черепановых, стала рассказывать о себе. Раньше она ничего не рассказывала, а тут ее как прорвало. Анфиса, подперев щеку ладонью, сидела, необычно молчаливая, и только вздыхала, слушая историю чужой жизни, которая начиналась далеко-далеко отсюда, где-то в Расее, в большом подмосковном селе Вознесенском, где на пригорке, возвышаясь над пыльной площадью, стоял красивый храм Преображения Господня с тремя голубыми куполами.
Настоятелем этого храма был священник Александр Нагорный, отец Вари. Он служил службы, причащал, отпевал, крестил, венчал и дома бывал редко, урывками, а каждую свободную минуту отдавал хозяйству, потому что сам сеял и убирал хлеб, сам содержал скотину и только по осени нанимал работника на молотьбу и для того, чтобы тот зарубил гусей на зиму. «Не могу же я птице голову рубить и в крови мазаться, – говорил отец Александр, – мне на другой день, может, невинного младенца крестить придется». С тихой и безропотной матушкой Стефанидой они родили трех дочек и воспитывали их строго и в трудах. Весь огород и мелкая живность были на девочках – они поливали, пололи грядки, пасли и кормили гусей, а когда подросли, стали и за коровами ухаживать. Без дела никогда не сидели. Жили дружно, тихо, по-божески. Да только рухнула эта жизнь, будто домик из песка слепленный, и осыпалась до самого основания. Сначала девочки заболели дифтерией, и как только родители над ними ни хлопотали, спасти не смогли – выжила лишь одна Варя. Дальше, как в горькой пословице: пришла беда, отворяй настежь ворота – заболел сам отец Александр, стал задыхаться, кашлять и за неполный год иссох, словно травяной стебель по осени. Незадолго до своей смерти, уже чувствуя, что скоро настанет последний час, он продиктовал матушке Стефаниде прошение, которое велел отправить в епархию. В прошении том изложена была нижайшая просьба к архиерею, чтобы не оставили без участия сироту Варвару Нагорную, когда она останется на этом свете без своего родителя, и чтобы определили ее в епархиальное училище. Просьбу отца Александра исполнили, и после его кончины Варя уехала в епархиальное училище, где отучилась положенный срок, получив звание домашней учительницы.
– А матушка-то жива? – дрогнувшим голосом спросила Анфиса, вытирая глаза кончиком платка.
– Теперь и матушки нет, – ответила ей Варя, – одна тетушка у меня осталась, сестра ее родная.
– Да в такую даль, да еще одна – как тебе не боязно было? – удивлялась Анфиса. – Жила бы там с тетушкой, все родная душа!
– Да чего уж бояться, – улыбнулась Варя, – люди везде одинаковые.
– Так-то оно так, да только… – подходящих слов Анфиса не нашла и снова принялась вытирать глаза кончиком платка.
Эта внезапная откровенность Вари, а главное – ее рассказ, так растрогали Анфису, что она еще долго вздыхала и никак не могла успокоиться, даже о родившемся внуке ничего больше не говорила.
Может быть, они долго бы еще сидели и чаевничали, но со двора пришел Василий Матвеевич и нарушил их задушевную уединенность. Да и время уже позднее было – спать пора.
Варя разобрала постель, погасила лампу в своей боковушке и долго стояла у окна. Там, за окном, ровный лунный свет стелился по высоким, причудливо изогнутым сугробам, и казалось, что во всем мире властвует только этот свет – зыбкий и никого не греющий.
А так хотелось согреться, так студено было на душе после своего откровения перед Анфисой, которое всколыхнуло в памяти прошедшие дни, ведь многие из них до краев были наполнены неизбывной печалью и горем. Варя на ощупь нашла спички на столике, снова зажгла лампу и, накинув на плечи легкий платок, склонилась над чистой тетрадкой, выводя на ней красивым, почти каллиграфическим почерком слова, которые ей так захотелось сказать именно сейчас, что она не могла подождать до утра.
«Милый мой, любимый Владимир!
Сегодня, совершенно случайно и, казалось бы, без видимой причины, я поведала своей хозяйке о прошлой своей жизни, а теперь испытываю неодолимое желание поговорить с тобой, ведь родная душа всегда лучше поймет. Сама не знаю, почему меня захватило это странное чувство – рассказать о том, что пережила. Знаешь, в детстве, когда я была еще совсем маленькой, батюшка взял меня однажды с собой, когда шел на службу, и мы поднялись на колокольню нашего храма. Я глянула вниз, увидела безоглядный простор и даже ножками затопала от восторга. Дома, люди, деревья, лошади, телеги – все казалось таким маленьким, игрушечным. До сих пор ясно помню это ощущение сказочности. А когда повзрослела, мне стало казаться, что сказка случилась лишь однажды, в детстве, а все остальное время я нахожусь где-то внизу, такая крохотная, маленькая, что меня среди других и различить невозможно. И так было долго, до самой встречи с тобой. Встреча эта меня очень сильно изменила, будто я выросла и выпрямилась.
Да, именно так. Ты можешь, конечно, снисходительно улыбнуться, у тебя это получается очень мило, но снисходительность твоя абсолютно ничего не изменит, потому что я говорю правду. И за то, что я выпрямилась, я буду тебе всегда и бесконечно благодарна.
Если бы я, как теперь, не чувствовала себя большой и значимой, мне было бы очень трудно в деревне, в школе и с детьми. Я бы постоянно чего-то боялась, думала бы, что я ни на что не годна, и все бы у меня получалось плохо. Но, слава Богу, этого не произошло, и я все больше привыкаю к новой деревенской жизни и своему учительству.
И коль уж я написала про учительство, то непременно должна тебе рассказать о своих милых ребятках. Их у меня двадцать четыре ученика, в том числе восемь девочек. Последнее обстоятельство меня радует больше всего, потому что девочек в учение родители отдают неохотно, ведь дочери – помощницы и няньки в доме, и работы у них, несмотря на малый возраст, всегда много. А еще говорят так: «Незачем им учиться, научатся – так женихам письма писать станут! А это баловство». Но Матвей Петрович Черепанов, местный староста, у сына которого я на квартире проживаю, успокаивает меня и просит, чтобы я набралась терпения, потому что школы в деревне никогда не было, и людям нужно время, чтобы приглядеться.
Но я отвлеклась. Детки у меня чудные. Добрые, ласковые. А какие глаза у них, как они светятся! Мне порой кажется, что я живу с ними, как в одной большой семье, иначе бы они не доверяли мне свои секреты. Неделю назад, перед началом урока, пришли Ваня с Алешей, переглядываются между собой и на меня смотрят, будто что-то сказать хотят и не смеют. Я у них не спрашиваю, думаю, если захотят, сами скажут. Так оно и вышло. Ваня подошел ко мне, обнял за шею и шепчет в самое ухо:
– Я вам скажу, только вы никому не говорите. Шли мы вчера с Алексеем из школы, а у Кузьмы в бане окошко светится. Солнышко на него падает, оно и светится. Я и говорю Алексею, давай глызкой[10] бросим – попадем или нет? Так охота нам стало стеклышко сломать. Алексей взял глызку, бросил и попал в самое стеклышко, оно и сломалось, а мы испугались и убежали. Только вы, ради Христа, никому не говорите!
И что мне оставалось делать? Решила все-таки не выдавать их секрет. Ведь если выдам, они мне больше никогда так откровенно ни о чем не расскажут. Пошли после уроков гулять, они мне баньку Кузьмы показали и стеклышко разбитое, а я все увещевала их, чтобы не бросали глызы, камни и палки куда попало. Обещали, что никогда так больше делать не будут, и я им верю.
Наверное, все это для тебя покажется сущей мелочью, не стоящей внимания и тем более подробного описания, но для меня все очень важно, ведь моя жизнь теперь состоит из двадцати четырех жизней моих подопечных и я обязана все воспринимать очень серьезно. Иначе никак нельзя.
Недавно мы договорились с ребятами, чтобы они мне писали письма. Я их поощряю, чтобы они привыкали к письму. Сегодня получила письмо от Степы и хочу, чтобы ты тоже прочитал его, оно короткое, правда, с ошибками, которые приходится исправлять.
“Здравствуйте, дорогая моя учительница, Варвара Александровна! Извините, я карандашом написал, дома чернил нет. Очень я переживаю, что задачи не решаю. Научился бы я хорошо задачи решать – поставил бы пяташную свечку, Бога поблагодарил, а то не умею решать. Я молюсь каждый вечер, все прошу Бога научить меня, может, и научусь. Вот еще что я сказал бы вам, поди, не поглянется это: домой-то я пришел да Демку, младшего своего брата, хотел бить. Он за мной побежал, книгу просит, я не даю, он меня царапать начал по губе. Я заплакал, осердился, побежал бить его. Бабушка не дает, потом я его все-таки треснул, он залез на печку и ревет. Мне купили сапоги, давали 4 рубля. До свиданья!”