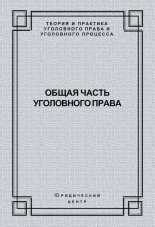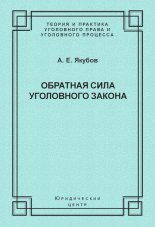Сказки кофейного фея Макаренко-астрикова Светлана

– А что, он тоже нужен для… стратегического плана?? – не сговариваясь, хором, спрашивает у меня вся компания. И замирает на миг, когда я первым начинаю смеяться…
Глава седьмая. Фей в опере…
Уже в фойе нас окружила целая толпа: студенты – за редким исключением, в лице красавицы Литягиной, – с родителями; приятели Ворохова – извечная веселая, добродушная, галантная, чуть под хмельком, богема, знакомые Анечки по поэтическому кружку – шумная компания, с обрывками своих и чужих строчек в головах.
И наше, профессорское, нарочитое «благочиние», с сорочками в мелкую точку или полоску, небрежно перехваченную под самым горлом лоснящимся бантом бабочки или удавкой галстука «павлиний глаз» – от которого через три минуты начинает рябить и в глазах, и в голове..
…Не получилось сосредоточиться и осторожно идти по почти «каннской» лестнице, с потертой ковровой дорожкой с бежевыми полосами по краям, ведя под руку крохотного фея, в белом палантине поверх синего бархата, жемчуга, и острого брюссельского кружева. Руку пришлось срочно освободить для приветствий.
Фей вспорхнул вверх по лестнице, вопреки всем правилам, в сопровождении улыбающейся легкими ямочками на щеках и на подбородке, Анечки Вороховой, чьи тонкие лакированные шпильки прочно впились в лестницу, а локти в черном шелке и гипюре осторожно и чуть небрежно поддерживали спину фея. Как раз в том месте, где нужно.
…Пару раз встретившись со мной глазами, Аня сумела утишить отчаянье, полыхавшее там неуемно, тем, что озорно подмигнула мне, и увлекла фея в раковину полукруглого зрительного зала, прямо к нашим местам в шестом ряду партера.
Когда мы с Вороховым, наконец, отбившись от приветствий и кивков на лестнице и в проходах, подошли к креслам, из оркестровой ямы уже раздались первые звуки увертюры.
Мягкий профиль фея, едва угадывался в полумраке гаснущих огоньков театральной люстры. Моя рука тотчас очутилась в ее тоненьких, горячих пальцах, сердечко браслета чуть царапнуло кожу моего запястья. Занавес взвился вверх, и мы, все четверо, ахнули одновременно, увидев на сцене дебелую даму в голубом гипюре, обтягивающем плотные чресла, лавиноподобный бюст и мощные плечи боксера или пловца перворазрядника.
Дама, стоя перед огромным зеркалом, тщательно расправляла в волосах цвета жженой соломы огромный красный цветок…. Она не раскрывала рта минуты три. Увертюра, пару раз споткнувшись на окончании, начиналась заново, дирижер нетерпеливо махал палочкой, оглядываясь на сцену и солистку, но дама молчала, как рыба. На сцене появилась еще одна тучная матрона, в бежевой тунике и туфлях – котурнах на остром, как игла, каблуке. Откуда взялись каблуки в тифозном боксе, из которого явно сбежала матрона – наперсница, с определенной длинной и цветом волос на голове, было совершенно непонятно. Уточнять у фея, место проживания этой дамы, я не рискнул.. Вероятно, подразумевался парижский квартал Монмартр или что то в этом роде… Полились звуки арии, с которой вступала в действие главная героиня, и я отвлекся, увлекся так, что не сразу услышал шепот фея, мягкий, насмешливый..
– Hai ragione, preferito.. sarebbe… Meglio hanno cantato invisibili*
– Sei troppo severa, amore mio! – я осторожно поднес к губам ее пальцы, грея их дыханием… – La musica la stessa… E dopo duecento anni.**
– Madame, фактура и декорации – полный улет… Рубенс в перформансе! – громко зашептал со своего места Ворохов. Фей, сколько мог, старательно держал паузу. Потом серебряное драже все же негромко, обрывисто рассыпалось по полу партера, и я услышал, как она пытается набрать воздух в легкие и подавить смех….Что то смутно белеет в темноте. Это Ворохов галантно протягивает ей платок. Картуш в своем амплуа!
Действие, музыка, накал переживаний увлекает нас постепенно, против воли. Второй акт заканчивается в напряженной тишине зала. В антракте нас вновь окружает толпа.
,,,Вперед, к ее креслу, пробивается немного взмокший в строгом пиджаке и бабочке, Антон Звягинцев, подтянутый, стройный и – необычно серьезный. Он осторожно пожимает хрупкие пальцы фея.
– Светлана Александровна, можете объяснить, а? Ну, какой вот смысл то в этом всем? Тазик на столе… Это что за декорации? И Виолетта, блин,.. Шкаф в миниатюре. Ей по действию – двадцать пять, а тут чего?! Все полста с хвостиком!
– Антон, ну смотри, как на режиссерскую условность…. Вольность..
– А если мне непонятен замысел режиссера? Вот непонятен и все, – упорствует Антон.
– Да, Светлана Александровна, в чем тут фишка, вот непонятно нам? Модерново, что ли? Так сейчас от чахотки не умирают.. Смешно! – вступают в разговор другие ребята, во главе со сбежавшей из ложи родителей Литягиной, – Георгий Васильевич, ну объясните?!
Ragazzi****, дело все в том, что сейчас фишка любого замысла в приближении героя к зрителю. Максимальном приближении, понимаете.. Старательно так изображает это режиссер, так пыхтит, что, вот и тазик на стол ставит с мокрым бельем, и Альберт у него в фартуке посуду моет.. Но Виолетту Альберт любит также безумно, как и во ремена маэстро Джузеппе… И, потом, представьте, что у нее не чахотка, а рак крови. Это и сейчас неизлечимо. И чувства по накалу не изменились, совсем… Понимаете? Музыка неизменима. Взлет ее. Падения у нее нет. Взлет есть. До конца. До самой трагической ноты, когда голоса у них сливаются воедино.
– Сейчас этого еще нет? – Антон и другие ребята стоят сбоку от прохода, не загораживая дорогу никому, но внимание на себя все равно обращает эта стайка воробьев в чуть смятых от долгого сидения пиджаках и рубашках.
– Нет. Как в начале любви, они в смятении: еще не знают, насколько сильно захватит их чувство, да и есть ли оно? Может быть, это только кокетливая салонная игра? – Неожиданно вступает в разговор фей – Видите, и барон в гостях у Виолетты, настаивает на том, что жизнь – игра, наслаждение. Как основной тезис первого действия. И музыка там, как бабочка – тарантелла. И Любовь, бабочка, пальпитто, мистериозо. – в прописях их арий…
Пелось первое действие потом на улицах народом, как песни.. Обычно так – не бывает… Какое дело рабочему люду до оперы: баловство для знати, и – только! – Запястье фея чуть дрожит в моих пальцах, синяя жилка пульса проступает яснее.. Я слегка сжимаю ее кисть, надавливая сверху. Ищу в середине изящной ладони ямку пульса, глажу ее… Японский секрет су – джок срабатывает, но медленно… Волнение фея сильнее древних практик.
– И потом, – продолжает тихо фей, поправляя палантин и откидываясь на спинку кресла, – Верди ведь задумывал эту оперу, как камерную.. Личную. Чисто личную историю сердца… Но получилась палитра гораздо шире… Жизнь, властно играющая Судьбами, с трагическим изломом… Она так швыряет героев из стороны в сторону, как в шторм, она насмешлива с ними. За то, что они осмелились считать ее игрой.
– Жизнь – рок? – Танечка Литягина резко и неожиданно присаживается на корточки возле фея, ее красное платье с серебром маленькой броши у левого плеча, переливается искорками в свети люстры, а кудри, собранные в высоко взбитую, замысловатую прическу, все равно непослушно выбиваются на висках.
Одну руку Таня осторожно положила на колено фея и тихонько гладит его. Хочет успокоить? Интересная она, Литягина. Прима курса, кокетка, баловень родных… Но отлично чувствует любое чужое волнение…
– Нет, Танечка. Рок всегда предполагает героику. Так ведь, Георгий? – обращается ко мне фей, повернувшись вполоборота.
Я утвердительно киваю, чуть подняв бровь.
– Да, cherriе. Здесь рока вроде и нет. Сюжет то – частного порядка. Подумаешь, роман молодого светского льва и куртизанки – Я развожу руками и сцепляю кисти под коленом, продолжая рассуждать.
Фей с любопытством слушает мою тираду, задумчиво улыбаясь, чуть склонив голову набок. – Собственно, он, роман, изначально и не предполагает никакой высоты чувств. Но жизнь все поворачивает по своему. Опрокидывает. Жизнь, как течение крови в аорте, как пульс. Жизнь – Любовь – нечто неподвластное, яркое, чарующее. Не бабочка, нет…. Но она взлетает на ту же высоту. Ведь бабочка летает до радуги. Даже в дождь…
– Джозефина Стреппони до встречи с Маэстро Верди была певицей, актрисой, немного куртизанкой. – Неожиданно вступает в разговор Ворохов. – Разные были у нее поклонники, меценаты, содержатели. Но встретила своего Пеппинно, и все, как в море нырнула… Так часто бывает. И в этом обычность и необычность жизни.
– Да. Жизнь во всей ее полноте здесь есть. И в этом очарование оперы. И потому слушать ее можно хоть в целлофане – улыбается фей и встает с кресла, одергивая платье. – Ragazzi, а что, кто то принесет мне пирожное и чашечку лимонада? – Она смеется. – Чашечку только. Стаканы там какие то пластиковые, разолью.
– Сейчас, слетаю, не вопрос! – тотчас откликается на просьбу Знаменский, легкий, упругий, как пружина. – Анна Алексеевна, пойдемте со мной, а то мне дадут что нибудь не то, фигню на палочке? – Обращается Антон к Ане, будто на лету подхватывая ее под локоть, и не обращая внимания на насупленные брови Мишки.
– Чего это он разлетался тут?! Я бы сам принес! – разводит руками Ворохов и садится, закинув ногу на ногу, в трагической позе удивленного миром Чацкого, не забывая стряхнуть какую – то невидимую пушинку с палантина моего тихого фея, стоящего рядом с его креслом.
– Устали, Светлана Александровна? – Шепотом спрашивает Таня Литягина. – Не уходите только. До конца побудьте, а? С Вами так интересно. Папуля мой уснул в своей ложе в середине арии прямо. Что ты делать будешь тут? Мама его в бок пару раз ткнула, потом – плюнула. Он считает, что африканские танцы интереснее гораздо этого европейского занудства… Или песни берберов…
Окружившие нас ребята сдержанно фыркают, улыбаются, а Литягина вдруг резко и решительно стряхивает с плеча брошь и прячет ее в сумочку. -Надоело. Что я, как цаца какая, тут? Неудобно. Васютин Борька тот даже пиджак напрокат брал у кого – то, чтобы прийти сюда! – заговорщически шепчет она мне и фею, защелкивая белый лакированный клатч. Бесшумно это сделать не получается, и беспокойно оглянувшись по сторонам, Литягина бежит к проходу, чтобы взять из рук Знаменского и Ани принесенный дессерт.
– Сколько ее отец прослужил в Каире? – Обращаясь к кому то из ребят, кажется, Паше Светлову, тихо спрашиваю я.
– Лет пять. Когда у Тани бабушка здесь умерла, то приехали только Таня и ее старший брат на похороны. – Что то там в Египте такое было.. Родители не смогли выбраться. Он же был пресс – атташе. Его не отпустили
– Хлебные бунты, а потом убили президента. Кажется, так. Британия встала на дыбы, готовились вводить войска. Беспорядок был. Чрезвычайное положение, комендантский час. Толпы людей кричали на улицах. Ее отец был ранен ночным патрульным у посольства. В руку. Вроде легко, но кость неправильно срослась.. Что то там ломали.. Два раза еще. Я с ним вместе потом лежал в госпитале Чудесный человек. Ему давали седативы сильнейшие, потому что, по ночам, он сильно кричал от боли. Седативы ведь могут иметь последствия.
– Какие? – таращит на меня любопытные глазищи цвета спелого крыжовника Павел Светлов.
– Ну, засыпает человек внезапно, например, в автобусе, метро, трамвае, где угодно. Расслабившись… под музыку, под любой шум.. – Я с грустной улыбкой смотрю на ребят. Намеренно не досказываю им конца истории. Во время беспорядков в Египте и погромов возле русской дипмиссии, Танечка Литягина, получив сильную психологическую травму – шок, начала сильно заикаться, а поскольку была она в то время уже довольно взрослым ребенком, то лечение ее шло непросто, и, закончив десятый класс, она, вместо факультета иностранных языков на ФМО, должна была выбрать более тихое «болото», где не требовалась четкая дикция и уверенный голос. На двух первых курсах факультета классической филологии Таня проучилась четыре года вместо двух: не могла сдать положенных экзаменов. Профессор Павел Иванович Рабинцер, устав маяться с эффектной, но бездарной, на его взгляд, девицей, не могущей связать по латыни и полфразы, едва не отчислил ее из университета, своей единоличной и горячей рукой декана. Вмешался вездесущий фей, на заседании кафедры кричавший на декана так, что у того с переносицы от удивления сползли очки. Сползли и разбились. Литягина была оставлена на курсе, справка от логопеда, и мое терпение позволили ей тихонечко переползти с курса на курс, сдать устные экзамены на четыре, а письменные – на «отлично».. Частный педагог по речи, найденный феем, с помощью Ани Вороховой, и стоивший немало родителям Танечки, был уже, разумеется, не в счет..
Заикание исчезло бесследно. Танюша расцвела и похорошела, стала бедою и красой нашего занудного факультета, кружила головы всем в группе, но обращала внимание только – на меня, и фасон платья и номер духов фея, все светские привычки которого незаметно изучила с такою тщательностью, будто бы мой крошечный и мягкоголосый фей был, по меньшей мере, звездой эстрады или какой нибудь модной львицей.
***
…Преданность Литягиной семье профессора Яворского стала притчей нашего университета, но не вышла за его рамки. Вероятно, потому что вызывала недоумение неопределенностью, Недосказанностью. Нечеткостью концовки. Никто не знал секрета. Секрет не выдавался. Чуть – чуть отстраненно, легко, высмеивались мною попытки подражания, обрывались нити кокетства, едва протянутые. Но я всегда знал, что, и смеясь, могу положиться на Литягину. В самый трудный момент она поддержит и улыбнется. Или погладит ладошку фея, если тот начнет волноваться.. Фей ведь волнуется по любому поводу.. Мало ли на свете пустяков для его волнений? Всегда найдутся.
Глава восьмая. Признания Ланселота…
За Лешкой Аня едет одна, быстро и решительно рванув юркую «шкоду» с места. Город тонет в огнях фонарей – на центральной площади – и в мареве темноты, если чуть свернуть вправо или – влево.
Едет одна, мягко чмокнув меня в левую щеку, взъерошив волосы Мишке, на плече у которого безмятежно спит Фей. Решили, что Ворохов должен непременно проводить нас до двери. Вдруг – не работает лифт. Восьмой этаж – не шутка для моего больного колена.
…Она заснула, едва сев в машину, которую веду я, поскольку моя реакция лучше в сумерках и темноте.. Я не могу оглянуться, но знаю, что Ворохов караулит ее слабое дыхание и движение ресниц точно так же, как и я, боясь шевельнуться.. Слышен какой то шорох. Это он натягивает на фея меховую накидку, укутывая ноги. Накидка, молчаливым зверем – комком дремала на днище несколько дней, теперь – пригодилась.
– Спит? – Я смотрю в зеркало. Просто шевелю губами. Мишка кивает. Я знаю, он умеет читать с губ. – Пульс?
– Редкий. Устала? – Мишка смотрит на меня, прищурив левый глаз. Точно знаю, левый.
– Температуры нет? – Сейчас Мишкины губы коснутся ее лба… Черт! Я сам учил его так определять температуру. Как у ребенка. Фей и есть – почти ребенок… Я пытаюсь утишить собственный пульс, которому – больно…
– Не пойму. Маленькая? Как малиновый жук? У нее испарина на лбу… – Мишкина рука касается моего плеча. – Давай, пересядь. Я поведу.
– Не надо. Мы уже подъезжаем. Еще не двенадцать? А то сейчас лифт отрубят..
– Половина- Мишка смотрит на светящийся циферблат часов… Хмурит брови, по голосу слышу. – Какой идиот придумал лифт выключать! Не страна, а дурдом… И тут сердце мое останавливается одновременно с Мишкиным, потому что на весь салон раздается стон фея. Он плачет во сне, не открывая глаз, по щекам ползут слезы, крупные, прозрачные
– Не надо, мне так же – больно.. Отпустите, пожалуйста.. Не трогайте, больно.. Отпустите, не надо меня тянуть… … Сейчас. Грэг, не надо, скажи, не надо ножницы.. Скажи, не надо… Ох, как мне больно…
…Я рывком останавливаю машину, сворачивая на обочину, и не помню совершенно, как оказываюсь на сиденье, рядом с нею, глажу ее волосы, щеки, целуя, прижимая к себе ее невесомое тело, не замечая, как колется синий гипюр, как сминается белый мех ее палантина.. соболий… шиншилловый, какой то там еще привез Ворохов из Варшавы?!… Или Милана? Не помню!
– Тихо, тихо, ласточка, голубка моя, я здесь… Успокойся, ну, что такое… Открой глаза, это же просто – сон.. Ну, что ты?!… Сокровище мое, что ты… – Я перехожу на французский, он не звучит музыкально в этот раз… Наоборот, хрипло, как оборванная струна. Я шепчу, рычу, хриплю, околдовываю, останавливаю ее сон, ее кошмар, ее прошлое, ее боль, как было уже тысячу, сто тысяч раз. Кровь кипит в моих ушах, жилах, венах, клокочет где то в середине горла, горячим варом. И…
…И мне плевать, что Ворохов сидит рядом, и смотрит на меня совершенно круглыми, желтоватыми глазами, с ошалевшим черным зрачком, Мне плевать, что он слышит мой хриплый клекот раненного ястреба или коршуна… Раненного страстью неизбывной или – вечным, неуемным страхом потери….
…Бретонские мотивы шальных признаний, пронзающих ночь, уместных только – между двумя, может быть, и непонятны Мишке до самого конца, но его чуткая душа художника, оказывается, даже против воли, заворожена ими настолько, что он, сжимая мое плечо и поддерживая спину фея, не замечает, что рвет мой смокинг по шву, вверху…
Она раскрывает ресницы внезапно, очнувшись, вздыхает горлом, всхлипывает, обнимая меня, вжимаясь в мою грудь, куда то – под ключицу, на ребро, где стучит сердце. Мое? Или ее? Сейчас – непонятно…
– Господи, Горушка, мой хороший, что это? Мне же кошмар приснился, – она хрипло выдыхает, еще не проглотив всех слез, – Как будто меня заковали куда то, в цепи, потом – в колоды, знаешь, такие большие, так больно ноги, как будто жилы рвутся.. Она рывком поворачивается, поднимается, приникая губами к моему рту, щекам, векам… – Напугала, да? Прости? Любимый, прости меня… Мишенька, и ты тоже – прости… И что такое это?! Мы же не «Дон Карлоса» смотрели, чтобы приснились эти «сапоги испанские».. О, Боже!… Она вдруг сдавленно охает от боли, в попытке сесть удобнее…
И – кричит, откидывая голову назад, на спинку сиденья, бледнея, моментально, до синевы:
– Миша, сними туфли.. Ради Бога! Туфли… Судорога.. Скорее, туфли сними… Ох, как больно… – Мишка, сжав зубы, осторожно сминает в руках крохотную серую замшу туфелек фея, бросая их на днище машины. Я вижу как его пальцы разминают с усилием ее скрюченные стопы, щиколотку, лодыжки…
Опять прозевали… Пропустили припадок судорожный.. Конечно, она же шла по лестнице… Вверх, вниз… В театре же нет лифта. Провинция. Черт, – я хлопаю себя по лбу, вспомнив про лифт дома. Это конец. На восьмой этаж придется идти пешком. Нести ее. Хорошо, что мы вдвоем с Мишкой.
– Голубка… Любимая моя.. Девочка.. Жизнь моя! Потерпи немножко! – я осторожно растираю ее холодные руки, спину, сквозь тонкий гипюр, слыша кожей, своим хребтом, ее напряжение и отчаяние боли…
Она качает головой из стороны в сторону, резко выдыхая, пытаясь сделать вздох еще глубже.. – Да…. Больно и не проходит.… Миша, ты сильнее три, не бойся..
– Надо бы спиртом. Тут водка где то была. В бардачке… – бормочет яростно Мишка, продолжая сжимать в ладони ее крохотные стопы, пятку. – Я же медведь ярославский, я тебе пальчики сломаю… Прости, а?
– Нет. Горушка еще больнее трет… – Она, кажется, улыбается сквозь закушенную губу, сквозь слезы. – Дергает так, где сухожилие. Да, вот здесь.. Горушка, покажи ему?
…Я осторожно кладу руку на правую лодыжку фея и чуть тяну вниз стопу, не дыша, и поворачивая ее. Она вся в моей ладони. Замерев на миг, от страха, резко дергаю крохотную ножку в тугом капроне – вниз, прижимая ладонью сразу все ее пальцы. – Фей стонет от боли, но пальчики тотчас распрямляются. Судорога утихает..
– Вот так и надо, Миша. Не бойся… Подержи еще… У тебя руки теплые. Я, наверное, просто замерзла… А куда мы едем? Горушка, куда? Разве не на дачу? – волнуется фей, смотря на меня огромными глазами.
– Голубка, тише, тише, не волнуйся, мы домой едем.. – Я осторожно целую ее в висок, щеку, прижимаю к себе. _ На даче холодно. Сейчас приедем, примешь ванну, ножки согреешь, и – спать.
Фей, кусая губы, смотрит, куда то вбок, на Мишкины «щвейцарки», потом берет у меня из кармана куртки сотовый… Что то набирает, кучу каких то цифр, по памяти, почти в темноте, и мягким, глубоким голосом произносит в квадрат мобильного, с расстановкой пауз и дыхания, вцепившись свободной рукой в мой локоть:
– Алло, Паша? Паша, это я.. Мы едем, уже близко… Не выключайте лифт, скажи деду.. Да? Как хорошо.. А мы в театре были… Потом, тут, в пробке стояли, чуть чуть… Тебе книжка то понравилась? Ах, дед читает? Ну и хорошо…. Я рада..
Обалдев до яростного звона в ушах, мы с Мишкой смотрим друг на друга,.. Потом фыркаем и одновременный приступ хохота сотрясает нас, освобождая, и даря волну тепла, пробегающего по спине, плечам, кисти, центральной точке сердца… Фей вернулся… Фей звонит по телефону… Какому то поклоннику. У фея всюду – поклонники. Потрясающий, независимый, волшебный, маленький фей… Мой фей…
– Горушка, что ты себе думаешь? Это же внук нашего лифтера.. Я ему свою книжку дала почитать. Про море, помнишь?
– Как же, Madame… Везде эти Ваши – тенора! – Я резко щелкаю пальцами и поднимаю глаза и руки к верху в артистичном, нервном жесте, будто бы отпуская наверх вездесущего ангела ревности. – Куда же нам без них!
Я усиленно изображаю пылкую «сердитость,» отвернувшись от нее, и пытаясь закрыть окно в машине. Стекло поднято до упора, красная кнопка с недоумением, нервно, мигает, расплавляясь в коже подлокотника Разгадав мою игру, фей осторожно касается пальцем камня моего подбородка и повторяет его линию, выдыхая нежные слова мне в ухо, но это отлично слышит и Ворохов…
– Любимый, да чихать мне на всех: теноров, на дирижеров, на солистов… На всех, кроме тебя. Мне только ты нужен… Как же точно ты недавно сказал: «Мне нужна лишь твоя тяжесть тела, лишь твоя нежная глубина до сердцевины звезды,, лишь твой выдох в небо, когда голова твоя лежит на моем плече, а затылок пульсирует в моей ладони.. Только твоя… Другие – не моя весовая категория.. Понимаешь, не моя… Еще раздавлю! Или – раздавят!» – Она нежнейшим, страстным, ползущим поцелуем повторяет контур моей щеки, губ, выгибает спину, как кошка, и кладет голову на мое плечо.. – Обними меня!.. Крепче.. Вот. Мне на колготки нужно было носки надеть. Просто – носки. Но кто же идет в театр в носках?! Хотя, если Виолетта с тазиком по сцене носится, то..
– Обалдеть! – Хрипло шепчу я, и потерянно подмигиваю Мишке – Я думал, она не слышит, спит..
– Да, брат, круто ты попал! – Щурится мне в ответ левый глаз Ворохова. – Такие признания – рискованны.
– Только не в присутствии Дамы в черном… – Я нервно скашиваю рот влево, давлю зевоту..
– Ты был похож на зверя.. На раненного зверя… Не холеный профессор, а средневековый Ланселот, в грубом рядне, только что зарубивший мечом парочку пьяниц, скосивших глаза не в ту сторону, на пятку королевы Джиневры или на след на песке от ее покрывала.. Я думал, ты и меня зарубишь! Мимоходом.. Ну, ничего. Ради нее, я думаю, можно! – Мишка опять подмигивает мне, и перескакивает, как пантера, на водительское сиденье. Машина, рвет с места, сверкая фарами и урча, как очнувшийся от дремоты зверь, довольный и сытый.
– Ты, главное, Ане не забывай такие же слова говорить в нужную минуту. Остальное – неважно. Разберемся. Я никогда не рублю с плеча.– Говорю я Мишке вполголоса, одной рукой касаясь его правого плеча, а другой -прижимая к себе драгоценную ношу.. Кажется, она опять задремала…
Глава девятая. Тарантелла фея…
Едва войдя в квартиру, и повиснув на моем локте, фей, снимает туфлю с правой ножки и бросает ее, без прицела дальности, вглубь прихожей, с воинственным криком амазонки: «Ура, мы до-оо – ма!»
– Тише, тише, любовь моя! – Я со смехом прижимаю ее к себе… – Ты же всех соседей так перебудишь!
– Madame, с Вами всегда – полный абзац! – Немедленно фыркает и грохочет смехом за моим плечом Ворохов. – Может, мы еще и тарантеллу спляшем?
– Давайте! – Моментально соглашается фей, и в прихожей начинается что то невообразимое: летит в темноту квартиры второй туфелек, замша которого безнадежно смята, на головке фея оказывается моя запыленная старая шляпа из фетра, с верхней полки гардероба, а в руках – пояс от кожаного плаща, который она превращает не то в обруч, не то в лассо, не то – в змею, опутывая им ошарашенного в конец Ворохова.
…Она танцует босиком, будто кружится маленькая искорка от костра, гибкая, теплая. Или – змейка – саламандра, согревшаяся на углях саксаульного костра в недрах огромного песочного безмолвия…
Мишка вторит ее танцу, живому и солнечному, несмотря на ночь. Да. Вот именно. В ее танце нет лунного холода. Только солнечный, медленно плавящий жар. Она кладет руку на его левое плечо, потом правое, она кружится вокруг него вихрем, а ее щиколотка и ступня, ее пятка, просто есть продолжение линии пола, одно целое с ним… Жаль, что в крохотных ладонях у нее нет бубна.
..Мишкина сильная грация зрелого гепарда только оттеняет ее пронзительную тонкость прозрачной, серебристой, горячей, нежной, плавящейся вокруг него огненной ленты, мига, солнечного луча, жизни…
Я вхожу в этот танец третьим. Незаметно для себя. Вскидывая кверху ладони, отсчитываю ритм этой бешеной тарантеллы, на которую у нее не должно хватить дыхания… Не должно. Но – хватает. Моя рука на ее левом плече. Потом на правом… Я вижу, как по ее виску сползает маленькая соленая капля, но глаза, так глубоко вобравшие в себя теплый кипящий янтарь ночных фонарей, смотрят на меня, улыбаясь, а ямочки в углу рта, оттеняют мягкость щек и подбородка. У нее очень мягкая линяя подбородка. Моя рука поддерживает ее спину. Сквозь бархат и гипюр я чувствую контур ее лопаток. Где то в их срединной ямке испуганной птичкой бьется пульс. Мои губы приникают к ее шее, мочке уха, обдают жаром родинку на виске:
– Любимая, потрясающе! Мы с тобой так давно не танцевали уже лет пять, да? Еще чуть – чуть, и все это кончится яростной эротической сценой на полу… Клянусь… Я не могу… Ты меня сводишь с ума… Совсем…
– Хорошо, любовь моя!… Я согласна. – Она чуть пожимает плечом. – У меня пятки ломит.. Страшно немножко. Держи меня. Помнишь, доктор говорил как – то, что можно побороть это – танцем? Помнишь, да? – Ее зрачок чуть расширен от затаенной боли.
По прежнему, танцуя, она легко подводит меня к краю широкого голубого пуфа в прихожей, у зеркала, и мы садимся на него одновременно. Она оказывается на моих коленях с совершенно прямой спиной. Обнимает меня за шею. Целует в висок. Он влажен от пота.
Мишка садится у косяка гостиной, тоже прочертив по нему гибкую линию позвоночником..
– Ух, ты! Здорово. По – моему, я десяток лет разом сбросил.. Классно, ребята. – Кисти Мишкиных рук, подвижные и нервные, повисают совершенно свободно вдоль тела. – Аньку бы еще сюда… С Вами – вообще классно. Всегда. Спасибо.
– Пить хочешь? – соскользнув молнией с моих колен, фей касается всей ладонью головы Мишки. Он трепетно ловит губами ее запястье Выпускает тут же… – Сейчас я принесу. Где то был томатный сок и холодный лимонный чай. Кто что хочет?
Я выбираю горечь чая, Мишка – томатный сок. Фей, вручив нам стаканы, и сидя на пуфе, смотрит на то, как я стягиваю с себя смокинг, отстегиваю квадратики запонок, осторожно роняя их на подзеркальник трюмо. Потом берет меня за руку, целует пальцы, перебирая горячим дыханием. Шевелятся и пальчики на ее крохотных ножках.
– Устала? Где то тут тапочки твои. – Я наклоняюсь, отворяя дверцы гардероба, и почти тотчас отыскивая в нем пушистое великолепие бардового цвета, невесомое крохотное «лебяжество», отороченное тонкой шелковой нитью. Привезено из Парижа. Это было то время, когда мне приходилось носить ее на руках чаще, чем сейчас. Тапочки почти не износились. Она редко надевает их. Мы даже забыли взять их на дачу.
– Сейчас… Дай ножку. Что ты?! – Она смотрит на меня и морщится. Смешно. По детски. – Что такое? Больно? – Я ощупываю ее стопу и лодыжку. – Все в порядке, ласточка моя, что ты? Где болит? – Встревожено и внимательно смотрю на нее. Опять судорога?! Только этого нам не хватало. Сердце ухает камнем вниз…
– Нет. Не больно. Мешает мне вот там! – сердито произносит она, и голос ее становится резким и хриплым. – Колется что – то такое. Внутри. В тапочке. Я не нарочно. – Она закусывает губу, на ресницах ее тотчас повисают капли – слезинки.
– Э – гей, не плачь, королева, ты что?! – Гудит рядом шмелиный баритон Ворохова. – Какая чепуха, зачем плакать? Ну – ка, дайте мне сюда это чудо. – Мишка осторожно берет в руки тапочек, дует на легкий помпон вишневого цвета и ощупывает пальцами подошву, стельки. А – а! Да тут просто отклеилось по шву, в носке.. Поэтому – давит на пальчик. Ну, ты совсем королева.. Как в сказке..– Мишка с неподдельным любопытством и восхищением смотрит на фея. – И где же это вот таких, как ты, производят?
– Нигде. Они – штучные. – Прищуриваюсь я и подмигиваю фею. – Моя голубка – эксклюзив.
– Знаем, знаем! – Мишка надевает поверх смокинга плащ и становится похожим на чужака – инопланетянина… – Поеду я, ребята, поздно уже! Что тебе привезти, королева, говори? Тапочек – само собою. Я его заклею.. У меня есть такой клей, для холста и рам. Все будет о, кей. А еще что? Ну? – Он присаживается на корточки, возле фея, поглаживая ее пальчики. – Что привезти тебе? Печенья, шоколаду, что? Не болей только. Христа ради! Если бы Анька в машине была, она бы с ума сошла сразу! Она тебя любит, как сестренку, надышаться не может на тебя… Не болей только.. Пиши свои стихи. Книжки пиши свои… Ради Бога!
– Миша, у меня такая смешная жизнь.– Фей, склонив головку к плечу, улыбаясь, грустно смотрит на Ворохова своими озерами глаз..
– Почему? – удивляется Мишка, по прежнему, держа в своей сильной руке ее ладошку. – Как это? Что значит это – смешная? Чего это ты?
– Ну как же? Я даже себе тапочки купить не могу. Нет таких ра -ааз – меров! – Фей опять морщится и вдруг чихает. Смешно, трогательно, как котенок.
– Я тебе сказал же: заклею эти. Будут, как новые! Ну- ка, давай, в ванную, бегом, и спать! – Мишка осторожно приподнимает фея с пуфа. – Грэг, ну – ка, бери ее. Тащи в ванную. Купай, грей… Завтра, на даче, на чердак полезу, буду смотреть, что там с отоплением. У тебя когда лекции?
– Завтра нет. Свободный день. Вместе поедем. Ближе к обеду. Надо отоспаться.
– Я с вами! – Зевая, бормочет фей и вдруг обращается к Мишке – Ты мне можешь куклу купить? Такая, знаешь, фарфоровая, в красной бархатной шляпе.. В кринолине.. Это в магазинчике, там, на площади, слева от театра.. Я видела, когда мы мимо проезжали. У нее в руках еще веер…. Мне для книги нужно…
– Не вопрос, Madame. Ваша воля. Завтра привезу. Спокойной ночи!
Фей, обняв Мишку за плечи, и чмокнув его в наклоненную макушку, исчезает в боком повороте прихожей. Уже у двери я протягиваю ему деньги
– Зачем? – Мишкины брови ползут вверх – Что ты выдумываешь, убери! Между мушкетерами не принято, брат…
– Кукла же дорогая. Антиквариат. Ручная работа. Ты так избалуешь ее. Зачем?
– Королев нельзя избаловать. Их можно только боготворить. На это есть право у каждого подданного. – улыбается довольно Ворохов и, прищурившись, подмигивает мне. – До завтра.. Поеду я… Звонить не буду. Поздно. Давай. Пока. Боже, храни Королеву! – насвистывает Ворохов и исчезает в полусумраке лестницы, подмигивая мне обеими глазами и поднимая руки вверх.
Глава десятая. Сто мер золота фея…
….Когда я вхожу в спальню, то вижу фея, безмятежно свернувшегося клубочком поперек кровати, в махровом халате апельсинового цвета. Фей спит, и спит так сладко, что будить его это – преступление… Я и не бужу. Просто беру на руки.. Пушинка.. Халат весит больше, чем она… Кажется, под халатом нет ничего. Абсолютно. Зажмуриваюсь на миг. Глубоко вдыхаю. Весь ее аромат. Сразу.
– Ты меня не уронишь? – Она сонно вздыхает, уткнувшись носом в мое плечо. – Я не нашла… – она зевает – Не урони… пожалуйста… Спать хочется..
– Спи… Конечно, спи… Только, давай, снимем вот это.. И ронять тут нечего.. Одни перышки, да крылышки.. Ангелочек… – улыбаюсь я. И осторожно развязываю пояс халата… – Вот так. Ручку подними, Умница… Теперь – другую… Что ты смеешься? Что такое?
– Как будто я опять – маленькая… – Она смотрит на меня, подняв головку вверх.
– Как хорошо быть маленькой.. – И тут вдруг она морщится и начинает растирать тонкой рукой, резко наклонившись вниз, пятку левой ножки.
– Нет… Не получается, милый.. Не получается… быть маленькой.. – всхлипывает она – Видишь, вот… Больно опять… Там, что, снег? – Кивает головой на проем окна.
– Нет. Дождь. – Я приглушаю свет ночника еще на одно деление, поправляю подушки. – Ложись.. Я разотру ножки… Согреешься, и все пройдет. Давай. Вот так, ложись. Вот и рубашка твоя…. Нашлась. Под подушкой… Сколько же она тут лежит? Два месяца? – Я осторожно окутываю фея прозрачным облаком вышитого батиста и шелка, и тут же слышу ее приглушенный стон.
– Милая, сейчас… Я недотепа… Прости. Что ты? Что такое? Больно? Где?
Она смотрит на меня сквозь ресницы и дотрагивается пальцами до кончика левой груди.
– Тут вот больно… Может быть, это от корсета? Зачем я его надела?!
– Ласточка, дай, я посмотрю… Боже мой.. Тут царапина.. Откуда? Ты что, упала? Нет, господи, что это такое? Такая нежная кожа… Моя девочка… Тише.. я только подую… Так красиво… Розовый рубин… Мой рубин…
– Перестань, мне – щекотно… Что ты делаешь? – Ее губы открываются навстречу моим… – Ты опять хулиганишь.. Нет тут царапины.. никакой.. Просто больно… отпусти.. Баловень такой.. Негодный мальчишка… Грэг..перестань, прошу тебя! Лучше скажи, почему больно? Рубашка мягкая, а мне… Кричать хочется… Правда.
– Мне кажется, я знаю секрет… – Мои губы касаются ее уха.– Рука скользит по колену. – Он у каждой женщины – свой… И его не всем доверяют.. У таких, как ты, он – особенный..
– Это почему еще? – Фей приподнимается на локте, удивленно. – Ты опять что то выдумал… Это просто потому, что ты меня любишь, да?
– Ну, и поэтому тоже, сокровище мое… – Тотчас же соглашаюсь я… – А вообще, ты просто – Женщина на сто мер золота. Я давно это знаю. Еще со времени нашей первой ночи… Там, на парижском чердаке…
В эту же минуту фей выдергивает из – под своей головы подушку, и яростно швыряет ее в меня, шипя:
– Чертов хулиган! Замолчи сейчас же! Знает он… выдумщик!…Что ты знаешь?! Что я была дура – барышня? – Отпусти.. Отпусти меня сейчас же вот… Негодный мальчишка!
– Ты была и есть – прелесть… Моя прелесть! Только моя! – я хрипло смеюсь… – Осторожно, ласточка, головку ударишь.. Ну, успокойся, что ты… – Сумасшедшая… Как я люблю, когда ты такая… Всякую люблю, но -такую… Мммм! Обожаю… Подними ножку выше.. Положи вот сюда.. Так удобно?… Не больно? – Мои пальцы касаются ее лодыжки, потом – того места, где скрывается подрезанное сухожилие… Расслабься, сокровище мое.. Ну, не бойся, что ты! Смешно же это, ты что, меня до сих пор боишься?
Она качает головой, прикрыв ресницами бездонные глаза, кусая губы.
– Нет. Я никогда не боялась тебя. Даже в первый раз.
– А что? Ну что же – тогда?
– Я такая неуклюжая.. Как деревянная.. Мне тяжело то повернуться, то -встать.. А ты со мной.. Как будто я… пух какой то…
– Ну да, ты и есть – пух.. – Я киваю и осторожно вбираю в себя губами мягкую кожу правого полушария вместе с нежностью кораллового кончика.– Такой легкий, легкий.. Раз – сразу в облака… Ищи тебя потом.. Как бедуин в пустыне воду.. О, боже… Такая ты у меня.. Тише, тише.. Ну, вот, я же говорю.. Сто мер золота..
– Да про что ты, я не пойму! – смеется она.– Придумаешь что то.. Непонятно, что такое…
– Все понятно. Такие женщины, еще со времен сарацинских походов, ценились в гаремах султанов и падишахов на сто мер или сто талантов золота. Их искали днем с фонарями. Ради них убивали, грабили, отрезали языки, рубили руки…
– Ужас какой – то… Кошмар! Что ты говоришь! – она обводит тонким, нежным пальчиком контур моих губ – А почему? Что они сделали такого?
– Ничего. Ничего, моя ласточка… Просто с ними каждая ночь султана была, как первая..…
– Грэг… О, господи, что ты говоришь… Как это? Ох, и я то – хороша, – Бог знает, что у тебя спрашиваю! С ума сойти! – Она поводит плечом, как будто ей холодно, и приникает губами к моему шраму под ключицей.. – Я, кажется, понимаю… Это.. строение тела, да?…
– Да, милая… Очень хрупкое. И закрывается, и открывается там все – медленно, как бутон граната, как розовые лепестки, как бархат фиалки… Такие женщины в гаремах содержались на особом положении, с них просто сдували пыль…..
– Как ты – с меня! – молниеносно и решительно заключает она. – И на кой черт они сдались султанам, такие недотроги?! – она пожимает плечами….
Мой фей неподражаем! От неуклюжей попытки сдержать смех, я начинаю нервно кашлять. Она осторожно гладит меня по спине.., Трогает мой лоб в поисках испарины.
– Прелесть моя, вот и нужны они, потому что – недотроги. С такими – испытываешь особое наслаждение.. Непередаваемое просто. Каждый раз… – Я щелкаю пальцами и поднимаю глаза к верху.
Она с интересом смотрит на меня, фыркает, пожимает плечами:
– Да? Надо же! Ну, не знаю… Придется тебе на слово верить…
– Да уж. Поверь, пожалуйста! – Мои плечи вздрагивают от смеха. Я наклоняюсь к фею, осторожно касаюсь пальцами кончиков груди. – Ну, вот, я продолжу, да?… У таких, как ты, голубка, все – хрупкое.. Кожа, лоно, грудь, пальчики, все лепестки твои, даже дыхание и то – хрупкое.. Все завязано на лунных днях, понимаешь? Приходит срок, и тело просто начинает тебе напоминать, что ты – маленькое сокровище, на сто мер золота, на десять караванов верблюдов, на сотни карат алмазной пыли.. Вся ты становишься, как натянутая тетива тугого лука. И этому луку нужно только помнить, как важно уметь быть нежным и терпеливым… Кажется, я пока справляюсь, как ты считаешь?
– Любовь моя, более чем.. – Она осторожно гладит меня по щеке ладонью.. Мне вот и без всяких чудес там.. построения… с тобой всегда хорошо.. Как тогда, в Париже.. под голубиное ворчание… Или – мне казалось? Шел дождь?
– И дождь. И голуби… И кофе был горячий…
– А Мишкина картина криво висела на стене… Так, слегка.. Гвоздь покосился.
– Да. Помнишь, какое у него было лицо, когда он поднялся наверх, и увидел нас?…
– Гибельно – восторженное.
– Почему – гибельно? – Фей удивленно поднимает брови вверх.
– Ну, он же увидел, как у меня на плече дремлет настоящий ангел. И тут же влюбился. До погибели. И смертного часа.
– Да ну тебя! – Фей фыркает и, отворачиваясь, начинает кашлять – Что ты придумываешь?? Зачем так? Не надо… Ревнуешь, что ли?
– Почему – ревную? Я тебе объясняю. Иначе и быть не могло. В ангелов все влюбляются до погибели. Это ни от кого ни зависит. И нет ничьей вины. Он боготворит тебя. Это немножко другая ступень… На нее есть право у всех. Не все поднимаются. Не всем дано. Он художник, он – смог… Ласточка, что же ты кашляешь – то, а?.. Что такое? Замерзла? Дай – ка, укутаю. Вот так.. Моя девочка…
– Нет.. Это так… Лунный луч застрял в горле… – улыбается фей. – Знаешь, Мишка мне рассказывал однажды, как он сидел в саду, под антоновкой, у бабушки, в Ярославле, и пытался нарисовать ангела. Все получалось. Даже лицо, такое удлиненное, профиль строгий.. А вот глаза… И – крылья.. Никак не удавались… И тогда он крепко зажмурился, лег на траву и представил твое лицо.
Лицо мальчишки в двенадцать лет, когда вы играли в футбол, во дворе.. Тебе уже тогда было больно, но ты бежал к воротам, преодолевая боль, забывая о колене, тебе так хотелось забить мяч.. И вот, представив это лицо, и твои, раскинутые, как крылья руки, он тотчас же набросал все, что ему нужно было.. Просто, в тот момент он увидел, как Дух преодолевает Тело… Быть может, он считает ангелом – тебя, а не меня вовсе.
– Ну, да. Серафимом этаким. В профессорском чине. – Я снова улыбаюсь. И целую фея в макушку..– Все. Закрывай глазки, ласточка.. Давно спать пора. Я вот тебе сейчас колыбельную спою… Хочешь?.. Старая такая, под нее быстро засыпаешь… Это я нашел в старых пергаментах, там одни кляксы и буквы стерлись, но я постарался разобрать.. Закрывай глазки и слушай.. Как же там начинается?, А, вот…
- Моей любимой ножки
- Бежали по дорожке,
- А крохотные пальцы
- Намокли от росы
- Серебряною крошкой
- Осыпал месяц небо,
- Он пил коктейль туманный
- У самой полосы,
- Где рожь впадает в солнце…
- Моей любимой губы,
- Щеки моей коснутся
- Прохладою овея,
- Лаская и дразня…
- …Моей любимой ножки…
- И травы – не помнутся…
- Под нежной дрожью пальцев,
- Росинками звеня…
Когда я допеваю последний катрен, фей уже спит… Но теперь я не уверен что он меня не слышит..Даже и во сне…
Глава одиннадцатая. Фьоретта, кукла для фея…
…. – Мальчики, кому – сколько? Говорите. Горушка, тебе шесть хватит?
– О – ля – ля, зачем – шесть?! – Мои брови поднимаются домиком, в то время как фей укладывает на тарелку солнечное кружево блинчиков.– Я же лопну! Еще сметана.. И не полезу тогда ни на какой чердак, гори он синим пламенем!
– Хм… А мне еще давай три… Вкуснотища такая! – Ворохов сочно макает блин в масло и отправляет в рот… – И еще потом штук пять, хорошо?
– Хорошо, – ласково смеется фей – А котлету будешь? С рисом или без гарнира?
– С гарниром это – добавка! – подмигивает фею Мишка. – Сначала давай – без гарнира. Сама почему не ешь?
– Я уже поела. Пока пеклись. Горячие.– Мягко и как то устало улыбается фей. – Пойду, переоденусь. Вы ешьте. А то там начнем возиться, вдруг не получится обедать.. – Она отодвигает стул и, проходя мимо Ворохова, осторожно целует его в макушку:
– Спасибо за куклу, Мишенька. Такая красавица, чудо…
– Madame, это Вы – лучше всех… И, потом, кукла это же – Ваш портрет… Копия просто. – Мишка ласково гладит запястье фея. Но едва она выходит из кухни, бросает мне озабоченно:
– У нее пульс – под девяносто… Как бы ее дома оставить? Давай, Аньке позвоню? Или – ребята с худграфа прибегут?
– Она не захочет. Она просила отвезти ее в сад…
– Тьфу, черт… Вся прозрачная, как стекло.. И до сада не довезем, рассыплется..
– Ми- ша —а.. Не надо, я вижу.. Вижу я… – Я отворачиваюсь, смотрю в окно, барабаню пальцами по дереву в тон ореха..
– Что можно еще?! Что сделать, скажи? Давай, в Германию ее, в этот Баден, или как его? У меня там друг, я договорюсь, поживете у него.
– Не надо. Пока. Сказали, не менять резко климат. И сердце подсело сильно у нее после препаратов…
– Сказали.. Сказали они.. Кандидаты в доктора, мать их! – Мишка обхватывает руками голову.
– Миш, не надо. Ты об Ане думай, у тебя Лешик… Мы – сами.
– Какого черта, Грэг?!… Ты соображай уже, что говоришь?! Вы мне чужие, что ли?… Ты мне – роднее брата.. Мы с тобой кувыркались в Лионе, в машине, летели два метра, выжили, чуть к Богу в рай не отправились, зря, выходит, по – твоему?! – Мишка яростно кривит губы, и смотрит на меня, прищурив левый глаз.
– Нет, но… Ты об Анечке должен больше думать..
– Чего это ради то? Что о ней думать? Она – моя жена, ни в чем нуждается, здорова, как лошадь, вчера мне весь салон прокурила, на фиг, пока Лешку забирала от соседей, на стоянке выветрить не могли. Дурью баба мается, хоть ты тресни… Нет заботы, так найдет… Я ей говорил, орал уже на нее, она все – свое… По пачке в день смолит, хоть бы что! Пусть сама о себе больше думает. А тут… тут.. – Мишка сжимает кулаки, качает головой.– Да ты понимаешь же лучше меня, во сто крат, что у Ланочки – время в кулачке, она на все, что вокруг нас есть, как в колодец смотрит. Слова у нее, как звезды, до сердца достают… Я ее книги уже наизусть знаю, строчки – не учу, они сами в меня влетают. Как псалмы. Таких, как она, ну одна на миллион, может, и то – нет.. А здоровья – ни фига.. Хоть бы на йоту.. Шальной этот Бог… Пьяница, не иначе! Куда он смотрит?
– Мимо, Мишенька, мимо! – Я усмехаюсь. – Я ему уже этот вопрос не один раз задавал… И в Нотр – Дам де Пари, и в Сен – Сюльпис, и Сен – Микеле, и в Санта – Мария дель Фьоре.. Везде – только гул под сводами.
– Мальчики, помогите, а? – Тихо входит на кухню фей в застегнутом пальто – накидке со светло- серой меховой оторочкой из норки и маленьких замшевых сапожках, с расстегнутой молнией по бокам.. – Не могу, замки заело… – она смеется – Ну, побудьте еще принцами пять минут, а потом – ругайтесь!
– Мы не ругались! С чего ты взяла? – В один голос тараторим в ответ мы с Мишкой, бросаясь к ней с обеих сторон и осторожно усаживая ее на диванчик, с краю стола…
Через две минуты крохотные сапожки застегнуты, накидка – пальто тщательно завязана у горла и фей опять непослушно бегает по квартире, проверяя, закрыт ли балкон и фрамуги на окнах.
– Мишенька, ты возьми, там, на диване, в гостиной, коробку и одеяло? Это я с собой приготовила..
– Да, Madame! Не волнуйтесь. Все, что желаете, и сверх того.. Перышки, крылышки, et cetera… cetera? – Мишка улыбаясь, подмигивает фею.– Тихонько бегайте. Два шажка. Грэг, ну скажи ты ей!
– Ми – ша – а! – Протяжно ахает она вдруг, всплеснув крохотными ручками с тонкой нитью жемчужного браслета. – Тапочки, не забыть же, тапочки мои..
– Я уложил их, ласточка, они в пакете уже. Не суетись. Сядь, сейчас мы все соберем! Христа ради, сядь! Отдохни немножко! – я пытаюсь снова усадить ее на диван, теперь уже – в гостиной.
– Что Вы, Madame, как же это можно – забыть тапочки! Зря, что ли я их, клеил, чистил, вытирал, блин, целых два часа?! – картинно заводит глаза под потолок Картуш, одной рукой поддерживая локоть фея, и сверток с одеялом.
Фей тотчас же хохочет, запрокинув головку:
– Миша, я тебе скоро надоем так! Ты что ли – мой сапожник? – Она смотрит на него серыми огромными глазами, по привычке – кусая губы. Глаза у нее, как аквамарин или сапфир, или изумруд, меняются, в зависимости от цвета одежды. Становятся то глубже, то темнее, то прозрачнее. То холодны, то горячи, как ключ или гейзер, бьющий из – под земли.
– Все, что угодно, Madame, как угодно, кто угодно: художник, шофер, сапожник, швец, жнец, на дуде игрец, только – подле Вас…
– А твоя кукла, ласточка? – Я яростно сворачиваю четырехугольником ворсистый плед и убираю его под диванную подушку.– Ты ее возьмешь с собой? – Киваю на хрупкое фарфоровое чудо, стоящее в углу объемного велюра, на диванных валиках. Белолицее, фарфоровое дитя, с чуть приподнятыми бровями, кокетливо – капризно изогнутыми, в настоящей бархатной шляпке, с крохотным страусиным пером белого цвета, с крохотным же – веером «бордо», украшенном инкрустацией из хризолита, в пышном кринолине, с рюшами по вороту, рукавам и подолу, совершенно не похожа на фея.
…Но все же она, чем то, неуловимо напоминает мне его.. Хрупкостью. Волшебностью… Нежностью. Удивленостью перед миром, которое тщательно выписано на тонком лице неведомым мне художником столетней давности. Кружева на вороте и манжетах у куклы слегка желты, лак на щечках потускнел…
– Горушка, я бы так хотела! Можно? – фей вопросительно смотрит на меня. – Мне нужно описать ее. В книге.