Однова живем… Кириллова Тамара
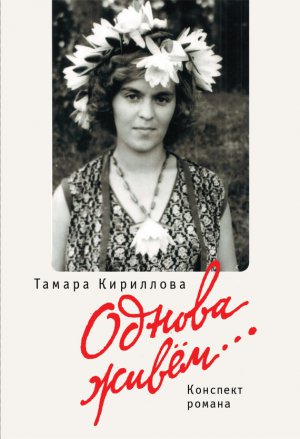
- Если ты имеешь много,
- То тебе еще дадут.
- Если ж мало, то и это
- Даже малое возьмут.
Тут же, молча, я разорвала в клочья свой альбом. Тася засмеялась:
– Того он и стоит.
Другое поветрие переживали взрослые. Токари с плавучки наладили производство рюмок: не то из снарядных гильз, не то из головок снарядов. Они обрезали их, приделывали к ним ножки и никелировали все это. Рюмки получились очень красивой формы. Но любители изящной словесности с плавучки украшали эти рюмки текстами сродни тем, что были в разорванном мною альбоме. Среди тех рюмок, которые заказал мой отец, самый лучший стих гласил: «Когда же этому конец, и с кем я стану под венец».
Из этих рюмок мы и начали пить – кто водку, а кто клюквенный морс – 8-го мая 1945 года. О подписании капитуляции Германии нам сказали американцы. А на другой день состоялся митинг перед плавучкой, у подножия штаба. Погода для праздника была самая неподходящая: шел мокрый снег. Несколько дней пили, пели, смеялись, плакали.
Летом и осенью стали возвращаться демобилизованные. Они привозили самые разные трофеи. Чем только не торговали в это время! Отец одной девочки из нашего класса привёз чемодан исписанных открыток. Их хорошо покупали. Прилизанная, чистенькая, в клумбочках Германия была на этих открытках.
Демобилизовался и дядя Костя, он ведь был матросом. Отец устроил ему отвальную. Дядя Костя оставил свой адрес. Я безутешно рыдала в день отъезда, провожая его на пристани. Дядя Коля тоже пускал слезу.
Дядя Коля вскоре бросил Нюру, сестру Мани Ратахиной. Она очень переживала, даже хотела повеситься. Она готова была рассказать о своём горе каждому, кто внимательно слушал её. Вот и мне она, несмотря на разницу в возрасте, всё подробно рассказала. Когда она говорила о том дне, в который дядя Коля уходил от неё, она вдруг сказала: «Почему-то шёл дождь».
Меня так поразила эта фраза и мне было так жаль Нюру, что, придя домой и посидев немного над чистым листом бумаги, я вдруг сложила стихотворение, первое в своей жизни:
- Наша встреча была чудом,
- Тем, которое вечно ждешь,
- И во всей огромной Вселенной
- Шёл счастливый весенний дождь.
Почему-то шёл дождь…
- Я боялась спугнуть своё счастье,
- Я ждала, когда ты заснешь,
- И мою колыбельную песню
- За окошком пел дождь.
- Пролетели весна и лето,
- Не нагонишь их, не вернешь,
- И в то лето, как музыка счастья
- Часто солнечный шёл дождь.
- А потом наступила осень.
- Ты не шёл, я к тебе пришла.
- Ты ещё не сказал ни слова,
- А моя душа умерла.
- Ты сказал, что меня не любишь
- И что больше ко мне не придешь,
- А со светлого-светлого неба
- Почему-то шёл дождь.
- А со светлого-светлого неба
- ПОЧЕМУ-ТО шёл дождь…
Я понимала, что написала не бог весть что. Но меня поразило, что это всё-таки стихотворение, и что оно получилось как бы само по себе, когда возникла в этом необходимость. А что дождь вышел такой разный, так это было просто хорошо. Утешившись этим, я решила отдать стихи на суд публики и на другой день, переписав их набело, понесла Нюре. Нюре стихи понравились, и она плакала над ними.
А через несколько дней отец пришел с работы и прямо с порога очень сердито спросил:
– Это ты стишки любовные пишешь?
– Какие стишки?
– Какие стишки!? Это я тебя спрашиваю! Нюрке стихи ты написала?
– Я…
– Не рано ли в двенадцать лет о любви думать?! Вся плавучка говорит: «Витькина дочка стихи про любовь пишет, а Бернес их под гитару поет».
– Как, по радио?
– Ну да, по радио… Наш Бернес, Стёпка Антипкин.
На плавучке был дядя Стёпа, который пел не хуже Бернеса, поэтому его никто и не называл Степаном, а «наш Бернес».
Отец продолжал бушевать, а я плакала не столько оттого, что он так оскорбительно вывернул все наизнанку, сколько оттого, что до сих пор он так деликатно относился к тому, что я рисовала и что копировала подряд всех артистов. Пришла с работы мама, попросила дать почитать злополучное стихотворение. К концу чтения у неё полились слезы. Она отправила меня погулять. Когда я через какое-то время вернулась, отец не глядел мне в глаза, при маме он никогда больше о стихотворении не говорил, но в её отсутствие нет-нет да поминал, что я пишу любовные стишки. Через многомного лет мама рассказала мне, что она ему тогда наговорила:
– Дурак ты, дурак, хоть и отрастил рыжие усы. Лаптем ты тамбовским был, лаптем и останешься! Ты единой строчки без ошибки не напишешь, а её учить вздумал! Другой бы отец радовался, что у ребенка то к тому, то к другому талант есть! Тебе, небось, в голову не пришло, что все стихи от любви рождаются! Почитай Некрасова, ты его и в руках не держал, поди. У него все стихи через любовь к народу, к человеку написаны. Если по-твоему рассуждать, так надо, в первую очередь, рисование запретить, у них там сплошь все голые. А ты, небось, радуешься, что она рисует. Как же тебе лестно, что все говорят, дочка Вавилова рисует. Лапотник ты поплёвский!..
Жизнь постепенно налаживалась после войны. В Мурманске открыли коммерческий магазин, где торговали хлебом, пирожными и пирожками. Открыли ювелирный и книжный магазины.
Отец как-то поспорил со мной на стоимость одного пирожного. Он сказал, что нельзя говорить: «Нам в школе объясняли новый материал». Разумеется, он проспорил, о чем ему и написала в записке Галина Леонтьевна. В ближайшее воскресенье мы, несколько подружек, отправились в Мурманск. Мы бегали от отдела к отделу, не зная, на что решиться: купить два пирожка или одно пирожное. Когда мы все-таки склонились к пирожному, обнаружилось, что кошелька у меня в кармане нет. Украли! Я огляделась вокруг и сразу поняла, кто вор. Это был здоровенный, краснорожий мужик. Я его еще раньше приметила у отдела с пирожными, он тёрся около нас. Он явно высматривал очередную жертву. Около его ног лежал мой кошелек. Красненькой тридцатки в нем не было. Я не плакала. Меня так поразило несоответствие – здоровенный мужик и маленькая девочка, что я просто закаменела. Тогда вообще было много воров, и часто рассказывали всякие жуткие истории о «чёрных кошках» и о том, как людей проигрывали в карты.
Чтобы утешить меня, мама дала мне денег из тех, что я заработала продажей рисунков. В следующее воскресенье я снова отправилась в Мурманск. На этот раз я была очень осторожной с деньгами. Я купила всем по пирожному. Своё я съела в Мурманске, а остальные привезла в специально взятой на такой случай коробочке. Мама и папа свои пирожные отдали нам, детям, мы еле уговорили их попробовать хотя бы немножко. Это были первые пирожные за пять лет, а Рая, мамина племянница, которая приехала из деревни и жила у нас, вообще съела первое пирожное в своей жизни. Мы все вспомнили то счастливое довоенное время, когда папа и мама приносили нам сухие пирожные из театра. Мы просыпались и знали, что пирожные лежат у подушки, завернутые в целлофановую бумагу.
У нас в классе, да и в других классах, было много переростков, во время войны кто два, кто три года не ходил в школу. Поэтому не удивительно, что некоторые девочки уже начали чувствовать себя девушками. Пришло еще одно поветрие: все стали прокалывать себе уши. Я тоже проколола, процедура была проделана гигиенично, уши у меня не болели. Я съездила в Мурманск и купила прелестные сережки в виде крохотной звездочки с голубым камешком посредине. Но когда уже можно было надевать сережки, я отказалась их даже примерить, потому что вдруг усмотрела какую-то связь между сережками и теми стихами в альбоме.
На плавучке по субботам и по воскресеньям летом устраивались танцы под радиолу. Девушки надевали красивые американские платья и стекались со всех сторон поселков Дровяного и Третьего Ручья к плавучке. Их уже поджидали матросы, подтянутые, с начищенными пряжками ремней. Нас, малявок, на танцы не пускали. Недопущенные открывали филиал танцев около нижнего барака, благо музыка была слышна во всем поселке. Я не танцевала, но с гордостью смотрела на «свои» платья. Дело в том, что из Германии демобилизованные привозили красивые ткани. Оказалось, что я могу придумывать фасоны, и я рисовала всем, кто меня об этом просил. Причем делала это сознательно, учитывая особенности фигуры. У нас в бараке жила очень хорошая по тем временам портниха, она иногда советовалась со мной.
Летом сорок шестого года родители отправили нас с двоюродной сестрой Раей в Чакино, к тете Мане, раиной матери. Отец решил послать с нами каустическую соду или, как ее все называли, каусник. Им мыли деревянные части палубы на военно-морских судах. А почти по всей стране он был на вес золота, потому что без каусника нельзя сварить мыло, а тогда все сами варили мыло. Отцу сделали на плавучке две здоровенные банки и два ящика, он вложил эти банки в ящики и отправил каусник багажом. Накануне отъезда он наказал нам, особенно Рае, которой было уже девятнадцать лет:
– Смотрите, девки, не вздумайте нажиться на людской нужде. Продайте только, чтобы оправдать дорогу. А остальное раздайте всей родне в Чакино и Лукино.
Он не зря предостерегал нас от соблазна. В Москве, недалеко от Казанского вокзала, был комиссионный магазин. И там я высмотрела прелестный кошелёк, вышитый бисером. Работа была такая тонкая, что трудно было на небольшом расстоянии разглядеть, что это бисер, а не рисунок. Я решила, что уже на этот кошелёк я попрошу Раю продать лишнюю порцию каусника.
Кто не помнит лето 46-го года, когда по всей стране неделями и месяцами пекло безжалостное солнце и не было ни капли дождя? Мы купались в трусах, и пока доходили до дома, а это было близко, трусы уже высыхали.
Как-то, когда мы с сестрами и подружками только что вернулись с купания, на пороге дома появился милиционер. Он цепко оглядел всех и спросил:
– А где Раиса Семеновна?
Тетя Маня, нутром учуяв неладное, сказала:
– А она уехала в Мурманск.
– Так быстро? А это что?
Милиционер шагнул к комоду и взял в руки паспорт, лежавший на комоде среди других бумаг.
– Так… Раиса Семеновна Нестерова… Она что же, в Мурманск без паспорта уехала? И багаж не успела получить?
Тетя Маня спросила:
– А в чём дело-то?
– А вот пусть она за багажом придет, там и узнает, в чем дело. Где она?
– Не знаю. Нюра, девки, сбегайте, поищите Раю.
Раю разыскали на речке, она была там со своими подружками. Милиционер повел её с собой на станцию, там её и арестовали. Как выяснилось позднее, в Чакино было послано анонимное письмо. Тот, кто писал письмо, полагал, что в багаже идет солёная рыба. За каусник вроде не должны были арестовывать. Но раз уж арестовали, то дело закрутилось. Отец в письме написал тёте Мане, чтобы она съездила в Ульяновку и попросила дядю Стёпу Бывшева помочь нам. Я ездила с тетей Маней. Дядя Стёпа обещал помочь. Мне врезалось в память его недоброе лицо и манера тянуть слова. А позже узналось, что анонимное письмо написал его брат, дядя Петя Бывшев, который тоже жил в Дровяном и работал на плавучке. И то, что мы ездили к дяде Стёпе на поклон, обернулось ещё более тяжёлым поворотом дела и стоило отцу дополнительных денег. Бывшевы были роднёй отцу. В общем-то он знал, что они всегда завидовали ему, считали, что он устроился в Мурманске лучше всей родни. Но отец по своей простоте думал, что в трудные минуты жизни люди должны жить по другим правилам и помогать друг другу, так, как это делал всю жизнь он сам. Про него говорили, что он с себя последнюю рубаху отдаст, если понадобится. В данном случае рубаху отдавать не понадобилось. А выручать Раю было нужно как можно скорее, не доводя дело до суда. Отец два раза ездил в Тамбов, мотался между Тамбовом и Чакиным, занял денег на несколько лет вперед, хорошо узнал многоступенчатую лестницу советского правосудия, где было довольно четко регламентировано, сколько и кому надо было дать. Суда над Раей не было, её освободили из тамбовской тюрьмы предварительного заключения. Больше всего отцу жалко было кожаное американское пальто, которое он отдал прокурору. У мамы хватило чувства юмора прикрепить на стенку, около которой стояла электрическая плитка и стенка всё время забрызгивалась жиром, плакат, выпущенный ко дню выборов в народные судьи. На плакате было соответствующее изображение и подпись: «Буржуазный суд – суд богачей, советский суд – суд народа». Так и провисел этот плакат, пока отец не напился и не сорвал его с руганью.
Тетя Маня рассказывала потом, что чакинские блюстители закона, не скрываясь, продавали наш каусник по бешеным ценам. Она сама покупала его через подставных лиц.
А я то лето так и провела в Чакино. Уезжала я в Мурманск не со станции Чакино, а со Ржаксы, потому что нашлись в Лукино земляки, которые тоже возвращались в Мурманск из отпуска. А уж так почему-то повелось, что, хотя расстояние до станций Чакино и Ржаксы было примерно одинаковым, километров по десять, из Лукино уезжали все больше через Ржаксу. Наверно, потому что это был районный центр, там было у лукинских побольше родни и знакомых, у которых можно было переночевать, там же был и базар.
У тех, с кем я собиралась ехать, родни на Ржаксе не было, поэтому мы приехали на станцию ближе к вечеру и стали коротать ночь на вокзале. Ехали мы, как всегда, на лошадях, и, как всегда, неспешная, в душистом сене, в свете уходящего дня поездка по неоглядным холмам и равнинам настраивала меня на очень сентиментальный лад.
Народу на вокзале было немного, только те, кто, как и мы, приехал из дальних деревень. Кто сидел, кто лежал, положив под голову мешки с провизией и барахлишком. Напротив меня, чуть наискосок, сидел маленький, смешной мужичонко в немыслимом вековом пиджачишке, еще более живописном картузе, в лаптях. Он был заметно навеселе, часто клевал носом, но иногда просыпался, весело на всех поглядывал и пел одну и ту же частушку:
- Как колхознички у нас
- Получают тыщи.
- Утром чай, в обед чаек,
- А вечером чаище.
Когда я услышала частушку первый раз, сердце у меня прыгнуло, я огляделась, нет ли поблизости милиционера. И потом, хотя я и давилась смехом, но каждый раз вздрагивала, когда он пел эту частушку. Мне хотелось сказать ему, чтобы он не пел её, его же за неё арестуют, но я не посмела.
Потом всех сморил сон, поспала и я. Когда я проснулась, напротив меня сидела женщина с пронзительными голубыми глазами на обветренном и прожжённом солнцем лице. Она улыбнулась мне и спросила:
– Ты чья же дочка будешь, такая наряжёная?
– Виктора Вавилова и Клавдии Семеновой дочь.
– А, ульянские… А они где же?
– А они в Мурманске, я тут была на каникулах.
– Отец был на войне-то?
– Нет, у него была бронь. Он хороший мастер по котлам и корпусам, он военные корабли ремонтировал.
– А мы из Гудиловки. Я мать-то твою в девках хорошо помню. Если знать да покопаться, мы, может, ещё родней окажемся.
Народу на вокзале всё прибывало. Большинство были одеты очень плохо. Одежду нельзя было даже назвать бедной, она была нищей. Мне стало стыдно за свой попугайчатый наряд, в котором преобладал красный цвет. У меня сжало горло от любви к этим женщинам, которые годами не видят просвета в своей каторжной жизни. Стали закипать слезы, я встала и вышла на улицу. Около вокзала стояли вековые деревья. Все вокруг было наполнено светом и звуками просыпающихся домов. Я долго ходила по Ржаксе, пытаясь угадать, на какое из каменных зданий пошли кирпичи соколонского дома, а на какое – из разоренной лукинской церкви.
Когда подошел поезд, началось столпотворение. В вагоны, как и следовало ожидать, не пускали. Все ринулись штурмовать крыши. Не помню, как внесло меня на крышу, да ещё с багажом. Мне повезло, я даже пристроилась около трубы. Тогда на вагонах было множество маленьких трубочек, наверно, это были вентиляционные трубы. Я вздохнула облегченно, когда увидела на нашей крыше того самого мужичка. Он протрезвел, глядел на мир поскучневшими глазами и судорожно держался за трубу. А еще подальше к трубе была привязана небольшая коза. Она испуганно блеяла всю двухчасовую дорогу до Тамбова и доставляла много радости неунывающим тамбовским юмористам.
В Тамбове меня встретила тетя Шура, другая мамина сестра. Вечером она посадила нас на поезд, идущий до Москвы. На этот раз посадка совершалась тоже каким-то непостижимым образом через окна. Когда я теперь бываю иногда в цирке, то почти всегда вспоминаю послевоенные поезда, нужда делала тогда из всех цирковых артистов.
Когда закончился благополучно штурм поезда из Москвы в Мурманск, и мы наконец-то облегчённо вздохнули, дескать, в тесноте – не в обиде, я вышла в тамбур. Я стала перебирать в голове все этапы нашей поездки в деревню, вспомнила взволнованный хрипловатый голос отца, наказывающего не наживаться на людском горе, вспомнила, что из этого вышло, подумала, что же должна переживать тетя Маня, сознавая каждую минуту, что Рая в тюрьме. И я подумала: «Где же тот Бог, в которого так истово верит тётя Маня? Где он был, когда их, голь перекатную, раскулачивали? Где он был, когда её мужа убили на войне? Где он был, когда её дочь Нюра тронулась умом, потому что, когда она уехала в Тамбов в поисках пропитания, а ехала она на ступеньках поезда, на её глазах бандиты сбросили с соседней ступеньки женщину, и это на полному ходу? Где он был теперь, когда мы собирались облагодетельствовать всю деревню? Не было его и нет!!!»
Тётя Маня дала мне в дорогу бумажку с текстом молитвы «святые в помощи». Она повесила мне эту бумажку на суровой нитке на шею. И когда я решила, что Бога нет, то сорвала эту бумажку, порвала её в клочья и пустила по ветру.
Без дяди Кости жизнь в Дровяном потускнела. Особенно часто я вспоминала его, когда мы ходили в лес за незабудками, за купавками, просто так погулять. В некотором удалении от поселка было много прелестных мест, с ручейками, речками, тихой водой, в которой отражались невысокие северные деревья и кусты. Самыми лучшими были минуты, когда мне удавалось оторваться от подружек и побыть в этой красе, в этом трепетном дрожании воздуха, в этой музыке одной. От раза к разу во мне крепло убеждение, что средствами живописи невозможно передать пульсирующую жизнь природы, переменчивость солнечных бликов, многообразие зелёного цвета…
Бывали такие ясные дни, когда с высоты сопок открывался очень живописный вид на Мурманск и обрывистую скалу Абрам-мыса, под тенью которой приютился док. Оба берега отражались в величественном зеркале спокойного Кольского залива. Но залив был не всегда спокойным, и нам вскоре сделалось очень небезразличным его состояние. Дело в том, что в Дровяном была только начальная школа. В следующие классы надо было ездить в Мурманск. И мы ежедневно, в любую погоду, мотались туда и обратно на катерах. От пристани до школы на Жилстрое надо было идти минут сорок. Автобусов тогда не было. Мы очень рано должны были вставать. И мы очень мёрзли в своей скуденькой одежонке. Так продолжалось два месяца. Потом, по каким-то соображениям плавучку перевели в посёлок Чалм-Пушку, в нескольких километрах к северу от Мурманска, на этом же берегу. Посёлок почти целиком состоял из новеньких финских домиков. Каждый дом был рассчитан на две семьи и имел два разных входа. В доме было по прихожей, кухне и одной комнате. С водой и тут было плохо, за ней надо было далеко ходить. Воду носили мы со Стасиком, потому что мама была беременна, беременность протекала у неё очень трудно, ей нельзя было поднимать ничего тяжёлого. Стасик с детства отличался хозяйственными наклонностями. А тут, в свои десять лет, он заменял отца, который пропадал на работе. Он ходил в лес, приносил оттуда хворост и дрова, исполнял другу тяжёлую работу по дому. Мы пилили с ним брёвна, и он колол здоровенные поленья. Я тоже пыталась это делать, но у меня плохо получалось.
Школы в Чалм-Пушке не было, и мы ходили пешком или ездили на попутных машинах в губу Грязную, в трех-четырех километрах. Губа Грязная была морской базой, вероятно, поэтому в школе был сильный учительский состав, всё больше жены офицеров из Ленинграда и Москвы.
Особенно интересными были уроки литературы и русского языка. Людмиле Михайловне удавалось усмирять даже самых буйных из нашего класса. А между тем, хотя это был и пятый класс, в нём были сплошные переростки, у двоих были уже паспорта. Людмила Михайловна рассказывала нам исторические анекдоты, литературные. Чувствовалось, что она любила тех писателей, о которых рассказывала, не придерживаясь строго учебной программы. Однажды она увидела крохотный натюрморт в моём блокноте и не хотела верить, что это я нарисовала. С тех пор она как-то выделяла меня, хотя я и не была лучшей ученицей. Ею в нашем классе была несколько высокомерная Бэлла Поздняк, которая училась одинаково хорошо по всем предметам. А у меня уже начались кое-какие нелады с арифметикой.
Тут произошел такой эпизод. Мне как-то повезло с попутной машиной, и я рано приехала в ещё пустую школу. Я зашла в свой класс, мне понравилось, как гулко отдаётся в пустом классе каждый звук, и я начала петь. Пела довольно долго – и песни, и арии.
Вдруг открылась дверь, раздались аплодисменты. За порогом стояла Людмила Михайловна, а за её спиной – наш класс.
– Наташа, да у вас замечательный голос! Что же вы скрывали это?
Я не знала, куда деваться от смущения. Людмила Михайловна послала кого-то за директором. Ему рассказали, как почти час все слушали меня за закрытой дверью. Меня попросили спеть что-нибудь. И тут не знаю уж, какой бес меня подтолкнул, но я от страха запела вдруг: «Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для развлеченья». Как ни странно, никто не засмеялся. И в лице директора не дрогнул ни один мускул. Только чуточку лисьи глаза Людмилы Михайловны залучились морщинками, и она сказала:
– Наташа, может быть, вы споете что-нибудь другое, ну, хотя бы то, что вы уже пели, песню «Над водами».
И я запела песню, из которой сейчас помню только один куплет:
- Если ты другого полюбила,
- Если ты в чужом краю,
- Всё, что было, всё, что ты забыла,
- В лодке над водой спою.
Я не помню, откуда знала эту песню, её как будто не исполняли по радио. Через много лет я случайно попала на чествование основателя Ленинградского ТЮЗа Брянцева. Он уже не жил в это время. Оказалось, что эта песня была его любимой, и её исполняли на юбилее.
А тогда Людмила Михайловна и директор хлопотали за меня. Одна из жен офицеров кончила консерваторию и занималась преподаванием пения. Но когда она узнала, что мне тринадцать лет, то отказалась работать со мной, сказала, что сейчас не надо вмешиваться в голос, пусть сначала произойдёт его ломка.
В эту зиму все мои увлечения – чтение, рисование, пение – отодвинулись на задний план, побеждённые балетом. В Чалм-Пушку приехало из Перми семейство Болотиных. Галя Болотина была одного возраста со мной. Она училась в Перми в хореографическом училище и тяжело переживала, что отец погнался за длинным рублём и завербовался в Мурманск. Она часами занималась балетными упражнениями и заразила меня этим. По моей просьбе папа сходил к Болотиным, посмотрел, как выглядит балетный станок, и соорудил мне такой же у пустой стенки. Я подолгу тренировалась у станка до школы и после школы, терзала ноги в пуантах, которые Гале присылали из Перми. Мама не одобряла мои занятия:
– Господи, да перестань же ты часами задирать ноги выше головы. Всё равно балерины из тебя не получится, сама же говоришь, что уже поздно. Была бы еда хорошая, я бы тебе слова не сказала. А то ведь в чём душа держится, одни кости торчат, да шейка гусиная.
Еда и в самом деле была плохая. После тотального неурожая 1946 года и после того, как прекратились поставки по ленд-лизу, наступили тяжелейшие времена для всей страны. Если в войну худо ли, бедно, но карточки чаще всего отоваривались – в Мурманске, по крайней мере, – то теперь частенько отоваривать было нечем. Для спекулянтов это были золотые времена. За кусок хлеба люди отдавали прекрасные вещи. Отец спустил с себя всё, что ещё можно было обменять на продукты. В Чалм-Пушке подсобного хозяйства уже не было. Но у отца остались кое-какие связи на побережье. Однажды он привёз тюленье мясо. Мама жарила его с перцем и лавровым листом, но всё равно оно ужасно пахло рыбьим жиром. Мы придумали, как его есть. Папа принес резиновые водолазные зажимки для носа. Мы надевали их на нос, и оставалось только правильно дышать и соответственно жевать, потому что иначе очень больно отдавалось в ушных перепонках. Ели мы и глупышей, и чаек. Они тоже пахли рыбьим жиром, но всё же не так противно. Потом папа за пару довоенных рубашек выменял у повара эсминца чемодан сухарей. Я даже меняла сухари на подсолнечные жмыхи, наше деревенское лакомство.
В апреле родился брат Аркаша. Мама чуть не умерла при родах. А в мае отца пригласили работать на мурманскую судоверфь.
Нам дали большую комнату в трёхкомнатной квартире с холодной кухней, на Кольском шоссе, которое было продолжением главной улицы, улицы Сталина.
В Мурманске жить стало чуточку полегче, потому что здесь была барахолка. Казалось, уж совсем ничего не осталось, что можно было выменять на съестное, но когда становилось совсем голодно, всё же что-нибудь да находилось. Мама строчила на машинке покрывала, наволочки, подзоры, и мы тоже меняли их на продукты. Иногда в разных концах города что-нибудь выбрасывали в свободную продажу: картошку, отруби, пшеничку, ячмень. Мы долгими часами стояли за этим в очередях, занимали очереди с ночи, писали химическим карандашом номерки на ладонях, составляли списки. Очень важно было не прозевать перекличку. И хотя я брала с собою книги, чтобы скоротать время, очень часто я не читала, а разглядывала женские лица. На всю жизнь я напиталась этим бесконечным морем скорби. И помню, как-то впервые в очереди во мне зазвучало: «Пепел Клааса стучит в моём сердце…». Безадресно, но просто: «Пепел Клааса…».
Все чаще я задумывалась над тем, можно ли карандашом и кистью выразить то безмерное людское горе, которое было нормой существования для большинства, в первую очередь женщин. А если это удалось бы кому-нибудь сделать, то кто же даст художнику выставить подобные картины? Ведь сталинские премии давали за совсем другое содержание. В газетах предавали анафеме растленное искусство на Западе, которое окончательно запуталось в тупиках абстракции. А я про себя соображала так: если на Западе и в Америке, где рисовать можно абсолютно всё, век живописи в традиционном понимании кончился, если фотография во многом приняла на себя функции живописи и ей, вероятно, еще предстоит сказать свое слово, то вряд ли стоит делом всей жизни избирать то, что я для краткости именовала рисованием. Я хорошо запомнила то, что было в альбомах, которые тогда Джим подарил дяде Косте. Меня не устраивала эквилибристика формами и красками. Но я размышляла дальше, что абстрактная живопись явилась естественным продолжением реалистической и, если кто-то находит в своей душе отклик на подобное искусство, пожалуйста, на здоровье. Я же мыслила вполне конкретно и полагала, что так будет и в будущем. Как-то в один из дней, когда я рассуждала таким образом, мне подарили открытку, на которой была нарисована роза. Очень хороший рисунок акварелью. Мне эта роза почему-то не давала покоя. Я решила повторить рисунок, села к столу и сделала тщательнейшую копию. Немного подумала, подписала в уголке: «Рисунок Н. Вавиловой» – и поставила дату. Раньше я этого никогда не делала. Потом довольно долго сидела над рисунком. Прости, Боже, мою самонадеянность, но я тогда думала так: к двадцати с лишком годам я вполне овладею так называемым реалистическим методом, а что дальше? Получать сталинскую премию за какой-нибудь очередной портрет нашего любимого вождя? Не слишком ли мало для живописи? И ещё не додумав до конца такие мысли, я вымыла кисти, сложила все свои рисовальные принадлежности в подходящий ящик и спрятала его под кровать.
Через пару недель отец первым забил тревогу:
– Ты почему больше не рисуешь?
– Не хочу.
– Ты что, не знаешь, что художник, как пианист, должен всё время тренировать руки и глаза?
– Знаю.
– Ты что, думаешь, что без труда поступишь в Академию?
– Я не буду поступать.
– Почему?!
– Не хочу, раздумала.
– Почему?!
– Не хочу, и всё тут.
– Ты мне брось эти штучки! Что, влюбилась в кого-нибудь?
– Других причин, конечно, быть не может…
– Ты мне не дерзи! Отец не так глуп, как ты думаешь!
– Я не думаю, что ты глуп. Я просто не хочу больше рисовать.
Я ушла из дома, а когда вернулась, отец уже спал. На другой
день мама мне рассказала, что он напился и даже плакал, говорил, что из него ничего не вышло, потому что он вовремя не обзавелся красной партийной книжечкой, и он так гордился мной, верил, что из меня получится великий художник, который прославит на весь мир его фамилию, а я взяла и бросила всё.
Так сказать, подавленная творческая энергия искала выхода, и я то заучивала наизусть «Евгения Онегина», то бралась конспектировать «Капитал», то вышивала крестиком, ришелье и гладью, но в вышивке быстро брала высоты и так же быстро охладевала. Часов до двух белой ночи мы играли в волейбол, потом, когда все расходились, ещё долго впитывала в себя жемчужные, пастельные, неяркие краски северного неба, а потом читала часов до шести утра, в нашу комнату солнышко светило как раз в эти часы.
Осенью я пошла в шестой класс 5-ой женской школы на Жилстрое. Директором у нас оказалась Маргарита Александровна Линдстрем. Она узнала меня, расспросила, что люблю, что читаю. Она не вела уроки, но когда наша учительница литературы и русского языка болела, Маргарита Александровна заменяла её. Это были прекрасные уроки. Русские писатели, их герои оживали в её рассказах. Она тоже не придерживалась строго программы, а, увлекаясь, свободно переходила от одного писателя к другому. Это она научила нас писать изложения и сочинения. У неё хорошо писали даже безнадежные тупицы. Она не раз зачитывала в классе мои работы, а однажды, уже в седьмом классе, сказала, что верит, что когда-нибудь я буду выступать перед большой аудиторией.
У нас в школе было пианино. Оно никому не было нужно, потому что аккомпаниатора для уроков физкультуры не было, и никто из учеников нашей школы не занимался в музыкальной школе, так как Жилстрой был пролетарским районом. Застав меня однажды за тем, что я что-то подбираю на пианино, Маргарита Александровна разрешила мне пользоваться им, сколько мне захочется. Я терзала пианино два года и дотерзала до какого-то подобия бетховенской «Элизе».[2]
В седьмом классе, как я ни брыкалась, меня выбрали председателем совета дружины. Тогда же я вступила в комсомол. Меня посылали на какие-то конференции, слёты. Я просила Маргариту Александровну посодействовать тому, чтобы избрали другого председателя. Я честно сказала ей, что сдуваю почти все задачи по арифметике. В ответ на это она сказала, что знает, что все диктанты по русскому языку полкласса списывает у меня, и что многие домашние сочинения проверяю тоже я. Мне было нечего возразить.
Маргарита Александровна пригласила в школу артистку Мурманского театра Зинаиду Борисовну Хватскую ставить у нас спектакль «Золушка». Зинаида Борисовна дала мне роль принца. Мы взялись за постановку с большим увлечением. Пригласили из соседней женской школы преподавателя рисования. Он сделал нам хорошие декорации. Мы потрошили сундуки родителей и сшили просто великолепные костюмы. Кое-что, в том числе фальшивые драгоценности, Зинаида Борисовна принесла из театра. Мы выезжали со своим спектаклем в другие школы города, и о нашей постановке писали в газетах. У меня есть фотографии этого спектакля. За наши костюмы нам не пришлось бы краснеть даже сегодня.
В декабре сорок седьмого года отменили карточную систему. Все ликовали. Мама тогда сказала:
– Беру в свидетели Бога. Даже если годами будет достаточно только одного черного хлеба, я не стану роптать.
Карточки-то отменили, но теперь очереди выстраивались даже за теми продуктами, которые по карточкам отоваривались при малых очередях. В очередях больше стояла я, потому что Аркаша была маленький, и мама кормила его грудью. До появления Аркашки я не то чтобы не любила детей, они для меня просто не существовали. В войну детей мало рожали, не помню ни одного ребенка у кого-нибудь из ближайших соседей. А Аркашка получился воплощённая радость детства. Он, как и мы со Стасиком, совсем не плакал и не карпризничал, был такой хорошенький, улыбался всем, сначала смешным беззубым ртом, а потом уж и с зубками. Вечером, когда мама купала его, он так радовался, так бил по воде руками и игрушками, что мы все собирались около ванночки и радовались вместе с ним. Каждый день к нам на купанье напрашивались соседские девочки, а иногда и взрослые. Отец раз и навсегда запретил купать Аркашку до своего прихода.
Много позднее я узнала, что мама разрывалась между любовью к нам, старшим детям, и любовью к Аркаше. Для того чтобы было молоко, надо было получше есть, а она норовила даже свой худший кусок скормить нам.
Рая вышла от нас замуж за нашего, тамбовского, Бориса Переведенцева. Уговорил он её, улестил, вышла она за него без любви, в чём и до сих пор, став бабушкой уже двух внуков, раскаивается. Они мыкались с Борисом по чужим углам. Вскоре отцу дали вторую комнату в нашей квартире. Самым естественным делом для других родителей было бы поселить в этой комнате нас с братом, оба школьники, надо заниматься, а стол в нашей комнате и для занятий, и для приготовления еды один и тот же. Но самым естественным для моих родителей было отдать вторую комнату Рае с Борисом. Вообще, сколько себя помню, у нас всегда жили какие-нибудь родственники, близкие и далекие. Они становились полноправными членами семьи, и ни отец, ни, тем более, мать никогда никому не сказали ни одного неделикатного или грубого слова. К сожалению, как выяснилось позднее, немногие сохранили чувство благодарности к моим родителям. Всей деревне было известно, что Вавиловы всех пригреют и приголубят, за что же их благодарить…
Жизнь заметно стала улучшаться, хотя за всем, абсолютно за всем выстраивались очереди. У нас в школе появился даже буфет. Там во время большой перемены нам выдавали бесплатно по 50 граммов хлеба с ложечкой сахарного песка.
Маргарите Александровне удавалось добывать в нашу школу хороших лекторов из Москвы и Ленинграда. На эти лекции приглашались мальчики из соседней мужской школы. Среди них я отметила одного юношу и ловила себя на том, что часто думаю о нём. Внешность у него была демоническая – орлиный профиль, густые чёрные брови, – и был он очень высокомерен. Звали его Борис Каган, и жил он недалеко от нас, в каменном офицерском доме. Однажды мы устроили у себя в школе вечер, на который пригласили шестые и седьмые классы из мужской школы. Вечер получился хороший, мы танцевали и играли в разные игры, в том числе и в «цветы». Все называли себя различными цветами, а Борис назвал себя камышом. Конечно, такое мог придумать только необыкновенный человек. И, разумеется, он должен был выбрать такую же необыкновенную – меня. Но он меня не выбрал. И вообще, успеха у мальчиков я не имела. Это повергло меня в уныние, и какое-то время я вглядывалась в своё отражение в зеркале дольше обычного. Я надеялась, что Борис пригласит меня на выпускном вечере седьмого класса, сшила у хорошей портнихи красивое платье, мама купила мне чешские туфли на высоком каблуке. Но совместный вечер почему-то не устроили, отменили в последний момент к общему огорчению всех девочек, да и, наверно, всех мальчиков.
Летом я как-то встретила выпускницу нашей школы Веру Голубятникову. Она сказала, что гороно организует, поездку в Москву и предложила мне поехать с ними. Поездка осуществлялась на средства гороно, и только за что-то надо было доплачивать, но это была небольшая сумма. Родителей не пришлось долго уговаривать. Мы ехали с остановкой в Ленинграде. Ленинград ошеломил меня своей несхожестью с Москвой. В пропорциях дворцов, домов, площадей, ансамблей была скрыта какая-то удивительная тайна. По Эрмитажу мы пошли с экскурсоводом, это не позволяло задержаться перед картинами, но в душе я поклялась, что скоро приду в Эрмитаж одна. Но ещё больше, чем Эрмитаж, меня поразил Останкинский музей под Москвой. Он был понятней, человечнее и – создан руками крепостных. Мысленно я не раз возвращалась потом к этому и всё пыталась представить себе сложные отношения между господами и зависящими от них художниками. Художниками… После экскурсии мы почему-то долго сидели перед дворцом, и тут рука моя сама потянулась к карандашу, и я набросала в блокноте дворец и выслушала от товарищей по группе восторженные комплименты.
Мы ходили на «Корневильские колокола», я была взбудоражена увиденным и услышанным, поэтому, наверно, раскрепостилась до того, что по возвращении из театра, не стесняясь, перепела и перетанцевала всё, что мне запомнилось в спектакле. Все решили, что быть мне опереточной артисткой.
Восьмого класса на Жилстрое не было, и с первого сентября я пошла во вторую женскую среднюю школу, которая была в самом центре города, на проспекте Сталина. До этого мы встречались с ученицами второй школы на пионерских слётах, почти все они были детьми мурманского начальства, жили на проспекте Сталина в отдельных квартирах, и мы называли эту школу институтом благородных девиц. Директором её была Лидия Филипповна, выпускница Смольного института. Ей было уже много лет, но она очень прямо держала спину, у неё было благородное лицо и гордая посадка головы. Большинство учителей в школе были очень хорошие. Они давали нам многое, чего не было в учебниках, приучали конспектировать сверхпрограммный материал. Нам только не повезло с самым главным для меня предметом – литературой. Мало того, что Антонина Ивановна даже формально не имела права преподавать в старших классах, так как у неё не было для этого соответствующего образования. Она была просто обиженный Богом человек, не любила свой предмет, скучно долдонила по бездарным учебникам и программам образ Татьяны и образ Онегина и омертвляла всё, к чему прикасалась. Все три года мы долбили ленинскую «Партийную организацию и партийную литературу», ленинские же статьи о Толстом и часто, пользуясь рассеянностью Антонины Ивановны, говорили, что к сегодняшнему уроку она задавала повторить одну из этих статей и шпарили их наизусть, получая пятерку. Антонина была очень похожа на моську, и – каюсь – я частенько рисовала на неё карикатуры и пускала их по классу, развлекая одуревающее от скуки общество.
В декабре 1949 года праздновалось грандиознейшее по масштабам подготовки и оформления 70-летие нашего любимого вождя – Иосифа Виссарионовича Сталина.
Накануне его дня рождения у нас в школе состоялся торжественный вечер совместно с учениками Ной мужской школы, с которой наша школа дружила. Бэлла Мень запевала чистейшего серебра альтом:
- Из красных пионов огромный букет
- Мне дали ребята в отряде.
- Просили цветы и горячий привет
- Вождю передать на параде.
А мы подхватывали:
- За то, что страна крепка и сильна,
- И жить с каждым днем чудесней,
- Вождю наш привет, наш красный букет
- И лучшие наши песни.
21-го декабря центром праздника стал Пятачок, единственный скверик во всем Мурманске. Народу на Пятачке и на прилегающих улицах собралось видимо-невидимо. Темное небо над сопками перерезали прожектора, которые составляли из латинских цифр число 70.
Салют был невиданный, такого не было даже в день Победы. После каждого залпа все кричали «Ура!». И вдруг после очередного залпа я услышала за своей спиной чётко сказанное:
– Дети раздетые, а он ишь какие миллионы в небо фугасит… по всей стране…
Это относилось ко мне, потому что пальто у меня не было, и на мне надеты были две американские жакетки, которые плохо грели. Чуточку выждав, я оглянулась. Я увидела мужчину и женщину, одетых очень просто, по виду скорее рабочих. У мужчины было хорошее русское лицо, на котором какой-то интенсивной жизнью жили светлые страдальческие глаза. «Ну, прямо из Достоевского лицо», – подумала я. Мужчина поймал мой взгляд, подмигнул мне и чуточку улыбнулся.
Когда мы возвращались домой после народного гулянья, в моём мозгу опять зазвучало это безадресное пока: «Пепел Клааса стучит в моё сердце… Пепел Клааса стучит в моё сердце…».
Дома я рассказала маме об услышанном и спросила её:
– Мама, а разве Сталин сам дал приказ так праздновать его день рождения?
Мама несколько раз затянулась папиросой и не сразу ответила:
– Вишь, дочка, он-то, конечно, такого приказа не отдавал… Но ведь каждый начальник, большой и маленький, разве осмелится как-то не вложить свою лепту… Каждому его место дорого, в тюрьму ведь никому не хочется.
– В тюрьму?!
– А ты как думала…
– А разве все эти полотнища и салюты стоят денег?
– Да как же не стоить! В таких вещах ты уже должна разбираться лучше меня. Ты его сшей, каждый-то флаг, да прибей, да произведи ракетку, да выстрели ее – за всё же это надо кому-нибудь да платить. А сколько людей на всё это многодневное празднество отвлечено, это же миллионы и миллионы стоит… За эти деньги действительно много пальто можно было бы сшить, мужичок-то, он прав…
Как-то по школе разнеслось сообщение, что в первой мужской школе организуется драмкружок. К указанному часу мы отправились туда. Почему-то большинство из жаждавших поступить в кружок приготовили отрывки из Горького и Маяковского. Я тоже собиралась прочесть легенду о Данко. Нас набирал артист мурманского областного театра Троицкий Сергей Яковлевич. Мне он не понравился, потому что за всё время ни разу не улыбнулся. Сначала прослушивали мальчиков. Все они более или менее ненатуральными голосами читали стихи о советском паспорте, отрывки из поэм «Хорошо» и «В. И. Ленин» и «Буревестника». После мальчиков Троицкий обратился к девочкам и сказал, кивнув мне:
– Начнем с вас.
Я вышла и начала завывать не хуже, чем Тамара Давыдова по радио:
«Жили на земле в старину одни люди и т. д…».
Не успела я произнести первые три-четыре предложения, как Троицкий без тени улыбки и даже слегка брезгливо остановил меня:
– Что с вами?
Какие-то доли секунды я не понимала, что он имеет в виду, но вдруг меня как озарило: нельзя так неестественно читать, нельзя кому-то подражать! Я бросилась вон из класса, девчонки за мной. Я рыдала в гардеробе, а девочки пытались меня утешить. Ведь это теперь, когда актеры играют так естественно, что уже в десятом ряду ничего не слышно, все поступающие в театральные вузы знают, что больше всего ценится естественность поведения в предлагаемых обстоятельствах, индивидуальность поступающего. А тогда даже знаменитые мхатовцы, которых я слышала по радио, говорили всё-таки ненатурально, несколько форсируя свои голоса.
Несмотря на мою неудачную пробу, Троицкий приглашал меня через девочек на роль Елены Ивановны в чеховском «Медведе», но я не пошла. А через несколько месяцев Троицкий умер от рака. Тогда, когда он прослушивал нас, то уже знал о том, что ему осталось недолго жить, потому и был такой пасмурный.
Еще до истории с драмкружком я поступила в хоркружок в нашей школе и с удовольствием в нём пела, потому что в хоре я никого не стеснялась. Но однажды руководительница хора Надежда Николаевна велела мне остаться после занятий. Она устроила мне экзамен и сказала, что с сегодняшнего дня я буду солисткой. К каждому вечеру в нашей школе она готовила со мной по одной-две арии. Эти выступления были мучительны для меня, и я каждый раз отказывалась, говорила, что я стесняюсь, но Надежда Николаевна оставалась непреклонной и заставляла меня петь и предлагала мне обучаться у нее нотной грамоте. Но тут уж я уперлась
Я говорила, что никогда не смогу отличить на бумаге одну ноту от другой, что это так же бесполезно, как пытаться обучить меня шахматной игре. Стасик пытался было учить меня. Как ходит пешка, я помнила. Как ходит следующая фигура, я тоже помнила. Но когда надо было запоминать, как ходит третья по значению фигура, я начисто забывала, как ходят две предыдущие, и Стасик, помучившись со мной какое-то время, сказал, что я непроходимо и безнадежно тупа. Вот и теперь, когда я вижу, как какая-то кроха сидит за пианино и что-то играет, заглядывая в ноты, я бываю потрясена. То же относится к шахматам. Так и повелось, что пела я по слуху. Не сразу, постепенно Надежда Николаевна выяснила, что для меня не существует никаких технических трудностей, я одинаково легко пела и то, что пели певицы с колоратурным сопрано и то, что исполняли меццо-сопрано. Я и до сих пор не знаю, что это такое, но Надежда Николаевна определила, что у меня голос в три с половиной октавы.
На вечерах в мужской школе выступал обычно драмкружок, а на вечерах в нашей – хоркружок с солистами, девочки играли также на пианино и на скрипке. Вечера у нас были очень хорошие, в нашей школе лучше, чем в мужской. В их школе, правда, было то преимущество, что там дежурили их учителя, и мы меньше стеснялись во время танцев и игр. Кроме того, там меньше донимали па-де-катрами и па-де-патинерами, а больше танцевали полузапрещенные танго и фокстроты.
У нас сколотилась очень дружная компания, нам все завидовали и стремились к нам попасть. Праздники и дни рождения мы отмечали с вином и водкой. Но никогда никто из мальчиков не напивался и никогда никто не нарушал ту целомудренную атмосферу, которая царила в нашей компании. Разумеется, все были в кого-то влюблены, кто-то провожал ту, а не другую домой, и даже кто-то с кем-то целовался, о чем сообщалось друг другу по большому секрету. Но меня провожали обычно всей компанией, потому что я дальше всех жила и начинали провожание с меня. Больше всех из наших мне нравился Мишка Филиппов, сын артистов нашего театра, будущий архитектор, а позднее – лучший оператор ленинградского телевидения. Но Мишка толкал в снег и забрасывал снежками Эмму Глушкову, а не меня. Борис Каган – камыш – в нашу компанию не входил, он дружил со Светланой
Платоновой, дочкой командующего Северным флотом. Еще один юноша не из наших, Толя Барков, белокурый красавец, был первым в списке тех, кто мне нравился. Он танцевал со мной на вечерах и даже провожал меня несколько раз домой. Но однажды на вечере в нашей школе, посвященном Чайковскому, он танцевал только со мной, а в этот вечер дежурила физичка. В понедельник она вызвала меня отвечать, а не должна была, потому что только недавно меня вызывала. Разумеется, я ничего не знала, и она, поставив двойку, сказала что-то язвительное насчет того, что пением завлекать белокурых Русланов куда как легче, чем выучить один урок по физике. Физику и физичку я с тех пор возненавидела и отомстила ей серией осознанно злых карикатур. Но когда следующий вечер был в мужской школе, и Толя снова пригласил меня танцевать, я два раза подряд отказала ему, он оскорбился и больше меня никогда не приглашал, и я очень страдала. Я знала, что нравлюсь двум мальчикам, с которыми мы ездили в Москву. Я сдержанно кокетничала с ними, когда они приглашали меня танцевать, выслушивала комплименты моему голосу, но и всё, оба они мне нисколечко не нравились. К десятому классу почти каждой девочке хоть кто-нибудь объяснился в любви, а мне и в десятом никто не объяснился. Как выяснилось двадцать лет спустя, все думали, что у меня любовь с Витей Чернопятовым из нашей компании. А он танцевал со мною часто просто потому, что Вера Куликовская, в которую он был серьезно влюблен, была большой разбивательницей сердец и одновременно кокетничала и танцевала с десятком мальчиков из разных классов. И те же двадцать лет спустя я узнала, что кое-кто считал меня гордячкой и недотрогой, и почти «синим чулком», потому что в то время, когда все школы гуляли на определенном участке на проспекте Сталина, прозванном Бродвеем, я просиживала в читальном зале за толстыми литературными журналами. А библиотека была на Бродвее, и кто-то же из мальчишек знал, что я там сижу…
Из читального зала я уходила чаще всего со смутным ощущением раздражения. Я тогда не знала термина «нормативная критика», но это было именно то, что меня раздражало. Я не могла понять, как можно предписывать писателю жесткие, прокрустовы нормы того, как, по каким рецептам он должен писать. Я пыталась в романах, повестях разыскать живое слово, живой характер, страдания, боль – и не находила этого. Ходульность того, что печаталось в толстых журналах, жалкие потуги создания выморочного положительного героя убивали во мне даже любовь к классикам. Мне было не с кем поделиться своими сомнениями. Моя подружка Кира Нечай для этого не годилась. Она могла часами рассказывать о сложностях своих отношений с Аликом Кудрявцевым и с другим Аликом, который остался в Караганде. Из Караганды Кира приехала со своей матерью, которая там сидела в лагере, а потом жила на вольном поселении. Я как-то стеснялась расспросить Киру и тем более её мать Милицу Андреевну, что это была за ссылка в НАШЕ время, за что она сидела. Ведь до войны она возглавляла профсоюз работников искусств в Ленинграде. О ссылке говорилось иногда в разговоре так, будто все об этом знают, поэтому мне и было неудобно расспрашивать. Отец Киры и её старшая сестра умерли во время блокады Ленинграда. Отец был директором военного завода. Иногда речь шла о восстановлении Милицы Андреевны в партии, она ездила то в Ленинград, то в Москву хлопотать об этом непонятном мне восстановлении. Милица Андреевна были шумной и энергичной женщиной, как, впрочем, и Кира. Они постоянно ссорились и выясняли отношения. Для меня это были странные отношения, меньше всего похожие на отношения матери и дочери. Милица Андреевна преподавала в музыкальной школе класс фортепьяно и вела сольфеджио. Она тоже предлагала мне пройти с нею ускоренный курс обучения нотной грамоте, но я отказалась.






