Однова живем… Кириллова Тамара
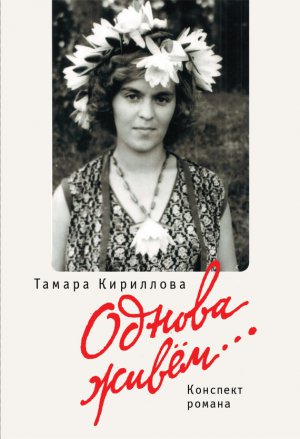
Мама раз закурила, другой, действительно, стало легче, так и курит до сих пор, хотя отец и пытался с этой привычкой бороться.
Зимой приезжал в отпуск по ранению дядя Боря, отец семейства. Он был в офицерской форме, и у него был какой-то орден. Дядя Боря привёз печальную весть: Фира погибла в концлагере под Минском.
В первый вечер все собрались за общим столом. Мама Натаня нажарила на двух больших сковородках картошку с привезённой дядей Борей колбасой, взрослые пили разведённый спирт, и все мы пили чай с уже почти забытым сахаром.
Мама Натаня пела «Хаз Булат удалой» и частушки. Кое-какие частушки она пела на ухо дяде Боре. Он только крякал, смеялся и спрашивал:
– Наталья Федосеевна, а вы не боитесь?
– Волков бояться – в лес не ходить.
Летом сорок второго года немцы стали подходить всё ближе, Тамбов всё чаще бомбили, днём и ночью над деревней пролетали самолеты, и Гитлины, как и другие евреи, собрались и поехали дальше на восток, к Уралу. В одном из соседних домов жила наша старшая подружка Бэлла. Она почему-то одна осталась в деревне. После того, как мы летом сорок третьего года уехали назад, в Мурманск, её приютила мама Натаня. Она привязалась к Бэлле, как к родной дочери, от неё Бэлла выходила замуж, ей попался на Ржаксе хороший парень, потом они с мужем уехали куда-то к бэллиным родным, и они долго присылали маме Натане письма.
В классе я подружилась с дочерью Лидии Ивановны, Люсей Крыловой. У неё, правда, была отцовская фамилия, очень редкая – Отрюх. Но так их никто не звал, Крыловы и Крыловы. В своё время их раскулачили наполовину, т. е. сломали у них половину их дома и вывезли то, что было в этой половине. Так и стояли их полдома в старом саду, чуточку на отшибе ото всей деревни. Было такое впечатление, что какой-то огромный зверь откусил полдома, а полдома оставил. Как-то незаметно получилось так, что мы с Люсей отделились от остальных деревенских. Наверно, это произошло на почве нашей любви к чтению. У них в доме было много книг, кроме того, прекрасная библиотека была в ШРМ. Как она там сформировалась, не знаю. Старинные книги были из помещичьей библиотеки, а вот кто собирал уже новейшие книги, узнать не пришлось. Родители научили меня читать ещё до школы, но почему-то вначале во мне охоты к чтению не обнаруживалось. То ли не было хороших книг в Росте, то ли ещё почему-то, но чисто детских книг мне читать не пришлось, я сразу начала с Горького, Короленко, Чехова, Достоевского. Обиды и унижения Алёши Пешкова, обречённость детей подземелья, страдания Ваньки Жукова так хлестали меня по сердцу, что я часто плакала над страницами, иногда навзрыд. Мне было жалко и Козетту, и Эсмеральду, и Квазимодо, и Оливера Твиста, я тоже плакала над их обидами но всё-таки такого щемящего чувства, остающегося надолго, не проходящего даже во время беззаботных горелок и пряток, они во мне не вызывали, они были чуточку далековаты от той понятной и близкой жизни, какая открывалась мне на страницах русских писателей.
Соседка напротив, Машутка Буздалина, которая по инвалидности не работала в колхозе, видела, как я часами просиживала летом на крыльце, а зимой у окошка, приходила в ужас от толщины книг и жаловалась маме, говорила, что я ослепну. Мама только улыбалась в ответ на эти жалобы, потому что она сама любила читать, и если за годы эвакуации не прочла ни строчки, то только потому, что деревенская, колхозная жизнь, работа с восхода до заката не позволяла ей делать это. И, пока она она орудовала у печки или делала что-нибудь по дому, я пересказывала ей прочитанное.
Зимними вечерами, когда мама Натаня была посвободнее, она рассказывала нам сказки. Она была вообще великолепным рассказчиком, рассказывала всегда по-разному, с живыми деталями и очень остроумно. Не могу себе простить, что я не записала ни одного её рассказа, когда приезжала в Тамбов на студенческие каникулы и хохотала до слез над её анекдотами из деревенской жизни.
Больше всего мы со Стасиком любили, когда она рассказывала о Золушке и об аленьком цветочке. Обычно мы забирались на печку раньше неё, устраивались поудобнее и не засыпали, хотя мама Натаня иногда задерживалась с хлопотами по хозяйству. И разве это не счастье – слушать в талантливом исполнении сказки, лёжа на тёплой печи?..
Вероятно, мама Натаня была прекрасным стихийным педагогом. Начала и концы её педагогики были любовь и доброта к детям, любовь и доброта ко всему живому. Она ни разу не повысила на нас голос и, если и подчиняла нас своей воле, то делала это весело и по-доброму. Её скуластое скифское лицо с беличьими глазами лучилось приятием жизни даже в самые трудные минуты. После войны она жила с папой Ваней на Дальнем Востоке в звероводческом совхозе. Там она пошла работать уборщицей в детский сад. Но фактически она работала воспитателем и, видно, стольких она обогрела своей любовью, что дети горько плакали, когда она пришла прощаться с ними, плакали и потом: «Где наша няня?» – а заведующая детским садом долго писала ей благодарственные письма.
Мы пережили в деревне две весны, и обе были бурными. Реки разливались, ольховские и поплёвские дети оказывались отрезанными от Ульяновки, где были обе школы, и для нас наступали дополнительные каникулы. Мальчишки изготовляли ходули, давали походить и нам, девчонкам. По улицам с холмов бежали радостные ручьи, на снегу образовывались корочки, и было весело слышать, как хрустели эти корочки под нашими ногами или от удара палками. Солнце искрилось не только в небе, но и на снегу, и в звенящих ручьях.
Земля постепенно просыхала, солнце пригревало все сильней, и в один прекрасный день наступало чудо цветения садов. У нас в деревне были на разных ее концах два больших колхозных сада: бывший барский, Соколонский, сад и Туманов. Туманов был когда-то богатым мужиком. В 41–42 годах у всех еще были палисадники, это их потом вырубили, когда невмоготу стало платить за каждое деревце непомерные налоги, которые брали независимо от того, давало дерево плоды или не давало.
В Туманов сад мы редко ходили, а Соколонский сад, который взбегал по холму сразу же за правлением, был неотделим от нашей детской жизни. Он не был бы так хорош, если бы лежал на ровной поверхности. Но он простирался от подножья холма до его вершины и еще немного дальше, до самых полей. И разве слова в состоянии описать это бело-розовое марево, которое открывалось твоим глазам, как только ты переступал порог дома! И сколько бы ты ни смотрел на цветущие яблони или вишни, не было ни одного цветка, похожего один на другой. Одни были совсем белые, с едва заметными прожилками, другие украшены розовым цветом, третьи – почти полностью розовые.
Внизу был старый сад, он охранялся, мы там не играли. А наверху был запущенный молодой сад с пчельником, а дальше шли старые яблоневые и грушевые деревья. Среди них были развалины усадьбы Соколоновых, а чуть подальше, у дороги, двухэтажное здание бывшей барской конторы, в котором размещалась средняя школа и библиотека.
Усадьба заросла густым кустарником, пробраться через который было почти невозможно. Но мы все-таки пробирались и бродили по развалинам. Было что-то жуткое в этих обломках кирпичей, поэтому мы не ходили туда в одиночку и всегда разговаривали там шёпотом, как на кладбище. Но однажды я пошла в библиотеку, и ноги сами понесли меня на усадьбу. На мне было плохонькое платье, я не боялась порвать его, поэтому я решила пробраться туда, где мы еще ни разу не были. Я ползла по земле между какими-то колючими кустарниками и, поцарапавшись и порвав в нескольких местах платье, оказалась на поляне, заросшей травами и окруженной с трех сторон вишневыми деревьями. И вот ближе к этим деревьям я вдруг увидела такие необыкновенные цветы, что у меня замерло сердце, потому что я сразу решила, что это души умерших Соколоновых перешли в цветы. Они были причудливой формы и очень по-разному окрашены, на каждом цветке были различные оттенки розового и фиолетового цветов. Я долго смотрела на них, не решаясь сорвать, боясь, что, как в сказке об аленьком цветке, появится вдруг какое-то чудище… Но все-таки сорвала, перекрестившись на всякий случай. Назад ползти было ещё труднее, потому что я боялась повредить цветы. Дома поставила цветы в воду, вечером показала их маме и маме Натане. Они таких цветов тоже не видели. И только через несколько лет в каком-то пособии по ботанике я увидела рисунок этих цветов и узнала, что их зовут красивым латинским именем «аквилегия», что по-русски переводится как водосбор.
Еще одна прекрасная сказка пришлась на мою долю на пасху сорок третьего года. Мы собирались табунком катать яйца у старых дубов, что росли недалеко от тока на горе. На самом деле это была никакая не гора, а просто склон того же холма, на котором раскинулся Соколонский сад. Но мы называли его горой. Было решено дойти лесом до родника, а уж оттуда подняться к дубам. Лес был еще сырой, почки едва наклюнулись, но земля голубела от подснежников. В разных областях называют подснежниками разные цветы. У нас в деревне это голубые цветки с пятью стрельчатыми лепестками. В том же пособии по ботанике, где я увидела аквилегию, был рисунок и нашего тамбовского подснежника с соответствующей латинской надписью.
В этот день солнце особенно переливалось, радовалось жизни и радовало нас бликами на земле и изумлённым дрожанием воздуха.
Все напились у родника и пошли дальше. А я осталась с замершим сердцем. Замерло оно потому, что чуть в сторонке от родника, среди голубых подснежников, росли два белых. Они стояли не совсем рядом, а на некотором расстоянии друг от друга, но на таком, что ясно было, что они принадлежат друг другу. Я стояла, боясь дышать, понимая, что неспроста эти белые души из сказок оказались около родничка, около ЖИВОЙ воды. И столько волшебной небесной музыки звучало вокруг, что сердце неспособно оказалось вместить всю эту красоту, и я заплакала…
В то время каждый шаг за порог дома был шагом в мир красоты и божественных запахов. Всевозможные травки, непохожие одна на другую, высокие травы, кустарники, повилика, мальвы, шиповник, бабочки – всё жило, дышало, переливалось красками, за всем этим была сказка, тайна…
А небо?! От нежнейших полутонов восхода до пугающих своими кровавыми красками закатов… Сколько часов провела я, лёжа в траве или на сене и наблюдая бесконечную игру облаков и туч.
Деревенские дети, даже если они живут в не очень благополучных семьях, гораздо счастливее городских. Эта слиянность с космосом и окружающей красотой чаще формирует характеры, глубоко нравственные по сути своей. И без этой слиянности не было бы таких солнечных всплесков, как Шопен или Есенин. Или Шукшин. И других детей добра и света…
А внутри дома красоты не было. С каждым месяцем жизнь становилась все труднее. Все, что колхозники производили тяжким трудом в своём подсобном хозяйстве, облагалось налогами, заготовками, поставками и бесконечными поборами под различными названиями. Эвакуированным давали хлеба, хотя и немного, а маме, соседке тете Дусе и другим, уехавшим в начале 30-х годов в Мурманск, ничего не давали, они считались местными.
Первый урожай картошки отбирали полностью для армии. Система поборов была хорошо продумана. В обозе были киргизы, они были безжалостны к русским и оставляли только чуть-чуть мелочи. Яиц и масла нам совсем не доставалось. Чтобы выполнить поставки, продавали что-нибудь из одежды и еще подкупали на базаре в Ржаксе. Мама Натаня на такие случаи знала множество частушек, я запомнила только одну:
- Привели меня на суд,
- Я стою, трясуся.
- Присудили сто яиц,
- А я не несуся.
Лето 42-го года было неурожайным на фрукты, а сдавать яблоки и вишни всё равно были обязаны с каждого дерева, и зимой 42–43 года почти все палисадники и сады были вырублены. Надо ли говорить о том, что творилось в душе хозяина или хозяйки, которые годами и десятилетиями холили каждое деревце, поливали его водой и потом…
Этой же зимой правление колхоза встало на постой в нашей избе. Оно переехало из мельниковского дома потому, что комнаты в нём были большие, потолки высокие, требовалось много дров, а их в колхозе было мало, как раз столько, чтобы протопить обычный дом. Правление разместилось в горнице. Там мы теперь только ночевали, а вся жизнь проходила на кухне. Навидались мы за зиму всяких уполномоченных и заготовителей столько, что на всю жизнь хватит ощущения жестокости и бесправия. Помню, как особенно зверствовал один, который выколачивал деньги на танк «Тамбовский колхозник». Было такое благое патриотическое деяние по всей стране… Из-за закрытой двери слышались крики, мат, стуки кулаков об стол. Редко кто, будь то мужик или баба, выскакивали из горницы без слез. Всем в пример ставили некоего Ферапонта Головатого из соседней области, он до войны продавал мёд и дал сумму, которой хватило на постройку целого танка.
А еще один заготовитель с навек перекошенным ненавистью к людям лицом собственноручно отсадил у дедова тулупа весь низ, да почему-то неровно. Это был последний тулуп, один на
всех, другие два отобрали ещё раньше. И дед, и мама Натаня умоляли его оставить тулуп, но их слезы не помогли. Разумеется, никаких квитанций не давали. Все прекрасно знали, как наживались на таких поборах эти недочеловеки, облечённые неограниченной властью военного времени.
В одном из наших учебников была картина кого-то из передвижников «За недоимки». На картинке было нарисовано, как барский приказчик уводит у крестьян корову. Я спросила у мамы, в чём разница между царским временем и теперешним. Мать побелела.
– Кто тебя этому научил?
– Никто не научил, вчера сама видела, как тулуп отбирали.
– Ишь ведь что удумала, пропастная! Да ты понимаешь, что ты нас всех загубишь?!
И она побежала в коровник к маме Натане. Я поняла по лицу мамы Натани, когда она пришла с подойником, что она всё знает и, улучив минуту, когда матери не было, подошла к маме Натане.
– Мама Натаня, так какая разница?
– Дочка, разницы никакой. Только раньше царь царём назывался, а теперь его вождём кличут. Прежний царь русский был, у него жалости к людям чуть поболе было, чем у этого грузина. Восточные люди – жестокие люди. Только тебе, дочка, об этом рано голову ломать. А если скажешь ещё где-нибудь такое, то и мамку и меня в тюрьму посадят, а то и расстреляют. Поняла?
– Поняла… Мама Натаня, значит, и Семёновну поэтому петь нельзя?
– Ну, смотря какую.
– Ну, вот эту:
- «Ах, Семёновну
- Все поют, поют,
- А за Семёновну
- Десять лет дают».
– Лучше не петь.
– А зачем же ты на ухо дяде Боре пела, я слышала?
– Да тоже по дурости. Чужих рядом не было, маленько выпили, как тут не попеть.
Но был среди уполномоченных по заготовкам один полковник, которого ирония судьбы занесла после ранения на эту собачью должность, но в котором обстоятельства не уничтожили человека и человеческую совестливость. Про него рассказывали, что он потерял в блокадном Ленинграде всю семью. Он убеждал колхозников тихим, совестливым голосом, и люди несли последнее.
О маме он сказал:
– Побольше бы таких женщин, такая удивительная.
Счетовод по прозвищу Кочучиха хохотала громоподобно:
– Эй, чёрт, в тебя влюбился полковник наш!
Много позже мама как-то призналась мне:
– Он ведь предлагал мне развестись и выйти за него замуж. Это ведь было моё счастье, своими руками я его оттолкнула.
В присутствии полковника даже наш председатель как-то смягчался. Председателем был Терентий Федотович, папин родной дядя. В гражданскую войну он был красным командиром, воевал против Антонова. Никто никогда не видел его улыбающимся. Он ни разу не посмотрел на нас, на детей. Он не выдал нам ни одного зерна, а ведь, небось, видел, чем мы питались. Один хлеб из горчичного жмыха мама Натаня перепекала три раза. Он расползался сырой массой, потому что горстки муки было недостаточно, чтобы тесто схватилось, а больше муки не было.
Всё, что можно было выменять на зерно или муку, мама выменяла. Свой шуршащий крепдешиновый плащ она отдала счетоводу Кочучихе за три пуда зерна. Этим зерном мы и спасались в зиму 42–43 года. Во время войны появилось много самодельных мельниц, почитай что в каждом доме были свои мини-жернова. Молоть зерно приходилось чаще всего нам, детям. Это была тяжелая и скучная работа, ныли плечи, зерно перемалывалось плохо. Куда больше мне нравилось пахтать масло. Делалось это простым способом. Сливки сливали в бутыль, бутыль встряхивали, ударяя о колено. Сначала в сливках возникали желтые кружочки, а потом из кружочков образовывалось масло. Было бы совсем хорошо, если бы мы это масло ели. Но нам оно не перепадало, всё шло на заготовки, спускали норму на масло, забирали и без всякой нормы, а если ещё что-то оставалось, то это масло обменивали на яйца – у нас было почему-то мало кур, – а яйца шли, опять же, на заготовки.
Питались мы плохо, но все же молоко нам, детям, доставалось. Что бы мы делали без нашей Голубки? Она давала хорошие, устойчивые надои. Мама Натаня приучила нас ещё в довоенные времена пить парное молоко. Оно всегда было разным, в зависимости от того, какую траву щипала сегодня Голубка. Иногда она ела полынь, и тогда молоко было горькое, хинное, и пилось оно с весельем, с мамынатаниными прибаутками. Голубка была умная, спокойная корова, но доиться она давалась только маме Натане, маму она за хозяйку не признавала. Она была розовой масти, среди других коров выделялась красотой, и похоже было, что она понимала свою особую стать, потому что выступала всегда с большим достоинством.
В это время появилась вынужденная – горькая и затянувшаяся на многие годы – мода держать по полкоровы. Одной хозяйке было не под силу прокормить корову и уплатить все положенные на неё налоги, вот и оставляли одну корову на два двора. Сколько тут было слез, и горя, и недоеда….
Людские характеры стремительно портились. Обнажалось то, что казалось уже забытым. Мама рассказала такой эпизод. Они работали бригадой в поле. После обеда в самую жару спали в тени дубов. Спали, спали, ну, у мамы с языка и свернулось:
– Бабы, пойдёмте, гляньте, солнышко уже где.
Ну, бабы и поднялись:
– А, нашлась какая ретивая работница! Мы тут хрип сломали, тринадцать лет работаем, а вы уехали, землю побросали, мы её обрабатываем, ничего не получаем, а вы там за мужней спиной сидели, теперь приехали и нас погоняете!
– Кто её побросал-то?! Мы что, добровольно её бросили?! Вы её у нас отняли, вы нас выгнали! На собраниях сидели, голосовали: «Раскулачить их!» Вам мало было земли?! Ну, вот и работайте
теперь, глаза ею засыпьте! По-другому теперь запели!
– Кто голосовал-то?
– Да вы же и голосовали! Забыла, как твой больше всех на собраниях горланил?!
Мама Натаня маму всю исщипала:
– Ты что, война, разве можно такие вещи говорить!
Бабы не прощали маме и соседке тёте Дусе их красивых платьев. Мама и сама была не рада, что остались одни нарядные, выходные платья, одежда попроще была изношена на работе в поле или выменяна на продукты. Да и ехали-то вроде ненадолго, много с собой не брали. Мама купила в Иванове-Вознесенске два прекрасных льняных платья с вышивкой. Эти платья вызывали особую ненависть. Бабы шипели вслед маме и тёте Дусе:
– Ишь, Клащёнка с Дущёнкой опять вырядились, барыни соколонские.
Справедливости ради надо сказать, что к чужим эвакуированным колхозницы относились хорошо, примирялись даже с тем, что, например, приехавшая из Москвы Настя Копытцева, по прозвищу Летучка, была назначена кладовщицей на складе картошки. Настя-Летучка была гулёна-баба. Бывало, прибежит к нам со свидания и говорит шёпотом, слышным на другом конце деревни:
– Барыня соколонская спит?
– Спит, – отвечает мама Натаня.
– Ой, тетя Натаня, какой же он честный! Я волнуюсь, а он меня не трогает… – это она об очередном хахале, которых она приманивала не только своими прелестями и доступностью, но и пышками из чистой муки. На пышки клюнул даже наш родственник и сосед, конюх дядя Ефтей Вавилов, человек положительный и степенный. Тетка Аксинья приревновала его при всем честном народе, и раздор между ними надолго затянулся. Бабы, которые остались без мужей, злорадствовали, это был бесплатный деревенский театр.
У тех, кто читает эти строки, может создаться впечатление, что в нашей деревне были одни плохие бабы. Это не так, хотя иногда крутые обстоятельства и хороших делали плохими. Как подумаешь, какая им досталась доля, то и перо останавливается писать о худом. О том, как работали наши женщины, хорошо написано у Абрамова, Белова и других так называемых «деревенщиков». Может быть, где-нибудь в мире и есть ещё женщины, которым приходилось бы столько много работать и так мало спать, но, по моему знанию мира, нет больше места, где бы женщинам-крестьянкам столько доставалось. Это их великим трудом кормились и выиграли войну солдаты, это они вытянули послевоенное лихолетье.
Война не дошла до нашей области. Правда, Тамбов бомбили, и бомбили много, но на нашу деревню ни одна бомба не была сброшена. Иногда пролетали самолеты, два раза за рощей совершали вынужденную посадку наши самолеты, чем доставили нам, детям, большую радость, в особенности мальчишкам, которые очень долго жили впечатлениями от этих событий.
Поползли слухи о дезертирах. Теперь взрослые запрещали нам ходить поодиночке или вдвоем-втроем в лес по ягоды или за водой к роднику. Говорили, что в Тоненькой прячутся несколько человек. А однажды, в начале лета, вся деревня ринулась на ржаксинскую дорогу.
– Дезертира убили! Ваньку-Шина убили!
Мы, дети крайних домов, прибежали на холм за Соколонским садом первыми. Около человека, лежащего лицом к земле, стояли два милиционера и несколько деревенских мужиков. Руки убитого были широко раскинуты и вцепились в чёрную землю. От затылка шла ржавая струйка запекшейся крови. Вновь прибегавшие становились кругом и переговаривались приглушенными голосами. Ванька Кулагин, по прозвищу Шин, был до войны первым трактористом. В последующие дни стали говорить, что прятался он у себя в подвале, кто-то увидел, донес, из Ржаксы приехали два милиционера, поймали его и повезли на Ржаксу. Официальная версия была, что он пытался бежать в Долгую, а неофициальная – что попытка бегства была просто инсценирована, а приказано было убить его по дороге, чтобы не доводить дело до суда и не привлекать к делу о дезертирстве внимание.
Был и еще один дезертир, Мишка Кузин. Он прятался у Шурки-Жаворонка, его не выследили, он досидел в подвале до конца войны, сдался сам, получил срок и отсидел его.
Война давала о себе знать и тем, что через ближайшие к нам станции Ржаксу и Чакино все чаще проходили составы с военнопленными. Женщины, приезжая со станции домой, жалостливо плакали, рассказывая о том, какие немцы, румыны и итальянцы худые и страшные, как они протягивают через решетки окон руки и просят: «Мамка, хлеба!» Теперь, когда снаряжалась подвода на станцию, тому, кто ехал, приносили из всех ближайших домов вареную картошку, свеклу, сухари, иногда хлеб, ещё реже – яйца. Рискуя жизнью, потому что охранники грозились, что будут стрелять и даже постреливали в воздух, женщины кидали в окна теплушек свои гостинцы.
Помню, меня тогда поразило, что мама Натаня, мама и другие женщины жалеют пленных. Ведь они только недавно убивали наших солдат, это ведь они мучили Зою Космодемьянскую. Но мама Натаня говорила:
– Да как же их не жалеть? Что же они, по доброй воле в солдаты пошли? Война, надо убивать, они и убивают. Если он не будет убивать, его самого тут же расстреляют. Вот ведь в чем бессмыслица. Да разве же человек для убийства рожден? Конечно, есть такие, что убивать рады, но ведь таких на все армии раз-два и обчелся. А все остальные – народ подневольный.
Много лет спустя я несколько раз встречала немцев, которые были у нас в плену. Все они, все без исключения, вспоминают о времени плена с теплотой. Последний из тех, с кем я разговаривала, был Рудольф Зоннет, второй председатель отделения общества «ФРГ – СССР», депутат рабочей палаты Бремена. Он рассказывал, что был на полусвободном режиме и мог ходить по нашим домам. Женщины делились с ним последним куском. Он сказал, что за всю жизнь не встречал столько хороших людей, сколько за время четырехлетнего плена в России и Казахстане.
Я знаю и таких немцев, которые подкармливали наших пленных и угнанных в Германию. Среди них были люди разного возраста, одни были во время войны детьми, другие взрослыми, но и те, и эти одинаково рисковали, потому что слишком ретивые соседи нацистских убеждений могли донести на них, делящихся хлебом с русскими. Наши пленные удивляли немцев тем, что среди них было много мастеров на разные поделки, игрушки, свистушки. А о наших женщинах вспоминают, что они поражали своим умением работать, не разгибая спины, и своей талантливостью по части всяких хозяйственных дел.
Рассказы о пленных на станциях Ржакса и Чакино повысили наш интерес к дяде Францу, австрияку, пленному ещё с первой мировой войны, которого судьба каким-то образом закинула в нашу деревню. Он женился в свое время на тете Вере, первой на селе красавице. Про неё рассказывали, что у неё необыкновенной красоты и силы голос, и сразу после революции к ней несколько раз приезжали из Тамбова и уговаривали её ехать учиться, обещали ей, что она будет петь в Большом театре в Москве. Но тетя Вера почему-то не согласилась. Хозяйство у них с дядей Францем было примерное, в хлевах всегда чисто, сад ухожен и огорожен аккуратным забором. Мы иногда просили дядю Франца сыграть нам на губной гармошке, и он выводил на ней то грустные, а то и очень веселые мелодии.
Дядя Франц был членом сельсовета, и это он в самое трудное время предложил создать при сельсовете библиотеку. Он ездил в Тамбов добывать книги и привёз очень хорошие. Этой библиотекой я пользовалась и спустя много лет, когда приезжала к крёстному на лето. В библиотеке была и одна их моих любимых книг – «Обрыв» Гончарова, которую я перечитывала каждое лето.
Дядя Франц предложил поставить маму Натаню спасать колхозных овец, когда они стали гибнуть в продуваемой всеми холодными ветрами овчарне. Мама Натаня только что не ночевала в овчарне и сумела добиться того, что овчарню подлатали, дали ей в помощники двух безответных женщин. Они брали на дом овец, мыли и расчесывали их, что казалось поначалу делом невозможным, настолько свалялась шерсть. И – овцы ожили. Маму Натаню премировали ягненком, который оказался необыкновенно смышленным и принимал самое активное участие в наших детских играх. Мы открывали дверь в горницу, бежали через кухню и горницу и прыгали на скамью, он делал то же самое, потом мы бежали назад и вспрыгивали на скамью в кухне – и он с нами. То-то было весело. А как весело было возиться с котятами или наблюдать, как они играют друг с дружкой или с мамой-кошкой. Но с кошками было не только веселье, а и разыгрывались самые настоящие драмы. Известное дело, кошки – народ плодовитый. И в деревне, где кошки есть в каждом доме и котят некому разбирать, обычным делом считается топить их или закапывать в землю. И вот однажды, когда наша Мурка в очередной раз окотилась, дедушка Федос позвал меня пойти с ним закапывать котят. Как только он предложил мне это, все во мне закаменело. Я поняла, что он это сделал неспроста, что он натаскивает меня на обычные крестьянские дела, поэтому не стала возражать и молча пошла за ним. Около ямки за хлевом я закрыла глаза и заткнула уши пальцами, ничего не слышала и очнулась только тогда, когда дедушка тронул меня за рукав.
– Пошли.
Думаю, что дед понял мое состояние, потому что долгое время спустя он особенно ласково ко мне относился. Но я ему этого не простила, и в будущем эти котята всегда стояли между нами. Вообще-то дед был очень хороший человек, за всю жизнь не сказал вслух ни одного чёрного слова, не сказал худого ни об одном человеке. У него была благообразная борода и седой венец вокруг головы. В это время он уже не работал в колхозе, мы оставались на его попечении, мама и мама Натаня были спокойны за нас. Дед был одним из немногих в деревне, кто выращивал табак. Обработка табака – дело сложное, но дедушка допускал меня помогать ему на всех этапах его приготовления.
В эти годы мы часто помогали взрослым и не только в домашних, приусадебных делах, но и в колхозе, в поле: сажали картошку, пололи ее, убирали, молотили хлеб, провеивали его, убирали подсолнухи, собирали колоски – одним словом, делали любую посильную работу, а таких в деревне много.
Однажды нас послали чистить свинарник. Он стоял на возвышении, и мы сносили навоз вниз, к кустарникам. Чуть подальше были заросли шиповника. Я очищала свой нос от запаха свинарника, вдыхая аромат цветов шиповника. И вот, нюхая цветок, я подняла глаза и – замерла от необыкновенного сочетания цветов. Свинарник был обмазан желтой глиной, она сияла на солнце и на фоне голубого неба, потом шла по-разному окрашенная масса зелени и, наконец, ослепительно прекрасная зелень шиповника в сочетании с розовыми цветами. И такое соседство – свинарник и шиповник… Я впервые по-настоящему, как-то пронзительно увидела, в какой божественный цвет окрашены эти дикие розы. И впервые мне захотелось остановить эту красоту. Я принесла домой несколько веток, поставила цветы в банку, а один – отдельно в стакан, и начала рисовать, благо у меня оказался розовый карандаш. Мне казалось, что получилось не очень плохо, и я понесла рисунок бухгалтеру Нине, с которой мы дружили, потому что я иногда помогала ей подсчитывать трудодни. Нина ничего мне не сказала, и взяла чистый лист бумаги, попросила мои карандаши, поставила перед собой шиповник и стала рисовать. Очень скоро я поняла, как плох мой рисунок, а чуточку позже увидела, что и рисунок Нины не передает и малой части той красоты, которую и излучал цветок шиповника. И тут я вспомнила, как выглядели цветы и фрукты на картине, которая висела у нас в Росте над кроватью. Картина так и называлась: «Цветы и фрукты», художник Хруцкий. Я часто и подолгу рассматривала раньше эту репродукцию, но тогда мне не приходило в голову, как много надо уметь, чтобы нарисовать так, что всё выглядело как в жизни, даже капли росы на фруктах и совсем живая муха. По-новому я увидела и портреты двух девушек, что висели у моей подруги Люси в прекрасных овальных рамах. Перед ними я тоже подолгу стояла раньше, пытаясь понять их тайну, угадать, какими были в жизни эти девушки и почему художник нарисовал их. Умом я, конечно, не понимала, что оба портрета написаны очень хорошим художником, но интуитивно чувствовала это, а через много лет даже осмелилась приписать их Маковскому.
А пока я побежала к Люсе и умолила тетю Симу снять портреты со стены, чтобы я смогла получше рассмотреть их. Я поставила портреты против солнца и увидела то, что на стене было незаметно: тонкие прожилки на виске у одной девушки, живость глаз, переходы одного тона в другой, нежную вязь мелких цветочков на чашке, которую одна из девушек держала в изящной руке. Люся сначала смотрела вместе со мной, потом ей это надоело, и она убежала в сад.
А я всё стояла перед картинами, впитывала их в себя всем своим существом, и постепенно во мне вызревало убеждение: я буду рисовать не хуже, я вырасту и буду, буду, буду рисовать!..
Я забросила чтение и стала пытаться перенести на бумагу всё, что находила красивым: розы, мальвы, ветки деревьев. И конечно, перерисовывала всё, что видела в учебниках и книгах. Получалось сначала плохо, потом всё лучше и лучше, я прикрепляла рисунки кнопками к стене горницы; публика, которая приходила в правление – оно доживало в нашем доме последние дни, – подогревала своими похвалами мои старания. Когда у меня стало получаться не хуже, чем в книжках – по крайней мере, мне казалось, что не хуже, – к тому же, кончились не помню откуда взявшиеся краски, и больше красок не было, – я слегка поостыла и стала снова много читать. Но уже с тех пор и до определенного возраста я рисовала каждый день хоть что-нибудь. Я очень сердилась, когда у меня что-то не получалось. Однажды мне довелось наблюдать редкое по красоте зрелище. Была сильная гроза. Дождь как-то внезапно кончился, и я вышла из дома. Сквозь лохмотья туч проглядывало солнце, в воздухе струились испарения. Когда я зашла за дом и взглянула в сторону рощи, все во мне затрепетало. Над живым зеленым массивом взбегающей на холм рощи стояла темно-серая, почти черная туча, и всё это опоясывала радуга невиданной до сих пор интенсивности. Я стала смотреть то вперед, то назад. Контраст между солнышком и голубыми клочками неба с одной стороны и черной тучей и отмытой рощей – с другой – был воистину сказочный. Всё вокруг вибрировало. Я бросилась в дом и стала рисовать тучу, радугу и рощу. Всё получалось мертвым. После нескольких попыток я разорвала всё, что нарисовала, и долго после не прикасалась к краскам. Когда много лет спустя я увидела в Русском музее волшебника Куинджи, у меня подкосились ноги от сходства некоторых его картин и того, что я тогда увидела. А еще позже узнала, что то, что я безуспешно пыталась перенести на бумагу, называется сфумато и дается далеко не всем даже очень хорошим художникам.
Каждый день мы играли в куклы. Настоящих кукол у нас не было, мы их шили из тряпок и сами разрисовывали. Когда я стала рисовать, лица у меня получались лучше всех, и ко мне стали приходить девочки со всей деревни, я всем их куклам раскрашивала лица. А еще мы играли казанками. Казанки – это кости бараньих ног. Они слегка напоминают кукол, и они у нас были детьми. Мы с Люсей обычно располагались с нашими куклами под кустами смородины или на одной очень развесистой и удобной для игр яблоне.
Настоящим праздником для меня было, когда мама Натаня была свободна и открывала один из двух сундуков. В сундуках были сказочные вещи из еще дореволюционных времен: шелковые шали с кистями и без кистей, невиданные шелковисто-шерстяные юбки, газовые шарфы, кисейные покрывала, кружевные косынки. Путешествие в сундуки каждый раз кончалось тем, что мама Натаня давала мне какую-нибудь тряпку для кукол. Я говорила, что никогда не перестану играть в куклы, даже когда буду совсем взрослой. Боже мой! У меня так и не было никогда куклы с закрывающимися глазами! Все детство пришлось на предвоенную бедность, военное горе и недостатки послевоенных лет. Но в сорок третьем году довоенное время не казалось нам бедным. Наоборот. До войны были ириски и мороженое, горчичные булки и халва, до войны по трудодням выдавали арбузы и мёд, до войны было туалетное мыло и духи. Однажды мы с Люсей решили сделать нашим матерям подарок и изготовить духи. В сарае у дедушки мы разыскали подходящие бутылочки, набили их разными цветами, залили водой и поставили настаиваться. Когда через несколько дней мы понюхали наши бутылочки, вонь была такая, что меня вырвало. Наверное, моё эстетическое чувство было так глубоко оскорблено, что силы равновесия в природе одарили меня тем, что всю мою сознательную жизнь добрые западные волхвы дарят мне французские духи. Их иногда скапливается так много, что, когда у меня бывает плохое настроение, я устраиваю на ночь дегустацию запахов. Большинство хороших французских духов имеет четко выраженную зеленую ноту, и запах березок, весеннего леса возвращает мне утраченное детство, переносит меня в тамбовские леса и поля…
В тамбовском лесу и случилось со мною событие, которое иначе, как сказку, как чудо, как знамение я рассматривать не могу. Произошло это летом сорок третьего года. Я уже говорила, что мы, дети, не заходили в лес дальше родника. Не ходили потому, что дальше лес был темный и страшноватый, не было в нем тропинок, за войну расплодились волки, в лесу, по слухам, прятались дезертиры. Но как-то люсина мама, Лидия Ивановна, собралась ставить самовар под свежее варенье, и мы пошли с нею за водой к роднику. Лес был тихий и влажный, потому что утром шёл дождь. Около родника Лидия Ивановна предложила оставить вёдра в кустах и пойти посмотреть, нет ли поблизости костяники с ежевикой. Наверно, ягоды были, потому что, аукая и перекликаясь, мы подразбрелись друг от друга. Неожиданно густой лес кончился, и я оказалась на небольшой поляне. Она была в лёгком тумане и вся пронизана дождевыми прозрачными нитями. Посреди поляны стояла яблоня, и на ней, на уровне моей руки, висело серебряное яблоко, У меня перехватило дыхание, в голове завертелись строчки из сказки о семи богатырях. Я обошла вокруг яблони, заглянула под нее. Яблок больше не было ни на яблоне, ни под нею. Я протянула руку, сказала про себя: «Господи, благослови!» – и сорвала яблоко. Оно было действительно как серебряное, сродни серебристому туману на поляне, местами прозрачное, так что даже виднелись черные косточки. Всем существом понимая, что яблоко предназначено мне, я надкусила его. Вкус у него был тоже необычный, с привкусом росы. Я быстро съела его, положила огрызок в карман и только тогда откликнулась на ауканье Лидии Ивановны и Люси. Я ничего им не сказала про яблоко. С нетерпением дожидалась, когда мама Натаня и мама придут с поля, побежала за мамой Натаней в хлев и, волнуясь и заикаясь, рассказала ей всё с подробностями и показала ей огрызок. Мама Натаня выслушала меня со вниманием, сказала: «Ну, дочка, это неспроста» – и посоветовала закопать огрызок в палисаднике. Мы решили ничего не говорить маме из боязни, что она не поверит, что яблоко было единственное и не дичок, какие обычно растут в лесу.
Я плохо спала в эту ночь, а днем побежала в библиотеку и попросила сказки Пушкина. А у дедушки взяла Библию, которую и раньше почитывала, и нашла то место, где рассказывалось о грехопадении Адама и Евы. Несколько дней я пыталась проникнуть в тайну МОЕГО ЯБЛОКА, ничего не придумала, а потом события реальной жизни, сборы в дорогу, чистка огромного количества картошки для сушки вытеснили из моего сознания волшебную историю с яблоком.
На некоторое время у меня возник интерес к Богу. Он подогревался тем, что в эти дни недалеко от деревни остановился цыганский табор. Цыгане продавали и обменивали на продукты кресты и бисер. Мама Натаня дала мне пол-литра молока, и я обменяла его на медный крест. Но крест на себя я так и не надела, может быть, потому, что он был не очень-то красивый, может быть, оттого, что он неприятно пахнул медью.
На другой стороне улицы, наискосок от нашего дома, жили в полуразрушенном доме брат и сестра Егор Уварович и Марья Уваровна. Они были не исконно лукинские, держались как-то особняком, в колхозе не состояли, так как были уже очень старые. Марья Уваровна зарабатывала себе на жизнь тем, что отпевала покойников.
Их тоже в свое время раскулачили наполовину, и уцелевшая часть дома – а большая часть дома была разрушена во время коллективизации – когда-то была кухней. Сарая у них не было, и всё, что в деревнях хранится в сараях, было сложено у них там же, где они и жили. Оставалось немного места около печки и стола со скамьями. Если все в нашей деревне были бедными, то их бедность была абсолютной. И странным было то, что над чернотой и серостью, над пылью и грязью их дома царственно сияла в тяжелой золочёной раме репродукция с картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Она-то и привлекала меня в их дом. Марья Уваровна рассказывала мне об апостолах, нарисованных на картине, зачитывала отрывки из Евангелия. Но было в ней, в них обоих что-то, что я не могу себе и до сих пор объяснить, что мешало мне поверить в существование их Бога. Куда понятнее был мне Бог мамы Натани. Её Бог был веселый. Она иногда говорила: «Господи, помилуй хвостиком по рылу», и Бог её за это не наказывал, потому что он знал, что мама Натаня хорошая. Она защищала меня каждый раз, когда мама пыталась меня за что-нибудь наказать, например, за то, что я, иногда заигравшись, забывала почистить картошку. Я не очень сердилась на маму, потому что была виновата и ещё потому, что маме приходилось трудно в это время. Дело в том, что в деревне происходила тяжелая борьба с того момента, когда маму весной сорок третьего года назначили на пчельник пчеловодом. Она была хорошим пчеловодом и хорошим помощником Евдокии Ивановой по прозвищу Дроздиха. Но деревенские бабы взбеленились: «А, она там, в Мурманске, барыней сидела и тут наш колхозный мёд ест!» Сельсовет отказался снимать маму, район тоже, кто-то стал донимать начальство письмами и заявлениями, приехало областное начальство, на собрании опять подняли вопрос о пчельнике, и мама написала заявление об уходе.
За все три месяца работы на пчельнике мама всего один раз принесла немного меда в сотах. Это было на пасху. Мёд ели тайком от Стасика, потому что бабы не раз допытывали его: «Что, мать приносит домой мёд?» А кроме того, однажды, рассердившись на маму за что-то, он заявил ей:
– Вот я скажу Терентию Федотычу, как ты с поля колоски приносила.
Бабы ликовали: «Наша взяла!» Эта их «наша», которая сменила маму, каждый день мёд домой таскала, как это, впрочем, делала бы любая на её месте. Будешь таскать, если на трудодни ничего не выдавали.
Летом сорок третьего года стало ясно, что следующую зиму нам без хлеба не прожить. Всё, что можно было выменять на хлеб, было уже выменено. И было ясно также, что войну мы выиграли. И хотя на севере Мурманской области еще были немцы, мама решила вернуться в Мурманск. Отец отказался прислать вызов. Его прислал брат мамы, дядя Саша, который жил в нашей квартире в Росте, потому что в это время отец работал снова в поселке Дровяное, на плавучей базе ремонта судов, или «плавучке», как её называли.
Мы стали собираться в дорогу. Сушили картошку, морковку, лук. Накануне и в день отъезда приходили прощаться с мамой все те, кто хорошо к ней относился и даже те, кто не хотел видеть её работающей на пчельнике. Бабы плакали, совали кто яйца, кто картошку, а кто и вареную курицу. Машутка Буздалина плакала навзрыд и повторяла:
– Ну вот, была на всю Ульяновку одна хорошая женщина, и та уезжает.
Каким-то подсознательным чувством понимая, что с деревенской жизнью я расстаюсь навсегда, я с особой остротой воспринимала в эти последние дни красоту восходов и закатов, уют крыловского сада, отражения ветел в речке, торжественность Соколонского сада…
Ехали мы долго. Ленинградская область была всё ещё занята немцами, и поезда на Мурманск шли через Вологду. Вагоны были набиты самым разношерстным людом. Тогда умудрялись спать даже на третьих, багажных полках. Нас со Стасиком брали спать офицеры, занимавшие вторые полки. Один из них настаивал на том, чтобы мама ложилась на его место, но она не соглашалась, коротала ночь вместе с ещё одной женщиной на нижней полке, а днём отсыпалась на верхней. На станциях подолгу стояли, бегали за кипятком, приносили вареную картошку, огурцы и грибы.
Мама заметно нервничала всю дорогу, потому что на нас со Стасиком вызова не было, а только на неё.
Пропускной пункт был, на моей памяти, в Кандалакше, на маминой – в Малошуйке. Пришел в вагон офицер с двумя солдатами и стал проверять у всех право въезда в Мурманск. Какая судьба хранила нас, в какой мере помогли мамины глаза, в которых было написано всё, что сказал наш офицер-хранитель проверяющему, но нас не сняли с поезда. А других ссаживали.
Потом уже отец целых два месяца хлопотал, чтобы нас прописали.
В Дровяное мы прибыли на катере поздно вечером, почти ночью. Тогда, в 43 году, Мурманск и близлежащие поселки работали по режиму военного времени, работать по-настоящему начинали примерно с шести вечера, когда немцы переставали бомбить, Рабочие плавучки днем отсыпались или играли в сопках в «очко» или в «буру».
Отец жил теперь в верхнем бараке. Комната была небольшая, но вскоре нам дали самую большую в этом же бараке. Она была напротив комнаты, в которой размещалась матросская библиотека – моё будущее счастье.
За водой надо было спускаться к нижнему бараку, около которого была колонка. Спускаться было легко, но вот подниматься по плохо сколоченным ступеням тяжело, особенно зимой.
Когда наутро после приезда я вышла из барака, у меня заныло сердце от некрасивости серых скал, серой воды, серых домов, бурого мха. И лишь постепенно, после нескольких вылазок за ягодами, после того, как я перестала сравнивать всё, что видела, с красотой родной деревни, а стала просто воспринимать окружающее так, как оно было, я начала ценить неброскую красоту, неяркие краски северной осени.
Школы в Мурманске и Дровяном не работали, и мы с мамой начали собираться в глубь полуострова, в Кандалакшу, куда были отправлены мурманские школы. Мы приехали туда утром, оформили в гороно положенные документы. Нам дали направление в баню-санпропускник и талоны на обед. Накормили нас хорошо и выдали ещё по большому куску белого мягкого хлеба.
После обеда мы пошли устраиваться в интернат. Нас окружили шумные, весёлые ребята. Они расспрашивали о Мурманске, наперебой рассказывали о своей жизни, о том, как они дерутся между собой.
– Тетя, мы подерёмся, но мы и миримся очень быстро, – весело сказала одна особенно бойкая девочка.
Я не поднимала глаз и не проронила ни слова, разговор вела мама. Она сказала воспитательнице:
– Ну, мы ещё походим, а к вечеру придем.
Мы вышли, и мама сказала:
– Дочка, не оставлю я тебя. Они тебя заклюют. Или станешь сама такой же хабалкой, неизвестно, что хуже.
И только тут я расплакалась и от пережитого шума и гама, и от ужасов, которые я успела нарисовать в своем воображении, и от благодарности к маме, которая так чутко уловила моё настроение и мои страхи. Первым же поездом мы вернулись в Мурманск.
И начался по-своему счастливый год, свободный от скучных и обязательных занятий, но заполненный чтением, рисованием и – музыкой. Да, той музыкой, которую передавали по радио. В деревне радио не было, а перед войной мои уши были ещё закрыты для звуков. Особенно любила я музыкально-образовательные передачи и концерты-загадки. Иногда, когда я играла на улице, меня звала мама:
– Ната, иди скорей, там опять твои симфонии передают.
Симфониями она называла всё, что не было песнями. Трудно передать словами, что творилось со мной, когда я услышала Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского. Несколько дней и ночей душа моя вибрировала, я плохо спала, и в ушах всё звучали самые памятные места концерта. Тогда, слава Богу, классическую музыку передавали чаще, чем теперь, и практически каждый день приносил новые музыкальные переживания. Когда дома никого не было, я пела вполголоса одновременно с радио какую-нибудь арию или проигрывала на столе фортепьянную пьесу. Я полюбила всякую музыку, в том числе и песни, в первую очередь – народные. Я никогда не понимала и не пойму тех, кто
любит только рок, только бит, только классику, только что-то одно в ущерб другому. У таких людей где-то нарушена внутренняя гармония, и мне их искренне жаль. Я завидую теперешнему детству и отрочеству с их проигрывателями и магнитофонами, с их плёнками и кассетами. А у нас был всего лишь скрипучий патефон с несколькими пластинками. Но, может быть, оттого, что прекрасного было тогда так мало, оно западало в душу и понуждало её трудиться…
Не менее сильно я пережила в ту зиму иллюстрации Врубеля к «Демону». Книгу Лермонтова я взяла не в библиотеке, а у наших соседей по бараку, Мурадянов. Муж и жена Мурадяны работали инженерами на плавучке. У них была небольшая, но очень хорошая библиотека. Это у них я впервые увидела старинные кожаные фолианты с золотым тиснением. Они поразили меня и казались мне живыми существами, ведущими свою непонятную людям жизнь. Мурадяны доверяли мне свои книги, потому что видели, как бережно я их перелистываю. Лермонтова я читала ещё в деревне и многое знала наизусть, но врубелевские иллюстрации открыли мне мир, о котором я и не подозревала. «И – чудо, из померкших глаз слеза тяжелая катится»… «Как пери спящая мила, она в своем гробу лежала»… Разумеется, я принялась копировать каждый рисунок и успокоилась только тогда, когда мои труды похвалили Мурадяны и дали мне для чтения и копирования «Витязя в тигровой шкуре» с прекрасными, но холодноватыми иллюстрациями Табидзе. А Лермонтов, увиденный и почувствованный Врубелем, надолго оттеснил на второе место Пушкина…
Как-то отец сказал мне, что у них на плавучке есть художник, и что он хочет посмотреть мои рисунки. Я отобрала несколько, и отец понес их показывать. Вернулся он с работы очень гордый и сказал, что Костя не верит, что мне десять лет. Отец сказал, что на днях сведет меня к дяде Косте знакомиться.
Дядя Костя оказался весёлым, смуглым и черноволосым молодым человеком. Фамилия его мне не понравилась – Жеребцов. Потребовалось некоторое время, чтобы я к ней привыкла. Дядя
Костя занимал большую каюту. Позднее я узнала, что она была переделана из двух и называется мастерской. Всё тут было невиданно: мольберт с портретом Сталина на нём, рамы, холсты, множество кистей, баночек и тюбиков с красками. Стоял специфический запах.
Дядя Костя стал о чем-то расспрашивать меня, я стеснялась отвечать, но он быстро разговорил меня и предложил мне для начала приходить и смотреть, как он будет работать. А там, мол, видно будет. Он сказал, что сейчас занят оформлением плавучки ко дню октябрьской революции, поэтому рисует портреты и пишет плакаты. А после праздников будет писать натюрморты. Я было хотела поправить его, что, дескать, «писать» можно письмо или сочинение, а натюрморт рисуют, но удержалась. Потом я привыкла к этому понятию. Но еще позже оно мне опять стало казаться чужеродным, и такое выражение, например, «он пишет её портрет» – кажется мне и теперь нарочитым, и я ничего не могу с этим поделать.
Я боялась помешать дяде Косте, и вначале приходила к нему реже, чем мне этого бы хотелось. Я не надоедала ему расспросами, а стояла или сидела у него за спиной и смотрела, как он делит полотно на клетки, как смешивает краски, как натягивает красное полотнище на деревянные рамы. Я поражалась тому, как много в его работе общего с тем, что делал папа Ваня.
Я с нетерпением ждала того дня, когда дядя Костя примется за натюрморты. Перед самым праздником я заболела, недели две в мастерскую не ходила, а когда пришла, то первое, что увидела, открыв дверь, был маленький, по моему росту, мольберт. Я вскрикнула «Ой!» и бросилась дяде Косте на шею. Он радовался вместе со мной. Но к мольберту я встала ещё не скоро. Несколько недель я осваивала основы ремесла, а больше наблюдала за тем, что делает дядя Костя. До войны он оформлял в Москве рестораны и рынки и неплохо этим зарабатывал. Он получал хорошие заказы и в Мурманске, писал натюрморты для ресторана «Арктика», для столовых. Он не был художником – это я поняла позднее – в высоком смысле этого слова, он был художник-ремесленник, но своё ремесло знал хорошо. Я так и не узнала, делала ли он что-нибудь для себя, для души. Наверно, делал, потому что пару раз он упоминал, что до войны выставлялся в Москве. Свои натюрморты он создавал двумя способами. У него был большой ящик с муляжами фруктов и овощей, настоящий сад-огород. Муляжи были великолепно сделаны, но что-то было в них отталкивающее, как в нарумяненных столетних старухах. Дядя Костя компоновал из муляжей, горшков и тканей различные композиции и натаскивал меня на них. Он довольно часто хвалил меня, говорил о врожденном чувстве композиции и о том, что я всё схватываю на лету. Я равнодушно относилась к этим похвалам, мне казалось, что иначе и быть не может. Но дядя Костя хвалил меня и отцу, и тот необыкновенно этим гордился и не упускал случая похвастаться моими способностями перед своими друзьями.
Другой способ дяди Кости был ещё проще: он перерисовывал репродукции, иногда ничего не меняя, иногда добавляя что-нибудь от себя. У него было много открыток с натюрмортами. А ещё было множество открыток с пейзажами. Дядя Костя говорил, что когда кончится война, он пригласит меня в Москву и поведёт в Третьяковскую галерею. Только там я пойму, какие были на Руси художники, только там я почувствую, как дышит живая картина. А пока были репродукции… И редкие книги о художниках, о музеях. Перед тем, как заснуть, я воображала, как хожу по Третьяковской галерее, останавливаюсь перед пейзажами Васильева, Саврасова и разговариваю с ними.
Иногда к дяде Косте заходил дядя Коля, тоже художник. Они затевали профессиональный разговор, в котором я мало что понимала. Дядя Коля обитал в одном из частных домов выше за клубом. Он жил гражданским браком с сестрой моей довоенной подружки Мани Ратахиной. Но я у них не была, потому что Маня еще не вернулась из эвакуации. Время от времени дядя Костя уходил к дяде Коле ХАЛТУРИТЬ. Я долго не понимала, что это означает,
но стеснялась спросить. Выяснилось все, когда приехала Маня. Халтурили они, рисуя ковры на простынях. Это не были знаменитые лебеди и красотки у озера. Они рисовали вполне пристойные пейзажи. И заказчики у них были приличные, из офицерского каменного дома и из Мурманска. Через пару лет у них появилась могучая конкуренция из ярославских красилей. Те в короткий срок заполнили весь посёлок лебедями, красотками и оленями.
Как-то я пришла в мастерскую и узнала, что у дяди Кости недавно был в гостях американский матрос Джим. Он – художник кино и работает в Голливуде, знаменитой американской фабрике фильмов. Вместе с американцем приходил Виталий Александрович Белянин, главный инженер плавучки, который говорил по-английски. В это время плавучка ремонтировала одно из американских конвойных судов, и поселок уже привык к американцам. Было известно о паре отнюдь не союзнических драк, возникавших на почве ревности к прекрасным дамам, которых в поселке было явно недостаточно.
Через несколько дней я увидела Джима, и он мне сразу понравился. Он был высокий, сухощавый и очень хорошо улыбался. Так как языка для разговоров явно не хватало, его заменяли улыбки обеих сторон. Виталий Александрович заходил иногда ненадолго. Он перевел слова Джима о том, что тот телеграфировал своему другу в Америку и попросил его привезти краски, кисти и репродукции. Друг должен был придти в Мурманск с одним из следующих конвоев. Джим постоянно заходил к дяде Косте, и они каким-то образом умудрялись говорить друг с другом. Джим оказался способным к русскому языку, а так как ремонт их судна длился довольно долго, то к концу пребывания в Дровяном Джим сносно объяснялся по-русски. Виталий Александрович принес дяде Косте самоучитель английского языка, состоящий из готовых словесных блоков, словари и словарики, и дядя Костя много внимания уделял языку. Я тоже исписала целый блокнотик английскими словами, и Джим с удовольствием поправлял моё произношение, а я – его. Джим приносил дяде Косте и мне американские журналы. Блестящие яркие страницы не могли не поражать. Но моим любимым журналом стал менее яркий толстый журнал, на обложке которого была фотография очень красивого и очень породистого молодого человека и надпись: Боб Тэйлор. Весь журнал был посвящен Роберту Тэйлору, которого через несколько лет я увидела в фильмах «Мост Ватерлоо» и в «Даме с камелиями».
Месяца через полтора пришел конвой, и Джим принес большую сумку с масляными и акварельными красками, кистями, альбомами и открытками. Тюбики и коробки с красками были тоже яркими, блестящими, краски очень чистыми, пожалуй, чересчур яркими, и дядя Костя долго привыкал к ним. Джим подарил мне большую коробку с акварельными красками и кисточку, которая оказалась просто удивительной, какой-то универсальной, ею можно было делать широкие мазки и тоненькие черточки. Черточки получались после обработки кисточки губами. Краски были сладкими, медовыми, как и те, что мне дарил дядя Костя.
Америка на глянцевых открытках-гармошках поразила меня. Флорида, Майями, Сан-Франциско, Нью-Йорк, буйство красок неба и моря, цветов и архитектуры – всё это было так непохоже на окружающую нас действительность.
Внимание взрослых на несколько дней заняли другие открытки и репродукции в альбомах, посвященных американским и европейским художникам. Это были беспорядочные пятна, то напоминавшие палитру, то как будто бы нарисованные детской рукой неопределенные предметы. Я спросила:
– Это взрослые рисовали?
Джим рассмеялся:
– Да, взрослые, которые навсегда хотели бы оставаться детьми.
Дядя Костя разъяснил мне, что так некоторые художники рисуют после 1911 года, что такие картины впервые выставил русский художник Василий Кандинский, что такая живопись называется абстрактной. Кандинский мне не понравился, а вот Хуан Миро и Пауль Клее – очень. Я сказала дяде Косте, что в них есть что-то смешное, и он восхитился:
– Слышишь, Джим, ребенок, а как верно она схватила суть того и другого! Умница ты моя!
Накануне отплытия Джима в Америку ему устроили пышные проводы. Дядя Костя достал где-то красную икру, наловил рыбы, дядя Коля принес грибов, я – моченой брусники, Джим – яичный порошок и ананасовый компот. Виталий Александрович переводил по мере надобности, взрослые спешили высказаться, перебивая друг друга. Все плакали, когда настала минута прощанья.
Долго ещё потом вспоминали Джима. Бывали позднее у дяди Кости и другие американцы, но такой дружбы больше ни с кем не возникало.
К этому же времени относится собирание киноленточек. Мы их добывали простейшим способом. Уборщица выбрасывала мусор из матросского клуба и кинобудки, в этом мусоре мы и отыскивали киноленточки. Обменивались друг с другом. Особенно ценились крупные планы, их мы хранили в отдельных коробочках. Прекрасная жизнь началась тогда, когда киномехаником стал Егор, Жора, брат моей подружки Зои. Он вырезал нам крупные планы, и мы с Зоей были счастливы. Один из киномехаников, разбитной парень Алёша, матрос, был из Москвы. Он с детства знал английский язык. Получастно, полуофициально он установил контакт с американской миссией в Мурманске и привозил оттуда фильмы. Это были первые цветные фильмы в жизни любого из нас, и они взбудоражили весь поселок. Мы смотрели их по несколько раз. «Ночь над Майами», «Кровь на песке», «Аргентина», диснеевские фильмы, Кларк Гейбл, Эролл Флин, Тайрон Пауэр, Рита Хэйуорт, то же буйство красок, что и на открытках, но гораздо более жизнеподобное, потому что все это было помножено на магию кино. Я забредила Америкой. «Когда вырасту, уеду в Америку», – твердила я. Отец проводил со мной душеспасительные беседы:
– Ты что же, думаешь, что они все так живут, как в «Ночи над Майами»? Это же курорт миллионеров. Небось, фильмы о безработных они не делают.
Но я не сдавалась:
– Все равно уеду.
Некоторое время спустя Алёшу постигла кара. Как говорили у нас в посёлке, с Алёши содрали лычки и медали. Считалось, что он еще легко отделался, могли и посадить.
В эти годы у нас в жизни было много американского. Карточки отоваривали чаще всего американскими продуктами: соей, кукурузной крупой, шоколадом, яичным порошком, сухим молоком, тушёнкой, колбасой в банках. Существовал на плавучке какой-то распределитель ленд-лизовской одежды. Отец получил из этого распределителя два прекрасных пальто: одно кожаное, другое из верблюжей шерсти, а я несколько лет носила твидовое серое пальто и туфли на деревянной подошве. А ближе к окончанию войны поселок буквально заполонился американской одеждой и продуктами. У нас в поселке была база ЭПРОНа. Эпроновцы работали по поднятию полузатопленного американского транспортного судна и тащили с него всё, что можно было украсть. Наворованное эпроновцы меняли на водку. Водку мы, жители поселка, получали в обмен на сданные ягоды. Основная масса одежды и продуктов оседала в нижнем бараке и домах на берегу залива. До нас, до верхнего барака и до верхних домов, доходили только остатки. Но и этого было достаточно, и мы все, взрослые и дети, несколько лет щеголяли в невиданно красивых платьях, пальто и туфлях. Эти вещи прислали из Америки не по ленд-лизу. Это были пожертвования населения Америки, собранные Красным Крестом.
Я тогда думала так: если такие прекрасные вещи являются нормой для американцев, то как же хорошо они должны жить. Значит, в фильмах не такая уж неправда, как в этом меня пытался уверить отец.
Однажды из нижнего барака прибежала запыхавшаяся подружка:
– Проси у матери водку, там принесли балетное платье, недорого отдают, за маленькую, всё равно никто не берет.
Мы побежали вниз. На кровати лежала воздушная белоснежная масса неописуемой красоты, будто сошедшая с фотографий Анны Павловой.
– За сколько отдадите? – спросила я, боясь услышать в ответ «пол-литра».
– Я сказал, за маленькую, мое слово – олово, – ответил мордастый эпроновец.
– Я вас умоляю, никому не отдавайте, я выпрошу у мамы маленькую, я сейчас вернусь.
Я кинулась назад. К счастью, мама была дома. Я со слезами на глазах стала упрашивать ее. Мама не очень понимала, о каком платье идет речь, но четвертинку мне дала. Разумеется, платье оказалось мне велико. Мама ушила его в боках, и несколько вечеров подряд я становилась на цыпочки и танцевала не столько ногами, сколько руками перед благодарной публикой из нашего и нижнего барака. Тетя Надя сказала, что платье называется пачкой.
Комната у нас была просторная, и я ещё не раз что-нибудь показывала, благо зрители просили об этом.
Как-то у нас выступала концертная бригада из Москвы. Я была два раза на концерте, потом его передали по радио. Этого хватило, чтобы я выучила наизусть весь концерт, все мужские и женские номера, от «Бескозырки» до конферанса. Конферансье выступали вдвоем, у них был, в числе прочего, такой вот текст песенки:
- Всё всегда мы с ним делили пополам,
- Ели хлеб, табак курили пополам.
- До сих пор мы не забыли,
- Что когда моложе были
- Даже девушек любили пополам.
И еще:
- И в одном хорошем деле
- Десять суток нам пригрели.
- На «губе» мы отсидели пополам.
Что бы еще я ни исполняла, больше всего мне почему-то хлопали за эту песенку…
Осенью сорок четвертого года в Дровяном открыли начальную школу. К этому времени съехалось довольно много детей. Мурманск бомбили уже сравнительно редко, а в октябре началось наступление наших войск на Петсамо и Киркенес. Мимо Дровяного вилось по сопкам шоссе, и через нас проходили основные силы армии. Мы бегали смотреть на маршала Мерецкова. Он остановился на квартире у офицера Лизунова, которого дружно ненавидело все население Дровяного. Лизунов отправлял матросов на гауптвахту за малейшую провинность, и поговаривали, что расправа над киномехаником Алёшей – тоже его рук дело. Лизунов и его жена по прозвищу Лизуниха и до этого-то редко кого удостаивали взглядом, а тут уж они и вовсе загордились – как же, предварительно посланные адъютанты из всех квартир офицерского каменного дома выбрали именно их.
В армии было много девушек, особенно санитарок и зенитчиц. Их почему-то звали эрзацами. Они размещались на ночлег по всему поселку. Мест иногда не хватало, и тогда они спали даже в коридорах барака. Наши матери жалели их и устраивали, как могли, их мытье. А девушки жалели нас, детей, и угощали нас сахаром и сухарями.
Девушки-зенитчицы сманили мясом нашего кота Ваську. Мы сами этого не видели, а соседи видели, как кот увязался за ними.
Когда после разгрома немцев войска двинулись назад, была уже зима. Мы бегали к шоссе и наблюдали, как двигались танки, зенитки, полевые кухни, как шли замученные и почерневшие солдаты. Снова в наших бараках ночевали девушки-солдатки. А в рационе у нас появились немецкие галеты, немецкий хлеб, лук и сало, которое называлось странным именем «лярд». Мама жарила лук в лярде, они с отцом макали в это жарево хлеб и ели, и пытались уговорить нас со Стасиком, но мы не любили лук еще с довоенных времен и, даже полуголодные, отказывались от него. Чаще всего мы со Стасиком мечтали о хлебе: «Я съела бы буханку»… – «А я бы две буханки»… Мы не понимали, почему мама сердилась, когда слышала это от нас. Поэтому мы при ней не мечтали. Она некоторое время по приезде работала официанткой при штабе, в офицерской столовой. Мама приносила нам кое-какую еду и этим здорово нас поддерживала. Только спустя годы и годы она объяснила нам, почему сама никогда не ела то, что приносила. Она видела, КАК это готовилось. У них был феноменально нечистоплотный повар, и мама брезговала. Она рассказывала позднее, что среди офицеров были разные люди, точнее сказать, были люди, а были и нелюди. Особенно двое изводили официанток мелкими придирками – не с той стороны суп подала, не так ложку положила.
– Не так ложку положила!… Сам, небось, дома лаптем щи хлебал, – мама сердилась и много лет спустя, – думаю, знал бы ты, что ешь. Наш повар ни разу после уборной руки не вымыл. Подбросит в плиту уголь и этими же руками винегрет мешает. Тьфу! До сих пор тошно!
Поэтому мать хоть и огорчалась за нас, но не слишком, когда ей пришлось уйти по «собственному желанию». В это время стали съезжаться к офицерам жены, и им понадобились места работы. Мама устроилась тут же, при штабе, телефонисткой, по своей довоенной специальности. Стало голодновато, особенно недоставало хлеба. Но это продолжалось не очень долго. Пищевое подкрепление пришло неожиданно, с отцовской стороны. Он был человек молодой, энергичный, и его уговорили стать по совместительству, на общественных началах, начальником подсобного хозяйства. Собственно, хозяйства еще не было, его надо было создавать. И отец горячо взялся за дело. Он раздобыл где-то два деревянных бота, подремонтировал их, подобрал команды, и дела в столовой на плавучке повеселели, рыбы стало вдоволь. Отец завел несколько лодок на озерах, были у него в хозяйстве и охотники. Существовал проект: создать в Сортавале молочную ферму, давали даже земельный участок. Но по здравому размышлению от этого проекта отказались, так как ко всему этому нужно было иметь свои паровоз и вагон, а это уже было из области утопии.
У нас в доме стали бывать охотники и рыбаки. Они жили по несколько дней, и это были очень интересные дни, потому что все рыбаки и охотники были удивительными рассказчиками. В доме не умолкал смех, жарилась и парилась дичь, а стены комнаты украшались тетеревиными хвостами и крыльями.
В поисках каких-нибудь сетей или необычного рецепта засолки сельди отец мотался по побережью, привозил специального посола селедку и вяленую рыбу. Рыбаки варили из тресковой печени очень вкусную граксу. Была даже целая семужья эпоха. Сапёры разминировали дорогу к системе рек и озер, по которой шла на нерест сёмга. Во время войны никто её не ловил, и она шла тучей, ставили весло в воду, и оно не падало, держалось в рыбе. Начальство плавучки ездило на рыбалку. Рыбалка – это неверное слово для обозначения того, как добывалась сёмга. А добывалась она самым варварским способом – динамитными шашками. Бросали в воду шашку, она взрывалась, малую часть сёмги вылавливали, а остальная тонула и всплывала, кажется, через девять дней, прибивалась к берегам, издавая невыносимое зловоние. Мужики оправдывали себя тем, что все равно сотни тонн уплывают понапрасну, что они убивают крохотную часть от огромных масс рыбы, ну, и тому подобное.
Таких больших серебристо-розовых рыб я позднее не видела и не увижу. Мы варили тончайшего аромата уху, жарили сёмгу живописными кусками и ели свежепросоленную, зернышко к зернышку икру, ели действительно ложками. Мне не приходило в голову делать натюрморт с разрезанными кусками сёмги, но дядя Костя надоумил меня, рассказал, что был такой фламандский художник Снайдере, который писал сёмгу. Я взяла у отца сеть прекрасного серого цвета, а у Мурадянов попросила гжельскую тарелку с синей росписью, отрезала от крупной сёмги пару кусков, положила одну целую красавицу поэффектней и написала всё это, как могла. Получилось плохо, и я злилась. Показала дяде Косте. Он пришёл в совершеннейший восторг от композиции и цветового замысла и утешил меня тем, что когда я кончу академию, сёмга будет у меня на картинах серебриться и истекать розовым жиром.
Вкусовое и эстетическое впечатление от тогдашнего пира осталось настолько сильным, что я всегда, когда мне доводится есть то, что в ресторанах именуется сёмгой и икрой, испытываю легкое чувство брезгливости.
В школе я дружила с двумя девочками из моего класса – с Маней Ратахиной и Нолей Беляниной. Ноля не была родной дочерью Виталия Александровича, он был её отчимом. Я любила бывать у них в доме, в котором мы жили до войны, в этом же подъезде. У Виталия Александровича было несколько альбомов по искусству. Домой он мне их не давал, но в их квартире я могла просиживать за ними, сколько мне хотелось.
Стала я бывать и у Мани Ратахиной, где незаконным зятем жил дядя Коля-художник, которому под мастерскую выделили самую большую комнату. Альбомов у него было немного, но зато очень много открыток.
Маня тоже рисовала, и между нами довольно скоро возникло что-то вроде соперничества. Пока мы рисовали для себя, соперничества не было. Но вскоре мы стали получать заказы на рисунки. Сначала мы раздаривали их, но потом нам надоело рисовать по заказам, и мы стали отказываться. Но тут кому-то из заказчиков пришла в голову мысль платить нам за рисунки. В зависимости от сложности нарисованного мы продавали их по пять и десять рублей.
Так мы стали «халтурщиками» и конкурентами. Но, в отличие от дяди Кости и дяди Коли, я к халтуре относилась с почтением и рисовала по заказам ещё старательней, чем просто так. Не могу сказать того же о Мане. Я довольно скоро обнаружила причину её плодовитости. Оказывается, она брала свой собственный рисунок или какую-нибудь репродукцию в журнале, прикладывала это к оконному стеклу, накладывала сверху чистый лист бумаги, переводила на него рисунок, а потом все это раскрашивала.
Я не подала вида, что подсмотрела случайно метод её производства, но в душе запрезирала её, тем более, что на деньги, которые мы зарабатывали и отдавали матерям, всё равно ничего нельзя было купить, в магазине нашего поселка ничего не было, кроме продуктов по карточкам. Про себя я гордилась, тем, что наша учительница Галина Леонтьевна ни разу не попросила Маню подарить ей что-нибудь, у неё в комнате висели только мои рисунки.
Я замечала, что Галина Леонтьевна как-то по-особому относится ко мне. Ещё заметнее это стало после того, как я написала два домашних сочинения на свободную тему. Оба сочинения я посвятила нашему коту Ваське. У нас в семье все коты были Васьки, этот назывался Васька четвертый. Его мы завели после Васьки третьего, уведённого зенитчицами. Как-то отец паял кастрюлю и оставил паяльную кислоту в блюдечке. Васька потерял свойственную кошкам осторожность и лакнул кислоту. Боже, как он мучился! Он выл, катался по полу и плакал человеческими слезами. Отец добыл у американцев молоко, но Васька к нему не притронулся. Потом он забрался на небольшой выступ у плиты и три дня не слезал с него. В глазах у него стояли слёзы, а мы разговаривали шёпотом, как будто это могло ему помочь. На четвёртый день Васька спрыгнул с печки и стал лакать молоко. Отец рассказывал, что американцы радовались вместе с нами.
А вскоре после этого произошла ещё такая история. Мама ушла к соседке и поручила мне присматривать за плитой, на которой закипал бульон, а рядом с кастрюлей жарился на сковородке лук. Я сидела у плиты и читала. Вдруг раздался какой-то свистящий звук, над плитой вспыхнуло адское пламя, поднялись клубы пара. Я закричала диким голосом и вылетела из комнаты с воплем «Мама!» Сбежалось полбарака. Оказывается, сковородка стояла впритык к кастрюле, бульон бурно закипел, пролился на сковородку и на плиту, перелился через края сковородки, жир вылился на горячую плиту, вспыхнуло пламя, образовалось большое количество пара, вот и получилось нечто вроде взрыва.
Через какое-то время мы хватились, что Васьки нет. А он никогда не ходил на улицу, дышал воздухом через форточку. Ясно было, что он испугался взрыва и удрал через открытую дверь или через форточку. Мы облазили все углы, прошли по всем комнатам барака, звали Ваську на улице. Васьки не было. Мы с братом ревели. Васька был очень умный и доставлял нам много радости.
Через несколько часов мама стала собираться на вечернюю работу. Она сидела за столом, ела и думала о Ваське. Вдруг она увидела, что подушка на кровати зашевелилась.
– Васька! Васька! – позвала она.
Подушка перестала шевелиться. Мама подошла к кровати и вытащила дрожащего Ваську. Оказывается, он забрался между подушками и пролежал там все это время.
Обе эти истории я и расписала в сочинениях с подробностями и живыми деталями, о которых сейчас позабыла. Галина Леонтьевна зачитала оба сочинения в классе, хвалила меня, а после уроков велела мне остаться. Она спросила меня, что я читаю и кем хочу быть. До этого я говорила всем взрослым, что буду художником или артисткой. А тут вдруг неожиданно сказала, что хочу быть писателем.
– И давно ты хочешь быть писателем?
– Да, давно, ещё в деревне.
– А почему?
– Ну, как Алёша Пешков… У Горького…
– А-а-а… А ты знаешь, что Алёша Пешков два раза исходил Русь пешком?
– Да, знаю. Может, я тоже исхожу.
– Ну, женщинам это труднее сделать, да и времена теперь другие. Хочешь, я составлю тебе список книг, чтобы ты читала не так бессистемно?
– Хочу.
Галина Леонтьевна принесла мне через пару дней список, рассчитанный на несколько лет вперед, и какое-то время я придерживалась, по возможности, этого списка. За три года, что мы прожили в Дровяном, я прочла всё, что можно было прочесть в матросской библиотеке, и всё, что можно было добыть у соседей и знакомых. Библиотекарша довольно скоро перестала записывать в формуляр то, что я брала, она пускала меня за стойку, и я выбирала всё, что мне понравилось.
На плавучке ремонтировались морские охотники, подводные лодки, миноносцы, эсминцы «Гремящий», «Урицкий». В библиотеку заходили живые герои, о которых писали газеты и говорили по радио. Я исподтишка следила за ними, смотрела в формулярах, какие книги они брали читать. И то, что они были обыкновенные живые люди, делало более достоверными таких удаленных во времени героев книг, какие вставали со страниц морских рассказов Станюковича и Новикова-Прибоя.
Зимой 45-го года в нашу школу дали один билет на встречу с Николаем Крючковым в мурманском Доме Офицеров. Билет выделили мне как лучшей ученице. За ним надо было перед концертом зайти в гороно. Мама отпускала меня одну с большими предосторожностями, с ахами и вздохами. Я поехала на катере пораньше, разыскала гороно, а там мне велели обратиться к Маргарите Александровне Линдстрем. Я зашла к ней в кабинет, и к тому чувству робости, которое я испытывала уже на подходе к гороно, прибавился еще трепет, природу которого я осознала несколько позднее. За столом сидела светлоглазая женщина с круто изогнутыми бровями и усталым лицом. Она предложила мне сесть, расспросила, откуда я, как меня зовут, когда мы вернулись из эвакуации. Когда я уже уходила, она спросила, взяла ли я что-нибудь поесть. У меня с собой ничего не было. Тогда она поговорила с кем-то по телефону и направила меня в какую-то столовую неподалеку.
А потом была встреча с артистом кино Николаем Крючковым и с другими участниками концертной бригады, которые, в общем-то, были откровенными халтурщиками, но это понимание пришло потом, а тогда все эти остроты и танцы с огромными веерами из страусовых перьев казались прекрасными. Сидя в катере на обратном пути и переживая события дня, я поняла, почему лицо Маргариты Александровны вызвало во мне такое волнение. Она была похожа на маму, особенно глаза, брови, скулы и нос. Губы у Маргариты Александровны были тонкие, а у мамы довольно полные, но обе они были похожи на Грету Гарбо, похожи тем сходством, которое называется неуловимым. Грету Гарбо я знала по маленьким открыткам, подаренным американцами. Виталий Александрович рассказывал какие-то чудные истории о том, что эти открытки американцы вкладывают в пачки с сигаретами, кто наберет много, тот получает какие-то премии, вроде путешествий в другие страны или на курорты. На открытках были голливудские артистки Пола Негри, Джин Хэрлоу, прическами и туалетами поражающие воображение.
По приезде домой я рассказала обо всем и тут же изобразила всё, что запомнила из концерта, благо и веер нашелся: это был тетеревиный хвост со стенки над моей кроватью.
В ту зиму весь поселок охватили два поветрия: все стали заводить альбомы-тетрадки, в которые переписывали невесть откуда взявшиеся стихотворения, песни, закладывали уголки, писали на этих уголках какие-то многозначительные обещания постичь правду на странице такой-то и т. д. Я тоже завела альбом и на зависть всем разукрасила его своими рисунками. Правда, тексты стихов безымянных авторов вызывали во мне кое-какие сомнения, но я гнала их прочь. В нашем бараке жила Тася Смирнова. Не помню, кем она работала, помню только, что была она итээровка[1] на плавучке, а родители ее жили в Ленинграде. У нее была маленькая хорошая библиотека, и я у неё перечитала все. Тася попросила меня показать ей мой альбом. Она ничего не говорила, когда перелистывала его. А потом достала маленький альбом с плотной желтоватой бумагой. На первой странице был повторен кем-то рисунок, изображающий мальчика Пушкина, а дальше шли его стихи, Лермонтова, Тютчева, Есенина, было много хороших карандашных рисунков. Почти все стихи я знала. Но дальше, на нескольких страницах, были стихи некоего Генриха Гейне. Мне почему-то сразу врезались в память строки:






