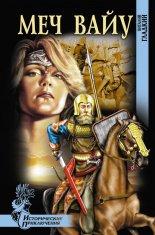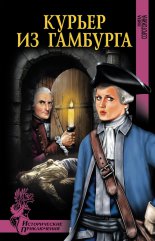Меня расстреляют завтра (сборник) Сургучев Вадим
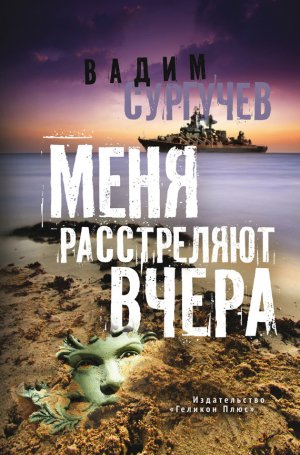
Посмеялись в трубку над этим. Я не переходил за границу дозволенного тобой выяснения, а ты не подталкивала.
– Слушай, – спросила, – а как там наш Юрка?
– Какой? – я не сразу понял, про кого ты, я-то лично в них уже запутался, в этих Юрках.
– Как какой? Сколько ему лет? Где ты его оставил? Уже, наверное, серьёзный офицер при солидных погонах?
– Нет. Я оставил его там, где мы с тобой его и бросили – на первом курсе училища. Ему было там не очень уютно, помнишь? Мы с ним скучали по тебе и забыли жить дальше и…
– Не продолжай, не надо. Я помню. Отправь его куда-нибудь в море, и пусть он сам мне напишет об этом. Он его увидит своими глазами, не то что ты, мечтатель, и рассказ его не будет отдавать ничем другим, кроме того, что я хочу. Пусть Юрка напишет мне о своём первом выходе, ладно?
– Да, – я с радостью согласился. – Да. Как ему к тебе обратиться в письме?
– Он знает одну букву, – ты снова засмеялась, переливая звуки. – Так и обращаться.
Я бросился в Юркину жизнь с утроенными силами. За него, себя и тебя. В благодарность ему за то, что он может опять сблизить нас. У него есть шанс. От переполнявших меня радостных эмоций я не обратил внимания, что ты знаешь: я в курсе, какой буквой к тебе обращаться…
Глава 5
«Здравствуйте, Ю!
Не знаю, как у Вас, а у меня день с самого утра задался. Хотите – спросите, чем задался. Но лучше не спрашивайте – я и сам не знаю ответ. Просто мне как-то по-иному – теплее и задумчивее – стало смотреть в окно, ведь где-то там далеко живёт человек, который хочет знать от меня, обычного Юрки, мою правду о море. Море – вся моя жизнь. Вы думали – любовь? Тоже да. Порой.
Вот вам письмо о моей первой встрече с ним.
Простите, я немного волнуюсь.
1
После первого курса училища нас, четырнадцать человек, разных во всём, кроме любви к морю и, пожалуй, размеров одежды, определили на месяц практики на одну из северных баз.
На пропускном пункте нам обрадовались и сказали, что давно уже ждут с нетерпением. Мы обрадовались, что нам обрадовались. А командир пошёл в штаб уточнять, на какой именно корабль нас отправить.
– Всем подождать в курилке. Минут двадцать. Я быстро, – показал наш командир Борисыч на круглую беседку.
Мы расселись-разлеглись – устали. Тогда мы ещё не знали, что увидим командира лишь в самом конце практики, через много дней. Курили, рассматривая военно-морскую жизнь, для которой нас готовили. А мы считали, что уже почти к ней готовы.
Мимо проходили унылые матросские строи, ведомые унылыми же офицерами. На нас смотрели, не улыбаясь, – так смотрят на огромный валун посреди центральной площади, заготовленный для памятника. Пока работа не начата – понять, зачем валун на площади, трудно. «Хотя если его тут поставили, – наверное, думают прохожие, – значит, так нужно». Нас особо не рассматривали – отворачивались.
Ближе к пирсам один офицер громко объяснял тощему матросу различия половых органов мужчин и женщин. Язык был богат и сочен, мы такого мата ещё не слышали. Матрос глупо молчал и улыбался, тогда ему рассказали о его матери и удивились, почему тот до сих пор этого не знал. Мы хором поставили офицеру зачёт, хотя матросскую маму было жаль.
Между тем с тех пор как командир ушёл на двадцать минут, прошло уже часа два с половиной. Закурили по восьмой, по привычке подавив желудочные спазмы своеобразным ароматом питерской «Стрелы».
После тринадцатой выкуренной послали старшину взвода Ваньку на поиски без вести пропавшего командира. Тот долго упирался, уговаривал нас не посылать его, потому что где ж его, командира, там искать в этом штабе.
Но что делать, ведь Ванька был старшим из нас, а за эти пять длинных часов нас уже всё достало в радиусе километра от беседки. Ваня сдался. Мы грустно и долго смотрели вслед удаляющемуся старшине, пока его спину не скрыли от нас сумерки и туман.
Темнота так и не опустилась, не накрыла – там, где мы находились, в это время был полярный день, – и вечер обозначился лишь тишиной, малолюдностью и застывшими сумерками.
Поиграли в футбол найденной консервной банкой. Увлеклись и не заметили возникшую за нашими спинами заинтересованную фигуру. Фигура обозначила своё присутствие громким рыком и оказалась капитаном первого ранга. Как очень быстро выяснилось, фигура принадлежала большому местному начальнику.
Дорогая Ю, я не буду пересказывать вам в точности всё, что мы о себе услышали. Эти сведения из анатомии несовершенных людей и камасутры для животных вполне могут оказаться для вас малоценными. Смысл его вопросов к нам, если отбросить детали, о которых я сказал выше, сводился к тому, что начальнику не совсем понятно, кто мы, зачем сюда приехали и кто нас родил. Последнее его интересовало сильнее всего.
После того как нам наконец дали ответить и даже немного послушали, нам приказали навести флотский порядок, а именно – ходить строем и петь песни.
Капитан первого ранга ушёл, припугнув нас тем, что ему из окон всё будет видно, мы напугались и стали ходить строем вокруг беседки. Пока ходили, исполнили все известные нам песни хором, потом каждый пел, что хотел, потом ходили молча.
Часа через полтора Игорь, командир первого отделения, которого назначили главным из нас, остановился и громко выразил неудовольствие происходящим, послав его в женское интимное место. Потом закурил и послал в мужское не менее интимное место командира с Ванькой. Мы остановились, тоже закурили, и послали туда же нашу жизнь. Было грустно.
Кто-то расчехлил гитару – какое море без гитары? – и мы запели песни революционных матросов. Из окон казарм и штаба стали выглядывать офицеры. Мы заорали ещё сильнее. Вдруг кто-то сжалится и посадит нас на гауптвахту? Хорошо бы. Но этого не случилось – пришёл Ванька и сказал, что всё уже нормально и нам надо идти на корабль. Куда мы почти побежали, наперебой рассказывая Ваньке, что с нами случилось, а тот почти нас не слушал, грустно подсчитывая вслух, сколько раз его в штабе называли нехорошими словами, пока он искал командира.
У корабельного трапа нас остановил старший лейтенант с пистолетом. Ванька передал сопроводительные документы. Тот долго вертел бумаги перед лицом, подойдя к прожектору, морщил лоб, напряжённо соображая. Результат умственной работы оказался нулевым, и офицер по связи связался с дежурным по кораблю. Связь отвечала кваканьем, шипением и треском. Как они по такой связи друг друга понимали, осталось для нас неразгаданной тайной.
Когда диалог закончился, старлей сказал: “Ща, пацаны”. Что значит это «ща», мы не поняли, но нас это, почему-то, обнадёжило. Ждали не долго, сигареты три. За это время старлей нам поведал о героическом корабле, на который нам повезло на время попасть, о не менее героическом экипаже. Потом спросил, в какое мы направлены подразделение, а узнав, что мы механики, почему-то замолчал. Молчал до тех пор, пока за нами не пришёл заспанный, злой капитан-лейтенант.
Тот долго вёл нас по бесконечным коридорам и трапам, терял, находил, материл и снова вёл, пока наконец не привёл в кубрик. Объяснил, что жить мы будем здесь, указал направление к ближайшему гальюну, схематично пояснил, где будем кушать, а вернее, “принимать писчу”. Всё сказал и мгновенно исчез.
Мы зашли в кубрик, где-то слева за переборкой нащупали выключатель. Врубили фазу. И увидели себя – прямо напротив было высокое зеркало на тумбочке. Справа и слева – коечки в два яруса. На них накиданы матрасы, обшитые тёмно-коричневым дерматином в дырках и порезах, из которых выглядывал грязно-жёлтый поролон. На флоте коечки называют “шконками” – мы поняли теперь почему.
Я молча двинулся в дальний левый угол кубрика, кинул на дерматин свой вещмешок и упал сверху. Раздеться не успел.
С утра следующего дня нас долго будил взъерошенный лейтенант, то умоляя, то срываясь на писк, пытаясь достучаться до сознания, засыпал нас уставными терминами и соответственными угрозами. Язык устава был нам ясен, но с утра не особенно уважаем. Мы сделали вид, что вняли, а лейтенант, сказав, что механик уже ждёт нас в ПЭЖе (Пост энергетики и живучести), убежал довольный с ехидным видом.
Мы переоделись в робы, с трудом отыскали гальюн, сделали все дела и, конечно – а как же, с утра ведь, – долго курили. Через двадцать минут Ваня заметил, что уже хватит курить, а когда мы ему предложили показать нам дорогу в тот самый ПЭЖ, он длинно посмотрел в проём за трапом, послушал гудение железа, а вслух сказал только: курим дальше. Мы молча курили ещё десять минут. Кто-то предложил всё же пойти, куда укажет сердце, авось добрые люди нам подскажут, где этот самый ПЭЖ.
Ю, вы не поверите, мы ходили взад и вперёд между вентиляторами и трубопроводами полчаса или час, но не увидели ни одного человека. Мы заглядывали вниз и кричали туда: “У-у!” – но слышали лишь эхо. Нам опять уже хотелось курить, но вдруг откуда-то снизу вынырнул тот самый чумной лейтенант, обозвал нас… ммм… гулящими женщинами и увёл на два трапа вниз. Под его заботливым руководством мы прибыли в большое помещение с пультами и мигающими лампочками. За самым большим пультом возлежал усатый мужик в чёрной робе. Он спал, и мы ему были неинтересны.
Тут затрещала связь и загорелась лампочка на пульте. Мужик, не открывая глаз, ткнул в кнопку и прошелестел губами. Из пульта послышался писк, затем визг – кто-то был сильно недоволен. Мужик вытянул левую руку с переговорным устройством – так называемый «банан» – в нашу сторону, и мы сообразили, что и визг, и смысл речи обращены к нам. Попытались прислушаться, морщили лбы, но ловили лишь окончания фраз, поражаясь их идентичности и незатейливости. Погрустнели – очевидно, нам были не очень рады.
– Простите, а что он сказал? – всё ещё надеясь на чудо, задали мы вопрос примятому пультом усатому лицу.
Лицо, не открывая глаз, сказало, что мы всё поймём очень скоро, после чего издало звук, близкий к храпу. Мы догадались, что больше лицо нам ничего не скажет, и приготовились к плохому.
Плохое, в виде стремительного человека огромных размеров с плечами борца, приключилось очень скоро, минут через тридцать. К этому времени вахтенный мужик уже был в боевой позиции. Он кричал кому-то по связи, прикрыв покорёженную шрамами сна щёку правым плечом, и быстро записывал что-то в журнале.
Никто бы не мог даже подумать, что ещё минуту назад этот человек спал мертвецким сном, а датчик кренометра на пульте был запузырен его сонными слюнями, – сейчас стекло датчика выглядело зеркально чистым. Но механик, видимо, что-то заподозрил, так как закричал на мужика вопросительно и, получив невнятный ответ, послал того на… ммм… половой член и дал пять минут на исполнение. Потом большой человек медленно повернулся к нам, и мы замерли.
Милая Ю, этот мужчина оказался моим первым морским учителем: то, что нам объясняли целый год в училище, он справедливо посоветовал пристроить у себя сзади, потому что всё это, по его словам, напоминало балет, а тут, на железе, всё серьёзно.
Сначала механик ласково поинтересовался, на кой черт, по нашему мнению, мы тут находимся. Услышав от одного из нас о выполнении боевой задачи, долго ругался матом, а потом объяснил, что главная и единственная наша задача – соблюдать технику безопасности. А ещё сказал, что если мы не будем выполнять требований этой техники и при этом поимеем наглость остаться в живых, то он нас будет иметь безо всякого стеснения, грубо, цинично и долго. И поскольку эта техника, по его словам, важностью превосходит технику секса, то он лично перечислил все пункты, правда, их оказался только один, но очень важный: не совать выступающие части тела – механик перечислил, какие именно, ничего не упустив, – туда, куда пёс отказался бы совать даже свой бестолковый нарост. Мы выслушали его внимательно и расписались в журнале.
Затем механик приступил к практической отработке полученных знаний. Из четырнадцати человек он выбрал меня и предложил взять в руки торчащую под щитом оголённую жилу. Я уже почти коснулся её, но механик меня остановил и назвал нехорошим словом, потому что я внимал полчаса про технику безопасности не ухом, а задом, как он сказал. Потому что никто не может приказать нарушить технику безопасности. А вернее, приказать-то может, но слушать его нельзя.
И тут, дорогая Ю, я на всю оставшуюся жизнь понял великое значение техники безопасности. Я понял, что она главнее всех: и механика, и командира, и даже важнее президента СССР товарища Горбачёва М. С. и его начальников. И хотя непонятно, какие могут быть начальники у президента, но всё равно главнее их.
Потом механику стало интересно, как мы устроились. Мы осторожно поведали ему что, в общем-то, проблем никаких особых нет. И корабль замечательный, и приняли нас радушно и уважительно. И кубрик у нас уютный, и даже про отсутствие – хрен с ним – белья промолчали. Но имеется одна не очень большая проблемка. И мы бы по таким пустякам беспокоить его не стали, но уж больно жрать охота. В общем, ничего существенного, только не ели мы ничего уже сутки. Механик сказал нам: “Так-так”, а “банану” и тому, кто в нём сейчас жил, сообщил, как он сильно ненавидит его и всех его родственников. После чего механик жестом показал, что мы пока свободны и всё у нас будет в порядке, мы можем не переживать ни о чём, а если надо, он нас вызовет. Такой жест. Одной рукой.
Мы добрались до кубрика, и тотчас туда влетел крупнощёкий мужик в белом халате – в жирных, пахнущих едой разводах, – взял двоих из нас и удалился, оставив от себя только вкусный запах. Мы приготовились к большому пиру – мы же хорошо знали, как обильно и сытно кормят на флоте.
Скоро принесли и обед в двух лагунах с первым и вторым, ещё был чайник и булка хлеба. Первый, большой лагун на треть заполнили жидкостью, настолько прозрачной, что было заметно, что там в ней плавает. А в ней, признаться, ничего толком и не было. Мясо отсутствовало вовсе. Плавали несколько листьев капусты и немного картофелин. Саму жидкость чуть подкрасили красным, наверное, это задумывалось как борщ. В кастрюльке же меньшей, размерами как раз такой, как нам в училище давали на четверых, была пшенная каша, тоже без мяса. Хотя на него был намёк в виде тёмно-коричневой подливы.
Я был одним из немногих, кто отважился попробовать “борщ”. С меня хватило трёх ложек – борщ сильно отдавал обычной водой из-под крана. Второе разделили, как смогли, по-братски. Запили всё это жидкостью из чайника под кодовым названием “компот”, в котором из компотного не было ничего, и заели имеющимся хлебом, посыпав его крупной солью. Не густо, но через несколько дней мы были рады и этой пище, поскольку другой для нас не нашлось.
Следующие три дня мы прожили в кубрике, занимались кто чем, разбавляя досуг дневным, вечерним, ночным и утренним сном, походами в гальюн для гигиены и ритуального курения.
Вот с сигаретами, Ю, проблем у нас не было никогда – выменивали у матросов на якорьки с нашей формы. Те были рады. Мы тоже. И никто из начальства о нас не вспоминал, никому мы были не нужны.
На четвертый день мы устали и предприняли попытку выйти в город или на базу – ну или просто спуститься с трапа. Но дежурный на трапе доходчиво объяснил, что никуда не выпустит, потому что нам нельзя покидать корабль, так как у нас нет увольнительных документов, а их никто не даст. Мы решительно не уходили. Дежурный сказал, что не понимает причин, нами двигавших, ведь у нас и так всё есть для хорошей жизни. Мы опять промолчали и не ушли. Тогда офицер назвал нас нехорошим словом и предупредил, что расскажет об этом механику. Мы вернулись в кубрик. Ни одна душа не вспоминала о нас ещё три дня.
Вечером третьего дня узнали от почти родных матросов, что на завтра запланирован выход в море. Мы радовались и, беззлобно ругаясь, составили график смотрения на море в иллюминаторы.
Милая Ю, мы не спали всю ночь, мечтали и грезили, и каждый, прикрывая глаза, видел себя отважным моряком. Я тоже. Сбывались пацанские мечты о далёком и волнующем.
Море, Ю, море, наше море намечалось на завтра. Я был рад, что родился восемнадцать лет назад, прожил их в ожидании главного и вот – ура, дождался!
2
Предрассветную дрёму порвал на тряпки топот сотни ног. Звонки, смысла которых мы ещё не понимали, грозные крики дежурного по корабельной трансляции, отрывистые команды – корабль, этот огромный кусок умного железа, готовился к выходу.
Скоро нас закачало чуть сильнее – отдали швартовы. Внизу загудело и завибрировало. Мы стали чаще бегать в гальюн, чтобы через имеющиеся там три круглых иллюминатора наблюдать, что происходит с кораблём. А он двигался – земляная коса стала менять угол по направлению к нам, вот уже она вытянулась параллельно корпусу корабля и продолжала двигаться. В иллюминаторы мы видели, как коса закончилась высоченным столбом с окошками наверху.
“Маяк”, – подумал я. “Корабль с палубами и надстройками, с тремя восторженными рожами из кормовых иллюминаторов”, – наверное, подумал маяк.
Как только вышли из бухты, корабль – закачало сильнее – он начал проваливаться и резко подниматься. Я отошёл от иллюминатора и заметил, что в гальюне остался один. Грохочущая волна, ударившая в следующий момент в корабельный борт, окатила меня толстой струёй через открытый иллюминатор. Стало мокро, холодно и неуютно.
Солёная вода Баренцева моря плеснула мне ещё и в вечно открытый рот, навсегда отучив от этой глупой детской привычки. В правой руке торчал кусочек мокрой белой бумажки – остатки бывшей папиросы.
Как я оказался на своей шконке кверху пузом, помню смутно. Перед тем как провалиться в зыбкое забытьё, успел подумать, что мне не нравится вкус морской воды.
…
Вот уже который день мы лежали в одном и том же положении. Кто-то забывался тяжёлым сном, кто-то стонал. От долгого лежания болело всё тело, я пытался сидеть, но так оказалось ещё хуже. Бортовая качка, килевая. Шконка подо мной проваливалась в бездну, я летел за ней, быстро догонял. А потом она своим жёстким матрасом давила мне в спину. Я валился на бок, не в силах стонать, и снова скатывался вниз. Внутренности рвались в сторону, противоположную движению тела.
Дорогая Ю, простите мне низкую анатомию, но я боялся даже пукнуть, полагая, что от напряжения меня стошнит, не в силах понять, что тошнить мне давно уже нечем.
За едой продолжал ходить лишь один из нас, на него качка не действовала. Он же эту еду и усваивал, а потом одиноко пел жалобные песни. Это нравилось не всем, но послать его подальше ни у кого сил не было.
Трое из нас постоянно рыгали, уделав почти всю палубу и половину зеркала. В кубрике стояла жуткая вонь, но это никого не волновало. Пару раз за весь поход, боясь поскользнуться на блевотине, подходил к столу и я. Отломив кусочек хлеба, глотал, но он не падал в желудок, а норовил выскочить обратно. Тогда я шёл к своей койке, ложился на спину, и хлеб медленно доезжал до места назначения. Желудок радовался, что ему дали хоть что-то, и я знал, что нельзя менять положение тела часа полтора-два, чтобы его, желудок, не пугать, иначе он грозил напугать меня.
Никто не знал, сколько прошло времени. В какой-то день нас долго трясли, объясняя что-то важное, что-то, судя по лицу трясущего, крайне важное. Из всего этого мы поняли только то, что нам нужно идти в ПЭЖ к механику, а он долго ждать не любит, мы это уже знали.
Держась за бортовые переборки, мы двинулись вслед за тем мужиком, что тряс и объяснял важное. Кто-то не выдерживал и обливался жёлтой пеной, я удержался.
Механик сидел почему то в шинели и фуражке. В ПЭЖе качало меньше, чем у нас, от этого мне хотелось улыбаться.
Нас обозвали выспавшимися дебилами и рассказали о назначении имеющихся пультов. Мы согласно кивали головами и пытались делать вид, что понимаем. Потом нас просили задавать вопросы. И самый стойкий из нас, который ел, открыл уже рот, но получил такой силы удар между лопаток от позади стоящего, что я удивился, почему наш говорливый не умер. Не дождавшись вопросов, нам выдали уже известный жест, и мы ушли.
Опять заблёванный кубрик со спасительной-но-надоевшей коечкой. И опять вверх-вниз, влево-вправо, опять звериные рыки ребят и унылые песни.
– Курсантам выйти построиться на вертолётную площадку! – уже, наверное, раз пятый или шестой надрывался простуженный злой голос в корабельном динамике трансляции. Мы – вялы и безынициативны.
После того как динамик традиционно оскорбил наших матерей, его пнули, и он повис на одной нитке провода, вывалившись из гнезда, пискнул и навеки уснул.
Нас пятнадцать минут никто не трогал. Потом в кубрик влетел человек и ругался матом. Нам показалось, что нас не уважают, и мы, в свою очередь, этого человека тоже не уважили, несмотря на то что он представился помощником командира корабля. Мы проявили мужество – молчали и не шевелились.
Ваню мы уважали больше, и поэтому, когда он сказал: “Пошли!” – мы оделись и пошли на вертолётную площадку. Идти оказалось недалеко, она была наверху, прямо над нами. Весь экипаж, стоявший тут уже долго, смотрел на нас зло. Стоять – а как иначе назвать вертикальную позицию человека, я не знаю – было трудно, тем более что здесь, наверху, дул холодный ветер, который срывал верхушки волн и хлестал их ошмётками наши лица, а мы зубами держали ленточки бескозырок.
Кто-то главный, в чине капитана второго ранга, с красным лицом, стоя перед флагштоком, кричал в микрофон. Понять его было трудно – ветер рвал речь в клочки и раскидывал их в разные стороны. Из клочков речи, что долетали в нашу сторону, я сделал вывод, что он нами недоволен. Мои догадки подтверждались тем, что весь экипаж смеялся, глядя в нашу сторону.
Палуба в очередной раз ухнула вниз в серую бездну. Я едва успел ухватиться за спасительные леера. Того, кто стоял рядом со мной, скрутила судорога, и он с разворота оросил своим желудочным содержимым мою руку, ухватившуюся за леер, и ревущее море за ним.
Хорошо, что главный этого не видел, а то, наверное, послал бы нас вслед тому грёбаному содержимому. Вскоре стало ясно, что экипаж собрали не для того, чтобы смеяться над облёванным нами, – корабль проходил рядом с тем местом, где недавно погибла подводная лодка. По команде главного матросы принялись кидать в море венки, а экипаж, вместе с многострадальными нами, снял головные уборы.
Милая Ю, когда мы через пять дней вернулись на базу и нас почти не качало, я с трудом верил, что жив. Меня накормили вкусной пшёнкой друзья, имена которых я вспомнил почти сразу.
Мы были живы и счастливы. Понемногу приходили в себя, заставили тех, кто загадил кубрик, убирать всё. Те в ответ матерились, но убирали, и скоро у нас стало чисто и почти не пахло.
Потом мы обедали чем обычно – нам было вкусно.
А после обеда к нам пришёл помощник командира, тот самый, что нас материл и не уважал, пытаясь вытащить на вертолётную площадку. Помощник был злой и визжал – мы ходили строем до самого ужина, перед которым помощник сказал, что это только начало и наши матери сглупили, родив нас и обгадив тем самым белый свет, отчего тот перестал быть красивым. После ужина мы опять ходили до самого отбоя.
А на следующий день нам принесли четырнадцать яблок – день корабля, и всем должно было быть хорошо. Мы съели витамины, и нам стало хорошо – никто не трогал, а после обеда – причём в супе дополнительно плавало несколько кусочков мяса – вручили документы и сказали, что мы можем до вечерней поверки пойти в город.
Дорогая Ю, я хочу Вам одной признаться, повиниться. Об этом никто, кроме нас, не знает до сих пор. В увольнении мы обворовали первый попавшийся продуктовый магазин. Напихали под широкую форму всё, что попалось. Тогда не было видеокамер в магазинах, и нас не поймали.
Через час после начала увольнения мы уже сидели в кубрике и ели. И это был настоящий праздник. Потом – сытыми – орали морские песни, и жизнь казалась не такой уж плохой, а вполне нормальной и даже отличной.
На следующий день праздник закончился, и мы опять ходили строем. Помощник выглядел особенно злым, и мы ходили без перерыва до самого обеда, а потом до ужина, после которого нас снова построили и как обычно пересчитали.
Но строевых больше не было. Вы хотите знать, почему всё закончилось, Ю? Сейчас я вам расскажу.
После ужина наш главный музыкант встал в строй с гитарой – а этого делать нельзя, – и пока помощник хватал воздух, успевая в промежутках нас материть, музыкант на один из вопросов начальника в ответ озвучил свою фамилию. После чего помощник нас отпустил и глотал воздух уже у себя в каюте – музыкант оказался однофамильцем с одним известным адмиралом. И помощник не рискнул выяснять родственные связи нашего гитариста. Повезло, короче.
Через пару спокойных дней первая в жизни практика окончилась. Нам вручили документы на трапе и проводили, поблагодарив за службу.
За воротами КПП мы встретили ожидавшего нас командира, и вид его был не спортивен.
До Питера добрались без приключений.
Вот и вся история, дорогая Ю. Вы хотели слышать правду о море. Простите, но в истории этой любви нет, она случится у меня много позже. И всё же я надеюсь, что Вам понравится моя правда.
Искренне ваш, Юрий».
Глава 6
«Здравствуйте, Юра.
Знаете, что мне понравилось в Вашем письме больше всего? Расшифровка ПЭЖ в последней строчке – Пост энергетики и живучести. “Энергетика” – слово модное, а “живучесть” – такое оптимистичное.
Вы вот тоже такой – энергетически приятный. Взяли и заменили все подлинные флотские выражения на более приятные моему слуху эквиваленты – деликатность Ваша зачтена, тут следует смайлик, да.
Знаете, я сейчас манерничаю в письме, а всё оттого, чтобы не разреветься – жалко тех восемнадцатилетних мальчиков, мечтавших о море, а получивших морскую болезнь под звуки самого нервного из всех человеческих арго. Словно как подросток мечтает о любви, а получает любовную болезнь – нет, не высокое страдание, а дурную “Венеру” – и как потом снова любить Любовь?
А ещё я все время хихикала, читая письмо, – вы смешно описываете даже то, от чего рыдать и ругаться хочется. Ругаться тем самым арго, если бы я им владела. “Потому что никто не может приказать нарушить технику безопасности. А вернее, приказать-то может, но слушать его нельзя” – это я запомню навсегда, Юрий.
Мне понравилась ваша правда – самая правдивая правда. И мне очень нравится тот восемнадцатилетний мальчик Юрка – он славный. И ещё – всё время хочется его накормить. Улыбаюсь.
А что с ним было дальше?
У меня сегодня тоже хороший день. Знаете, я всё время пытаюсь понять, почему так боюсь, когда со мной невероятно хорошо обходятся. Почему настороже, когда меня любят красиво и самозабвенно? Но это долгая история. Сегодня я читала Ваш рассказ и забыла о своих мучительных сомнениях и дилеммах.
Напишите мне ещё об этом славном мальчике.
«.
Мне стало легче – удалось тебя порадовать. Но занозой вонзился последний абзац, где ты боишься, когда с тобой хорошо обходятся. Не веришь в саму возможность такой самозабвенной любви? Боишься проснуться, полагая, что спишь? Мне кажется, я начал тебя понимать. Осталось только дозированно, словно лекарство, принять это знание. Броситься убеждать тебя, что нет, всё это возможно, что это та самая малость, что я могу и должен – так хочу – дать тебе? Нет, глупо – замкнёшься опять, и подобрать ключи к твоим новым замкам станет новой мечтой. Как же в таком случае быть? Наврать, что на самом деле я не так уж сильно тебя люблю, солгать, что не шагнул бы к тебе с крыши небоскрёба? Бред.
Выход пока оставался один – рассказывать тебе Юркой о Юрке. Ах, как я был рад, что он у меня есть, мой спаситель, мой мрачный туннель в твою сторону.
«О, как я рад, дорогая Ю, что и Вас посетил радостный день. Не знаю, боюсь подпускать к себе близко удовольствие собой как пособника вашей радости. Могу только тайно надеяться на своё причастие.
Я не знаю, что рассказать вам. Не знаю в лицо точные буквы, сочетание которых объяснили бы Вашу неуверенность от самозабвенности погружения в Вас влюбленного человека.
Давайте, я вам лучше ещё о себе.
У меня больная сестра. Этот случай произошёл со мной в отпуске, за два месяца до той практики, о которой я вам рассказывал.
…Пешком от вокзала, хотя и не далеко, мы бы не дошли, я чувствовал. Знал, это подсказывали уставшие руки, в которых три тяжеленные сумки, забитые вещами и надаренными игрушками для сестры. Она шла рядом, схватившись обеими дрожащими ручонками за меня, еле переставляла ноги. Я не пытался отвлечь её пустыми разговорами – она уже около часа, с самого поезда, молчала. Ей нужны были таблетки, которые закончились ещё вчера – загостились не по своей воле у родственников отца и не рассчитали. Билетов на вчера не оказалось, только на сегодня. И вот мы с сестрой после пяти часов сидения в вагоне почти у дома – осталось двадцать минут пешком. Дома есть таблетки, но туда ещё нужно попасть, и я чувствовал – не дойдём.
Почему отец остался у родственников? Наверное, не распрощаться было никак. Веселье встречи – мутное, вот и забыл про дочку свою больную одиннадцатилетнюю и про меня тоже.