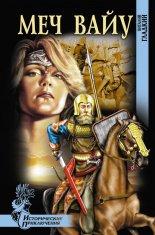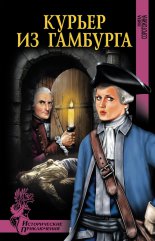Меня расстреляют завтра (сборник) Сургучев Вадим
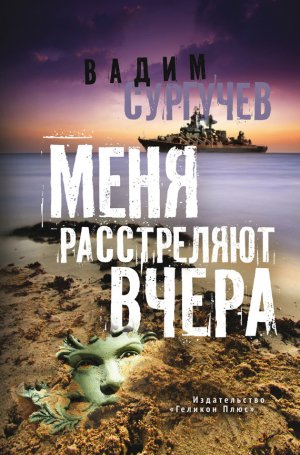
Оставалось пожать плечами и напугать тоску громким чихом – меня же любят, а это самое важное.
Сварил кофе, выпил. Почувствовал себя почти бодрым – не ем с утра. Без тебя не ем.
Рабочий день пролетел сегодня особенно незаметно. Всё как всегда, но мыслями бежал рядом с твоим поездом, заглядывал в окно. Выходило, билеты у тебя уже вчера были. И ничего не сказала, ни слова – не перестану жить в обнимку с удивлением тобой как женщиной и как человеком.
Этакая жизнь втроём: я, ты и моё вечное тобой удивление. Хотя нет, нас уже четверо – Юрка ещё есть. Вечером, наскоро поужинав, я вспомнил о нём как о спасительной волшебной палочке, махнув которой можно разогнать особо тяжкую вечернюю тоску по тебе.
Трёхсуточный перестук колёс поезда, словно удары Юркиного сердца, взволнованного скорой встречей с городом мечты, становился тише и глуше – приближалось свидание наяву, а не в восторженном сне. Каких-то особенных переживаний, связанных с переменой привычного уклада жизни, Юрка у себя не наблюдал. Скучать не давали и соседи по плацкарте: отслуживший рыжий Олег, возвращавшийся домой, и приятный весёлый рассказчик Андрей Петрович, лет пятидесяти.
В том же поезде, километров за двести до города, Юрка впервые в жизни столкнулся со скрытым обманом. Вот так, из-за угла, неявно, ещё никто не пытался его провести. В его голодно-злобном детстве всё происходило в лоб, открыто. А тогда в купе, словно волшебник – неясно откуда, – появился мужчина лет тридцати пяти, с честным лицом и начинающей седеть бородой. Появился, присел, живо и заинтересованно познакомился и, достав из кармана колоду карт, предложил сыграть в дурака, убивая скучное время. Никто не возражал. Байки Петровича к тому моменту закончились, и в нависшем молчании выглядело всё как-то уж особенно длинно и липко. Бородатый превосходил присутствующих умением складно вести непринуждённые разговоры, с ним было просто и весело, он казался немного родным, и это не удивляло. Поэтому, когда он предложил сыграть в простенькую, не сложнее дурака, игру «по копеечке», отказался лишь Юра. И то лишь потому, что с детства не силён в этих картинках – отец однажды разорвал на глазах у сыновей колоду карт и так остервенело посмотрел, что дети так никогда и не решились на ослушание, не брали в руки карт.
Юра заинтересованно следил за происходящим. И только отстранённость, нахождение снаружи процесса, позволили ему одному удивиться внезапному появлению четвёртого, якобы случайного, игрока. Ни Олег, ни Андрей Петрович не обратили особого внимания на огромного кавказца, который, пробегая мимо, спросил, не видел ли кто его жену Тамарку, и, тут же о ней забыв, уселся в купе и стал наблюдать. Затем кавказец «уговорил» бородатого принять его в игру. Юрка первый догадался, в чём состоял обман, правда, кавказца с бородатым на тот момент уже давно не было. Жулики сыграли на элементарное повышение банка. Вне зависимости от силы находящихся на руках карт, прохвосты повышали ставку, зная, что у «терпил» деньги рано или поздно закончатся и по правилам игры им придётся пасовать. Так и случилось.
Дальнейший путь до Питера соседи провели молча. Через некоторое время в тамбуре изредка курящий Юрка встретил того самого бородача и отдал ему одну из трёх своих бумажек по двадцать пять рублей: бородач рассказал, что у него неизлечимо больная мама, которой срочно нужны дорогие лекарства. К тому же обещал вернуть деньги завтра же, на остановке в Зеленогорске, о которой наивный Юрка ему рассказал, а бородатый обрадовался тому, что в этом городке он сам и живёт.
На автобусной остановке, откуда предстояло ехать в училище, Юрка провёл часа полтора, вглядываясь в распаренные июлем лица отдыхающих питерцев, но знакомой седоватой бороды так и не разглядел. Зато разглядели его самого.
– Вы поступаете в училище Дзержинского? – спросил у Юрки неожиданно появившийся из толпы интеллигентный мужчина в очках и блестящем пиджаке.
– Я? Да. А как вы догадались?
– Ну, во-первых, – улыбнулся интеллигент, – заметно, что вы приезжий. И второе – другого учебного заведения в ту сторону просто нет. Я – член экзаменационной комиссии. И знаете что?
– Что?
– Вы не сдадите экзамены. У нас они очень сложные. Вам нужны фотошпаргалки. Вот, взгляните, – незнакомец протянул Юрке прямоугольные глянцевые листочки.
Мужчина был настолько убедительным, что Юрка купил у него шпаргалки по истории России, а заодно – чему сам Юрка будет потом долго удивляться – и по математике, отдав за всё вместе вторую сиреневую бумажку. После этого в кармане у Юрки осталось рублей семь. С ними он и добрался в летний лагерь училища, где его и ещё полтысячи человек переодели в синюю, не по размерам, робу с беретами и разместили в палатках у Финского залива. И никогда впоследствии Юрка не увидит ни того мужчины, ни его блестящего пиджака с очками.
Жизнь потекла по другому сценарию, совсем незнакомому. Река изменила русло, став шипящей и непредсказуемой горной бегуньей. И люди. Повсюду. В палатках-«кубриках» – люди-храп, люди-чих и люди-мат. В столовой – на «камбузе» – люди-челюсти. В туалете-«гальюне» – люди-птицы, потому что посадка там возможна одна: «орлом». Все они и всегда одинаково одетые, стриженные наголо и оттого одноликие – везде. И некуда скрыться, не найти и маленькую нишу, где можно остаться наедине со своей мечущейся мыслью. Юрка, ещё совсем недавно весёлый и открытый, замкнулся и впал в депрессию. Он мог проводить по нескольку дней, ни с кем не общаясь, не выдавливая из себя ни звука.
Лишь пара эпизодов за этот длинный месяц, как пара лучей меж постоянных питерских туч, пробудили Юрку ото сна, выстроили мысли в рядок, возвратили к жизни, порадовали.
Первый из них – экзамен по математике.
– Я готов.
– Что? Что вы сказали? – пожилая женщина впервые удостоила недоверчивым взглядом стоящего перед ней паренька.
– Я говорю – готов. Готов отвечать.
– Не морочьте мне голову. Идите. У вас серьёзный вступительный экзамен, молодой человек. Самый серьёзный и самый важный – математика. Ма-те-ма-ти-ка, понимаете ли? Вон ваше место, – корявый палец, на треть спрятанный под огромным перстнем, указал Юрке на свободное место в конце помещения. Тон резок и груб – спорить бесполезно. Чего доброго, удалит с экзамена, и тогда прощай, море, прощай, мечта и романтика. Юрка нехотя взял свой билет, ненужный листок для ответа и отправился туда, куда сказали. Сев на стул, оглядел помещение. Снаружи «бунгало» выглядело как деревенский бревенчатый сруб. Внутри просторное, с большим письменным столом под красной материей, на столе ваза с цветами, а за столом на стуле та самая женщина, которая – Юрка это хорошо видел – продолжала его презирать сквозь свои огромные очки. В бунгало стояли ещё штук десять столов, за которыми сидели ребята и готовились отвечать на билеты. На измождённых тяжким мыслительным процессом лицах читалось сильное желание сдать экзамен непременно хорошо. А также – полное отсутствие знаний, кои помогли бы ребятам осуществить эти желания. Все вокруг доставали шпаргалки, шуршали и тревожно озирались. Ребята рассматривали свои шпаргалки под почти нулевым углом, что грозило будущим морякам косоглазием.
В этот момент в бунгало степенно зашёл седовласый худощавый мужчина лет под пятьдесят с удивительно пронзительным и внимательным взглядом. От него веяло серьёзностью и одновременно детским задором, казалось, он вот-вот над чем-то рассмеётся. Прошёл и присел на другой стул рядом с женщиной. Та стала нашёптывать вошедшему и показывать пальцем в Юркину сторону. Часть фраз ему удалось разобрать: «Вон тот…», «без подготовки…», «из Казахстана…», «не верю…», «слишком глупое лицо…», «лет десять уже такого не помню…», «даже наши ребята-медалисты никогда…», «и москвичи тоже не помню, чтобы…» Седовласый выслушал её внимательно, встал со своего места и стал прохаживаться между рядами, смотря на то, что написано у абитуриентов на листочках. Дошёл и до Юрки, перед которым лежал совершенно чистый лист бумаги.
– А вы что же не пишете ничего?
– Зачем зря бумагу переводить? Готов я.
– Вы уверены в этом?
– Абсолютно уверен.
– Я сейчас вас вызову отвечать. И если не ответите хотя бы на один вопрос, включая дополнительные, получите «два». Вы всё-таки уверены в себе? – спросил он у Юрки, хитро улыбаясь.
– Готов, – ответил тот, понимая, что сворачивать уже поздно, и пошёл вслед за мужчиной.
«Сражение» двух профессоров математики с семнадцатилетним парнем продолжалось часа два, в течение которых Юра, ответив на свой билет и ещё на несколько, отбивался от перекрёстных вопросов экзаменаторов. Решал уравнения, системы, строил графики функций, доказывал геометрические теоремы. Пока наконец Андрей Иванович – так звали седовласого – не протянул Юрке свою большую сухую ладонь и не сказал: «Поздравляю. Я даю вам “пять”». И несмотря на протесты злой барышни, не очень, впрочем, настойчивые, Юре всё-таки «дали» «пять».
А после обеда – опять одиночество. И так ещё несколько длинных дней, ещё пара экзаменов, не столь для Юрки успешных, но тем не менее сданных на «отлично». Пока однажды, в один из редких солнечных дней, Юрку не вызвали на КПП – приехала одноклассница Ирка, также подавшая документы в один из питерских вузов. Остановилась у сестры, с ней и приехала в училище.
Две стройные красавицы провели в ожидании полчаса, пока наконец не появился тот, кого ждали. Его не сразу узнали – мятая роба, берет на обритой блестящей голове и почти ни одной знакомой черты на посуровевшем лице.
– Здравствуй, – обнялись, расцеловались.
Юрка больше молчал, слушал. Ещё когда летел к проходной, думал, что не выдержит, упадёт Ирке на грудь и попросит увезти его отсюда. Хоть куда. Вот бы она догадалась прихватить с собой гражданские штаны. Не догадалась. Смеясь, рассказывала о своих, как уже Юрке казалось детских, успехах и горестях. Ждала и от одноклассника обычного для него заразительного веселья. Не дождалась. Она не знала, что у Юрки в душе уже дал ростки другой, инородный военный синдром со своими отношениями, разваливающими детскую душу, рвущими и корёжащими её на свой остервенелый лад.
– Я б ей вкрячил. Или обеим по очереди, – услышали они позади себя дурацкий гогочущий смех группки таких же, как Юрка, парней, примостившихся прямо на траве.
Вспыхнули щёки обеих красавиц вишнёво-красным. Юрка же отметил про себя, что ему не стыдно. Уже не стыдно. Лишь обидно за Ирочку. Росли вместе, подобного отношения к девушкам в их классе не встречалось. Новый Юркин коллектив диктовал такую дикость как норму. Ирка не дала своему однокласснику отомстить за себя, увела подальше в лес. Но разговора, весёлых историй и смеха так и не получилось. Потом девчонки уехали.
Вскоре вступительные экзамены для Юрки успешно закончились с единственной четвёркой по истории. Поступил. После двух праздничных дней, когда одни уезжали, грустные, а другие, весёлые, оставались в лагере, начался «курс молодого бойца». Ребят переодели в настоящую морскую форму, распределили по ротам, расселили по баракам.
И начался месяц, деталей которого ни Юрка, ни кто другой из его сослуживцев вспомнить впоследствии не сможет. Месяц «хорового» топота ног, сборок-разборок оружия, стрельб, уставов, занятий, вечного недосыпа и полуголода. Запомнился ему лишь неистребимый запах пота, матерная брань сквозь стиснутые зубы и ещё, пожалуй, дождливый день, отмеченный в календаре четырьмя восьмёрками – восьмое августа восемьдесят восьмого. Сильно дождливый день, но Юрка уже начал привыкать к местной влажности и радовался обилию восьмёрок как некому знаку для себя, метке, означающей изменение к лучшему.
Но для Юры, как и для тысяч курсантов до него, ничего не изменилось – в конце августа, щеголяя новой формой, в питерское Адмиралтейство вошла рота новобранцев, вручив на пять лет свои хрупкие судьбы этим стенам петровской поры. Первокурсники готовились к присяге Родине – главному событию, предстоящему ребятам в ближайшем будущем.
Юрка всё чаще ощущал себя человеко-автоматом, совсем позабыв о своём былом душевном раздрае. Тонкие грани истёрлись, стали незаметными, и думать об этом было просто некогда.
Набранный текст я скопировал и отослал тебе на рабочий адрес, добавив от себя «привет» и «как дела» – тебе не всегда нравились нежности в письмах, и мне частенько доставалось за это «на орехи».
Затем выпил большую кружку крепкого чая и попытался упасть в сон, который не шёл ко мне, как я его ни звал, ворочаясь и считая в уме до ста и обратно. Заныло опять нутро – ну не спится без тебя, не живётся, не естся, не пьётся. И изменить ничего не могу, ускорить твой приезд не в силах – загнала меня в пассив, отпасовала уснувшему року, а я лежу на кровати и ощущаю себя плесенью, которая завязывается на мокром – а у меня тут от слёз уже всё мокрое, – растёт себе и ни на что не влияет.
Без тебя всё одинаково – завтра моё ничуть не отличается от сегодня. Лишь ожидание ответа распирало грудь, лишь надежда скорого приезда питала.
А ты написала мне только «здравствуй» и сказку. Для Юрки. Вот эту:
«Однажды на Земле родился мальчик. Лёгонький, крошечный, большеглазый. В унылый казённый роддом слетелись феи – что им стены, выкрашенные масляной краской, что им тусклый кафель, они прилетели к Человеку. Глаза фей не видят стен, они видят души. Маленькие корзиночки с дарами покачивались над мальчиком, солнечные зайчики прыгали от золотых невидимых даров, щекотали крохотный нос.
Фея Игры подарила черного слона, прошептав заклинание: “Однажды Женщина подарит тебе белого слоника, но ты всё равно будешь мечтать о розовом. Но я дарю тебе благословение игры чёрных и белых клеток”.
Фея Цифр поцеловала его мягкие сливочные ушки и вдунула в раковинку левого волшебную формулу, прошептав: “Цифры будут узнавать тебя в лицо, будут ластиться к тебе, как ручные”.
Фея Превращений провела лёгкими пальцами по личику, прошептав: “Дарю тебе способность изображать, что захочешь”.
А фея Любви молчала и улыбалась. Вчера старая фея Мудрости показала ей будущее мальчика. Мальчик вырастет, и благословения фей будут сопровождать его, да. Но! Мальчик настолько верен модели Царства Справедливости – Царства, откуда все мы рождаемся на Землю, чтобы прожить на ней положенный срок, – что не захочет воспользоваться своими дарами, если земная система не готова предоставить ему место, сообразное его дарованиям. А система окажется не готова. Жалкая, заглючившая намертво система, куда встроиться можно только искорежив себя и своих ближних…
Фея Любви молчала и видела, как в плавильне маленького сердца распадаются на молекулы белого золота и способности к игре, и навыки лицедейства, и таинство счёта, и воля побеждать.
Мальчик вырастет и начнёт отличать Женщину от женщин. И тогда придёт его час. Ибо обладающие этим знанием во все времена превосходили любые системы, да и сами времена.
Фея Любви терпеливо ждёт. Осталось недолго».
Вот, значит, как. Юрку, следуя тебе, терпеливо ждёт фея Любви. Моя же фея прислала мне приветствие – и ни слова о приезде, ни вопроса обо мне.
Ну погоди же, раз так, устрою твоему Юрке презабавнейшее будущее. В отличие от тебя – переменного ветра, чью принадлежность земному не установить, – Юрка в моей власти. Готовься. Я с ним что-нибудь сделаю. Так рассуждал я.
Тогда я не понял, что сказкой своей ты светила мне сквозь темноту Юркиного будущего, помогая, подсказывая, желая видеть его там, в конце освещённого тобой тоннеля.
Часть 2
Глава 1
Юрка с товарищем в тот день заступили дневальными по корпусу; они меняли старшекурсников, поэтому тянуть с принятием вахты не стали.
– Молодцы, – похвалили старшие, кинули повязки дневальных на тумбочку и ушли. У Юрки с Эдиком началось первое в их жизни дневальство.
Дневальный – это тот, кто сутки стоит у большой тумбочки и имеет ряд обязанностей. Например – громко проорать: «Смирно» – если в помещение пришёл кто-то из начальства. Или, допустим, содержать в порядке помещение. Если, конечно, ты в данный момент на тумбочке не стоишь, то мети и убирай. А если стоишь, то внимай телефону и входной двери. Ну это вкратце, там на самом деле перечень обязанностей занимает несколько страниц. У Юрки и Эдика задолго до их заступления на вахту начальники – а их много – выясняли, как хорошо курсанты знают свои обязанности. Несколько раз начальникам не нравился уровень подготовки, Юрке с Эдиком давали затрещину и снова усаживали в Ленинскую комнату учить наизусть обязанности. За пять минут до развода их были вынуждены отпустить. Но уже бегом, потому что опаздывали. И уже никого не интересовало, что Эдик не всё знает наизусть.
Юрка первый принял дежурство – Эдик куда-то запропал, а выяснять, кому заступать первому, некогда, к тому же на тумбочке дневального заверещал телефон.
Военный телефон, скажу я вам, он ведь не для связи. Эти звуки, что из него шелестят, это и не слова вовсе, это варёный горох, который просыпали в глубокий котёл. Потому из того, что там прошелестели, Юрка не понял ничего. Но успел сказать заветное слово «есть» – а это самое главное в армии, – и на том конце что-то булькнуло, кажется, радостным всхлипом.
Надо сказать, что с «точки дневального» Юрка впервые видел тот самый коридор, по которому так часто ходил. Его охватило смятение: давеча им получено так много инструкций, а когда и как их применять – забыл, запутался до такой степени, что уже не очень хорошо понимал своё назначение. И коридор виделся длиннющим отсюда.
Вот тут откуда-то и явился четверокурсник, который сказал Юрке, что он придурок. Потому что Юрка не знал, где Эдик, а должен был. А ещё отругал за то, что в коридоре грязно, а из туалета запах. Юрка подумал было ответить, что туалет – он потому вонюч, что его для этого и строят, но не успел, потому что получил резкий тычок кулаком в лоб. И Юркин «краб» на бескозырке распрямился. Чего, собственно, и добивался «четвертак», чтоб по уставу было. В смысле – ему гнуть «краб» можно, а Юрке ещё нет.
Страшно не было. Скорее обидно. Юрке казалось, что с его старшим братом Вовкой такого бы никогда не случилось, он-то умел внушить собеседнику странное обстоятельство собственного превосходства. Не физического, брат никогда не был сильным. Скорее в моральном смысле, потому что от него веяло лютостью, непримиримостью, готовностью противостоять кому угодно и сколько угодно.
Ещё недавно с Юркой случилась такая история. Володя в то время служил в армии, но история с ним связана.
В школе у Юрки был выпускной. Грустный, красивый, слёзный, весёлый. Ещё до его окончания одноклассница Саша попросила Юрку проводить её домой. А жила она, к слову, в районе переселённых сюда чеченцев, те держались всегда обособленно, Юрка про них ничего не знал ещё. Просто слышал об этом, и всё. Пока шли, было весело, а когда подошли к её дому, темнота вытолкнула навстречу маленького человека с ножом в руке. Человек сказал, что сейчас Юрку зарэжэт, потому что тот гуляет с их дэвюшками. Что-то подсказывало, что человек не врёт, глаза у него были совершенно пустые. Подходили люди, здоровались с маленьким абреком и, узнав, что тут ничего интересного, всего лишь кого-то сейчас убьют, спокойно уходили. У Юрки затылок промок от пота, его ещё никогда не резали. Слов не было, да и кому их говорить – неясно.
Вдруг в темноте, с другой стороны улицы, Юрку кто-то окликнул сначала по имени, но он не услышал, затем по фамилии. И тут случилось чудо. Глаза человека с ножом перестали быть пустыми, в них появился смысл и даже радость. Человек спросил Юрку, есть ли у него брат Вовка, а когда узнал, что да, есть, – просил передать привет и разрешил гулять тут, когда Юрка захочет. А ещё сказал, что смерти бояться не надо, потому что её нет, резанул себе ладонь и пожал Юрке руку. Кровь с ладони у Юрки дома долго не отмывалась.
Между тем Эдуарду, Юркиному подсменному, накостыляли. Ему приказали мести коридор, он и мёл, но другие пришли и забрали Эдика, а тем временем наметённую кучку распинали по всему коридору уже третьи. А потом его вернули в грязный коридор и здорово надавали.
В тот вечер старшекурсников в увольнение не отпустили, намечалась проверка, и все бегали, как ошпаренные. Вернее, те, кто постарше, гоняли тех, кто помладше, поэтому младшие бегали быстрее. Но перемещались все.
После ужина, о котором через минуту осталась лишь память, Юрке хотели «отбить ум». Дежурный третьекурсник ещё до ужина упал спать и наказал дневальному поднять его во сколько-то там. В положенное время Юрка зашёл его разбудить, а тот спросонья хотел его ударить. Юрка увернулся и, отбегая, успел объяснить, что тот сам его просил об этом. За это, в качестве поощрения, Юрку оставили в кубрике третьего курса делать уборку. Поощрение заключалось в том, что во время приборки Юрку никто не трогал. Дежурный третьекурсник обладал животом размером с колесо телеги и нравом викинга, с ним старались не связываться. Работая в кубрике, Юрка отдыхал. До полуночи. После этого наступила его вахта. Поначалу вахта складывалась тихой и липкой. Свет гудит, людей нет, никакого шороха, мыслей тоже. Вот кто знает, что смешнее всего тогда, когда нельзя смеяться, тот знает то же самое и про сон. Спать хочется, когда нельзя. Кажется, тогда Юрка научился спать стоя.
Через пару часов пришли «четвертаки» из города, закрылись в шхере, и часа полтора оттуда доносились лишь музыка и звон стаканов. А потом вышел один из «четвертаков» и наблевал на натёртую Эдиком палубу у гальюна.
В два часа пришло время сменяться. Разбудить Эдика тяжело, тот буквально провалился в яму сна, достать его оттуда, сквозь слюни и закрытые глаза, было почти невозможно. Но необходимо. Через десять минут его удалось-таки поставить вертикально и дотолкать до тумбочки дневального. Там и оставить.
Поспать Юрке дали полчаса, не больше, спал он сидя, потому что успел лишь прикоснуться к спинке кровати. Эдик разбудил его, сидящего, сказал, что «четвертаки» зовут в бытовку.
Там его окончательно разбудили, очень быстро – дали в живот кулаком, и всё. Так, кстати, пробуждаешься мгновенно, можете проверить, но лучше поверьте. Когда отдышишься, перестанешь корчиться, чувствуешь себя бодрым и всемогущим.
В бытовке остался срач, его следовало ликвидировать. Юрка всё убрал, проветрил, остатки еды собрал на тарелку, а выбросить не решился. С едой у него были особые отношения. Еда не всегда водилась в его доме, в детстве, имею в виду.
Пока он думал, что с той едой делать, не заметил, как присел на баночку и задремал. Этого делать было никак нельзя, особенно в бытовке старшекурсников: Юрку могли увидеть. Увидел один. Бил. Впрочем, недолго, его оттащили другие «четвертаки». После настала очередная Юркина вахта, с утра всё в корпусе забегало, запахло потом, утрамбовало пространство матом. Потом начался завтрак. Он ничем не отличался от других таких же. Сейчас расскажу, каким он был. Подстаканник, в нем стакан, в нём – как бы чай. Если по норме на стакан нужно сто чаинок, им доставалось по три. Сахар в той же пропорции. Масло так же – маленький шлепок замёрзшей жёлтой жижи. И кусок хлеба – сквозь него можно разглядеть мичмана, который дежурил по камбузу. Есть на первом курсе Юрке хотелось всегда.
Потом началась комиссия. Старший шел величаво, указывал в разные стороны, а сзади семенил помощник и, следуя преданным взглядом в направлении указующего пальца, записывал замечания в блокноте. Некоторые замечания исправлялись на ходу юрким Эдиком.
– Ну что это? – удивлялся старший, указывая на висящие не так, как положено, курсантские бушлаты.
– Ну как же так? – вслед за ним повторяли помощники.
– Виноваты, – отвечали командиры рот. И тут же своим дежурным: – Исправлять!
– Так точно! – бодро откликались дежурные и, поворачиваясь к тяжко дышащему Эдику: – Бегом!
Эдик ничего не говорил, он долбил ботинками блестящий паркет. Проверяющие дошли до конца коридора и скрылись в кубрике первого курса. И уже оттуда, еле слышно: «Ну что это? Ну как же так?» – и звук Эдиковых ботинок. Его было много.
Комиссия выискивала недостатки до самого обеда. Помощник главного проверяющего исписал замечаниями два блокнота. Эдуард был похож на загнанного пса. Я не очень хорошо знаю, как выглядит такой пёс, но почти уверен, что жалко.
Через некоторое время на факультет вернулись курсанты. На тумбочке последние четыре часа до смены стоял Эдик, Юрка со шваброй в руках – чтоб все видели, что он при деле – ходил взад-вперёд и ничего не делал.
Хотя не долго. За час до смены у старшины роты украли одеколон. Тот сам так сказал. Поэтому Юрку с Эдиком сняли с вахты и поставили на вторые сутки.
За окном веселился дождь, барабаня о подоконники миллионами музыкальных пальцев – был октябрь.
В гальюне был выключен свет и журчала вода, пахнущая хлоркой и фекалиями – в нём, в гальюне, никого.
В коридоре горели лампы, гудя тихо-тихо, но если их слушать вторые сутки подряд, казалось, что это гудки далёких пароходов, а кроме них ничего – ночь.
С одной стороны коридора – одинокая толстая будка с телефоном, называемая тумбочкой дневального; ей всё равно, она тут живет. Рядом с тумбочкой грустный дневальный с опухшими глазами, переминаясь на телеграфных столбах, которые нормальные люди называли ногами, – он тут вторые сутки. А позади повторный развод вахты с очередным радостным дежурным – он сменил старого. В прошлом остались вчерашние швабры и тряпки, крики и ругань, телефонные звонки и унижения – впереди новые.
Юрка хотел умереть, и если не выйдет совсем, то хотя бы до четырех часов вечера, до долгожданной смены. Юркины глаза смыкались сами, не спрашивая разрешения, мысль летела не пойми куда. Не пойми зачем.
На следующий день выяснилось, что Юрка не погиб, а вполне удачно сменился. Дожив до отбоя, он заснул, считая себя скорее мёртвым. И только позже, ближе к обеду – скорее живым. Служба продолжалась.
Глава 2
Дни растянули в один. Закольцевали бесы и катят по кругу. Я не знаю дней недели, я могу приехать на работу, а закрытая офисная дверь напомнит, что сегодня выходной. Я в полёте-в-себя, наверху делать нечего. И дышать нечем. Выгляну иногда, выпью кофе из твоей кружки, не мытой с последнего твоего касания, вдохну выдохнутый тобой воздух и – опять в себя. А ночами светло – наверное, снежит, вьюжит, выбеливает кристаллами чьих-то замёрзших слёз. Моих? Нет, я не плачу. Я лишь тихонько выглядываю в окно – не оставлен ли знакомый след носочком в сторону дома? Я не плачу, я лишь нахожу себя выхваченным из дрёмы, сидящим у входной двери.
У продавщицы из магазина напротив – мы с тобой давно её знаем – твоё имя. И у моей начальницы. И у почтальонши тоже. И у почему-то мокрой подушки. А я пишу тебе – что мне остаётся, кроме этого? Ты не отвечаешь. Не доходят письма? Сломалась почта или замёрз почтальон? Хотя нет – электронный почтальон не мёрзнет. Наверное.
Ты молчала в ответ на мольбы: «Знаешь, попытался обрести разум, сидел за кофе и пачкой сигарет. Один. Думал. У меня совсем нет сил не любить тебя. Я хочу сказать, что правда не могу без тебя. Не умею. Дай мне, пожалуйста, один шанс. Я постараюсь тебе доказать, что я не настолько плохой и бесчувственный. Я стану тем, кем скажешь. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Я сделаю. Только давай мне иногда знать, как ты живёшь и всё ли у тебя хорошо. Я не жалуюсь, нет. Каким я должен стать? Каким? Скажи – стану. Скажи: никогда больше ко мне не прикасайся – не коснусь. Только вернись. Только проснись. Ответь только! И только не проси не думать о тебе. Только не проси не любить. Не кради у меня, не забери у меня маленькой частички тебя».
Молчала.
Молчала и на это:
«Прочертил мелованной мыслью круг вокруг. Внутри окружённые – мы, что снаружи – не знаю, неинтересно. Хорошо помню твои добрые, мягкие руки, что качали меня и пели колыбельные песни. Я кривил беззубый рот, а ты кормила меня из себя, и я, радостный, замолкал. Расслаблял во сне свои несерьёзные ещё мускулы и пачкал пелёнки, а ты не ругалась, молча мыла меня, меняла бельё и шла стирать. Гуляли с тобой – ты катила меня в коляске и рассказывала первые сказки о разнице добра и зла. Я внимательно сосал соску и морщил розовый лоб – слушал. Потом я пошёл в школу и ты, вручив мне огромный букетище, пошла рядом, а чтобы не боялся, мягко обняла своей ладонью мою – и я не боялся.
Ты не ругалась, когда я приносил из школы двойки или приползал домой с расшибленными коленками. Мазала меня зелёнкой и, чтобы не показал нечаянно, что не совсем ещё мужчина, дула тёплым на раны – и я казался себе терпеливым маленьким мужчиной.
На Восьмое марта я вырезал аппликации из открыток, клеил на тетрадный листочек и размашисто вырисовывал свою к тебе любовь, а ты плакала. Плакала, но моё сердце не сжималось – я видел, что глаза твои счастливы.
Помню, впервые влюбился, как мне казалось, смертельно. Но не любили меня – думал, умру. А сзади подошла всё понимающая ты и просто положила свою тёплую ладонь мне на волосы, потеребила их легко и прижала к себе. А я рыдал, рыдал без удержу. Но умирать передумал.
Много раз потом происходило страшное, смертельное, но всегда случалось исцеляющее чудо. И имя ему – мама.
Ты – моя мама.
Сестра-ровесница, рядом родное сердце красавицы, от блеска которой не гибну в округе лишь я, – мне всегда было хорошо с тобой просто болтать о жизни и болтаться дотемна по городу. Ты не стеснялась моей неказистости, нет, напротив – никогда ни словом, ни взглядом не давала мне этого знать, подбадривала меня, говорила, что красив, но я видел себя в зеркало – спасибо тебе, родная, спасибо, я тебе иногда верил, мне так хотелось тебе верить.
Мы росли, и у тебя стало так влекуще всё округляться, ты превращалась в маленькую женщину. И почему-то этого стеснялась, опускала своё раскрасневшееся лицо всё ниже и ниже, особенно когда вокруг тебя стаями кружили сопливые ещё – и не очень – якобы поклонники.
Я не давал тебя обижать, как мог не давал. Помнишь, я пришёл домой с разбитым, свёрнутым набок носом? Я сказал, что упал с турника, а ты ревела, ругалась и пыталась дрожащими пальчиками набрать номер «Скорой помощи». А их просто было много, они стояли во дворе и говорили о тебе гадости, а я услышал.
Много позже, когда меня уже долго не было дома, у тебя случилась, как ты сказала, настоящая любовь. А я ревновал. Не говорил тебе, да и сейчас не скажу, но ревновал. Не физически конечно, а от тоски по прежней тебе, которой ты больше не будешь.
Сестрёнка моя любимая, когда мне плохо и остаюсь один, я представляю, как мы бредём с тобой рядом тихо и нежно туда, где меньше людей, и долго стоим у реки, молча вжавшись друг в друга, и гадаем: льдинки ли плывут по речке или маленькие веточки. И мне становится так тепло и спокойно, что откуда-то берутся силы жить дальше.
Ты – моя любимая сестричка.
Я так долго тебя ждал, я столько выкурил кислых сигарет, проводя томительно-резиновые минуты у окон родильного дома, вытоптав там целое футбольное поле, что когда ты появилась и тихонечко пискнула, заставив дребезжать стёкла окон в округе, помню, меня качнуло и я рухнул, зарыдав от счастья.
Дочка. Доченька. Маленькие платья для твоих куколок, твои платьица, которые чуть больше кукольных, – маленькая хозяюшка нашего дома, деловая и наивно-серьёзная. Везде у тебя порядок. Ты не любишь, когда я разбрасываю после работы свою одежду. Но не ругаешь, только морщишь маленький лоб и развешиваешь по местам мои рубашки и штаны – хозяюшка.
Отдаю тебе всё. И время своё, не всегда свободное. Заботу и нежность. Хоть я жесток порой – жизнь требует, – на тебя у меня нежности хватит. Придёшь домой, внутри, на душе, словно свалка мусора, а тут ты улыбаешься, на верхней губе застывший рубин родинки – тонкий простенок меж радостью и горем, и я чувствую, как кто-то заботливо прибрал в моей душе, как зацвели там, в бывшей грязи, ромашки, так на тебя радостную похожие.
Люблю носить тебя на руках, а ты залезаешь маленькими ладошками мне под рубашку, щекочешь, перебирая мои волосы на груди, тебе весело, а я полумёртв от счастья.
Когда, бывает, бредёшь, спотыкаясь о жизнь, случайно останавливаешься у пропасти, балансируешь, не особенно, в общем-то, желая удержаться, я вспоминаю тебя, родная, и понимаю – мне есть для кого жить. Это понимание меня всегда отбрасывает от обрыва.
Ты – моя любимая и единственная доченька. Спасительница маленькая, целительница, не осознающая пока своего дара.
Когда мы зацепились взглядом друг за друга, не знаю, как ты, а я сразу понял – эта девочка будет моей, она уже сейчас моя и всегда была моей, она и рождена для меня. А я для неё. Я всё в тебе уже знал, видел, трогал, слышал – и всё это уже любил. И ты тоже меня и моё знала – я не ошибся. Хочу жить-прожить с тобой, сколько не жалко Небу. Сколько бы ни отсыпано было – всё приму с благодарностью. Минута, до краёв наполненная твоим голосом, – это год счастья. Немного посидишь рядом с тобой, положив на плечо голову, – могу не спать три ночи подряд, столько черпаю в тебе сил. Подержу за мягкую ладонь – и в городской смог врывается чистый лесной ветерок. Загляну в глаза – солнышко встаёт над нашим часто унылым и грустным городом. Я тебя люблю, ты – моя жена.
Дочерчен мелованной мыслью круг. Зазеркаленно отражает внутренность себя – меня и тебя. Кто-то третий промеж нас, кто-то ласково третий. Это счастье меня в тебе. Это блаженство тебя во мне. Это ребёночек наш общий, мы выстрадали его – это Счастье наше».
И только на покаянно-успокоенное письмо моё из уже второго, пожалуй, десятка, ответила. Вот на это:
«Мне так хочется посидеть с тобой рядом. И не смотреть в любимые глаза, не смотреть. Как это больно – сгорать в их губительном для меня пламени и знать, знать, что никогда больше они не взглянут на меня ласково.
Просто посидеть и тихонечко поговорить с тобой.
Я мог бы кинуться тебе в ноги и молить о прощении.
И я мог бы все твои претензии ко мне – знать бы ещё их в лицо – опровергнуть. Мягко или резко. И в том и в другом случае – поверь! – мне есть что сказать.
Я не хочу, я не люблю, я не могу оправдываться. И я не могу и не хочу опровергать тебя.
Я хочу просто тебя слушать. Я не буду жаловаться и рассказывать о своём состоянии – я не очень то уверен, что тебе это интересно. Ты что-то говорила про своё умение ставить себя на место другого. Если это так – а это, видимо, так, – ты не можешь не понимать моё состояние подвешенности за горло.
Понимаешь, и всё-таки молчишь.
Что ж, я всё равно не перестаю тебя безумно любить, безбашенно обожать и боготворить. Не перестаю и не перестану.
Но я не жалуюсь – зачем? Я просто не могу без тебя жить – уже! Я просто не представляю себе мир-без-тебя – уже!
Я просто хочу посидеть с тобой рядом. Просто послушать. Прости меня».
Ты ответила почти сразу:
«Мне очень трудно сейчас. Такой период. Нужно быть одной. Если любишь – поймёшь». Это был твой ответ. А между тем прошло уже два месяца с тех пор, как ты неожиданно улетучилась, и на улице почти перестали скрипеть чужие шаги в сугробах, уже сопливила капель.
Кажется, тогда от такой объёмной безысходности и непонимания я взвыл и придумал написать тебе первое письмо. От Юрки. Это был контрастный шаг, мне казалось, что именно такой приведёт к изменению ситуации. Тогда я ещё не мог знать насколько далеко можно оказаться от истины, находясь в то же время рядом с ней. Слепая влюбленная ярость.
Глава 3
Собственно, если я хотел продолжать общение с тобой – а я жаждал, – выхода другого, кроме как выйти на тебя «с другим лицом», у меня не было. Паутина сети, как мне казалось, надёжно скроет истинного меня. Мне останется лишь немного поменять стиль общения, и ты меня никогда не узнаешь. Находка выглядела ценной. Я знал все сетевые ресурсы твоего пространства, я знал твои интересы и предпочтения, твои имена. Вымышленные и настоящие. Мне оставалось лишь «переодеться». Что я и сделал, назвавшись Юрием, – нашего ты должна была уже позабыть, да мало ли Юриев на земле, а тем паче вымышленных. Покрутился, дабы привыкнуть к местности, месяц на порталах, сотворил пару скандалов, главной целью которых было любой ценой обратить на себя твоё внимание, пусть даже твоим раздражением или смехом, за которым ты спряталась от меня, и приготовился к главному прыжку.
Долго выжидал, оставив поле возможного соприкосновения «под паром», наконец, через пару недель после очередного скандала, выдал с другого адреса, не известного тебе, на твой, который ты никогда не скрывала:
«Здравствуй! Кстати, объясни мне, как к тебе обращаться, ты скрываешь свое настоящее имя. Я очень давно хотел тебе написать, да не решался всё. Вот, собрался.
Собственно, так, ничего особенного. Просто хотелось с тобой поговорить. Без свидетелей. Один на один. Мне хочется хоть единожды поговорить с тобой в серьёзном тоне. А то ты всю дорогу отшучиваешься. А надо мной так просто смеёшься. А мне иногда бывает обидно. Я знаю, ты добрый и весёлый человек. И это здорово. Но вот ведь, кажется, что я тебе заменяю шута. Я хочу, чтоб ты знала, мне трудно быть нечестным. А с людьми, дорогими мне, такого просто не может быть. А ты мне дорога. Не удивляйся и не сердись, пожалуйста. Это так.
Я очень люблю смотреть на тебя. На фотографию твою, что для всех открыта. Разговариваю с тобой. Особенно плохо когда. Это часто бывает. А вот с тобой поговорю, и вроде как легче становится. У тебя очень добрые глаза, и такие знакомые, что ли, родные даже. В наших с тобой – с фотографией – разговорах ты понимаешь меня, сочувствуешь даже. А как ещё может реагировать женщина с такими глазами? А на самом деле ты шутишь надо мной. Обидно очень. Знаешь, сколько раз я хотел тебе за это нахамить? Много. Но всё время останавливался, глаза добрые вспоминал.
Я в жизни видел мало хорошего. В твоих глазах я вижу необходимое, то, чего у меня было мало. Нет, ты не подумай, пожалуйста, обо мне плохо, я вовсе не собираюсь иметь на тебя какие-то виды, как на женщину. Даже не ищу с тобой встречи. Я знаю, что ты счастлива. И правильно, ты заслуживаешь. И у меня вроде нормально всё. Но ничего не могу с собой поделать. Нравишься ты мне. Глупо, да? Странно? Может, и так. Просто я хочу, чтобы ты поняла меня. Я никогда не смогу сказать и сделать тебе ничего дурного. А ты всё смеешься. А глаза добрые. Собственно, не жду от тебя ответа. Я хочу, чтобы ты знала то, что я сказал. А теперь смейся, смейся, ты это так любишь. И это идёт тебе.
Прости мне мою откровенность. Надеюсь, не расстроил и не разгневал. Юрий».
Очень довольный тем, что, как мне казалось, удачно поддерживаю ролевую незнакомость с тобой, проверив три раза написанное побуквенно, нажал кнопку, отправил письмо.
Ты ответила на следующий день. Странно, мне приходилось в последнее время, чуть не силой вытягивать у тебя буквы. «Юрий» получил ответ назавтра.
«Здравствуй! Если тебе так хочется обращаться ко мне не вымышленным ником, то называй меня просто “Ю”. Смеяться не стану. Ты же понимаешь, что на сайтах можно держать лишь ролевую ноту. Имиджевую.
Ох, я знаю, что действую на мужчин вот так. Слишком во мне высокая концентрация всего такого, что дразнится, бросает мужчине вызов. Но меня Бог хранит – я этим не пользуюсь во зло, понимаешь? Такое детство было «страдательное» и юность, что при всех данных стать вертихвосткой – не стала. У меня получается дружить с мужчинами. Понимаешь? Именно дружить. Всегда сложно удерживать отношения от сползания по известной траектории: очарованность, влюблённость и далее. Избыток мужского внимания и нежелание никого обижать способствовали тому, что я поняла для себя: мужчине нужна женщина не только в роли возлюбленной, но и в роли сестры. Сестры нежной, понимающей, прощающей. Сестра не требует и не берёт столько, сколько любимая, правда же? Сестра не осудит, поддержит, поймёт. И вот со всеми мужчинами, которые останавливаются возле меня, я устанавливаю такие отношения. И для таких отношений открыта.
Я не думаю, что ты – шут. У тебя такой темперамент – артистический. Это замечательно. И я шучу с тобой, потому что уверена – ты поддержишь шутку, игру, ответишь в тон, не взвоешь. И мне понятен порыв, в котором пишутся такие письма. Правда. Всё хорошо, не мучайся.
«.
«Так-так, – думаю себе, – это с какими такими мужчинами ты устанавливаешь отношения сестра – брат? Сколько там становящихся в очередь, и почему я про это ни сном ни духом?» Не имея сил не ревновать, я курил два дня. Как трудно было вновь переродиться в «Юрия», который обязан, просто обязан обрадоваться твоему ответу.
«Ю, привет!
Ты всё верно поняла. Боже, я наконец услышал от тебя серьёзный тон! И ты таки употребила рядом с моим именем “мужчина”. Счастлив очень. Но, поскольку выясняется, что рядом с тобой много “братьев” – я их понимаю, – предпочитаю в таком случае остаться тебе… просто хорошим знакомым. Не против?
Насчет артистизма моего ты права. Я после школы хотел в театральный поступать, но меня не пустили. А вернее, денег не было, чтобы уехать. Пришлось стать офицером. Там дорогу оплачивали. (Я очень надеялся, что ты не вспомнишь о нашей давнишней задумке сочинить героя, ведь прошло уже много времени). Я ужасно рад твоему ответу, дорогая Ю! Так сильно рад, что со словами сразу стало как-то трудно. Прости. Целую тебя в щёку тысячу раз!»
Я специально написал про щёку, зная, что ты терпеть не можешь такого вольного отношения. Тем более от людей незнакомых. Ты даже мне почти никогда не позволяла так с тобой говорить. Зачем так поступил? А как иначе? С тобой просто так, инертно, общаться нельзя. Во всяком случае, чтобы заслужить твое внимание, тебя нужно постоянно «дёргать» недозволенным. Я дёрнул, а ты замолчала, прислав гневное письмо, в котором просила никогда не говорить тебе глупых ласковостей, поскольку они ни к чему, поскольку ты любишь своего мужа (меня! Ура!) и никогда не допустишь измены. Такие вещи не рассматриваются тобой – и поставила точку. Такую жирную точку, что просто перестала Юрию писать. Впрочем, и про меня, мужа настоящего, не вспоминала, живя себе у своих дальних родственников.
Черт возьми, ни меня, ни Юрия такой поворот событий никак не устраивал, тем более при мысли о пресловутой «очереди» к тебе. Я писал тебе сам, клялся в любви, мычал, плакал, грозил самоубийством – молчала. Писал Юрий, извинялся – молчала.
Что было делать? Мне нужны были от тебя слова. Любые. И я, при помощи Юрки, конечно, пролился на тебя полузлобным преследованием. В смысле не на тебя саму, твои творения подверглись моим нападкам с грубой злостью и желчью. Прекрасно зная, что ты не любишь людей, мыслящих стандартно, плоско, именно так я и атаковал тебя. На твои чудо-творения о еде, с которой, по твоим же словам, у тебя был роман, на эти лакомства, которые обожал и которые мне снились, я нарочито жёстко извергал насмешки и похабщину. Писал, что по доброй воле такое никто есть не станет, а если и да, то только за деньги. О том, что ты – о, мой бог! – заигралась в слова и за их калейдоскопом перестала замечать простого читателя, тем самым ставя себя изначально выше него, оскорбляя его.
Ты молчала, я почти слышал, как ты злилась. Но ты молчала в Юркину сторону.
Юра отправил штук восемь писем с извинениями, самобичеваниями, самоунижениями, прося, умоляя простить. Вот твой ответ:
«Ты, наверное, как и я, не можешь быть с кем-то в ссоре. Знаешь, ты просто нормальный. Мне с такими всегда было не по пути. У них своя простая система координат и одна точка отсчёта. У меня – иррациональность снаружи и внутри. Я ищу и нахожу таких же, как я, поражённых многомерностью бытия. Мне ясен их язык. Их образы и кажущиеся непристойности. Это их способ избыть истерику от жизни. Эти люди мне дороги, потому что мы одного рода-племени. И таких людей среди знакомых у меня с десяток найдётся. Я живу, выучив язык обычного люда, потому что живу среди него. Другого-то глобуса нет. Поэтому у меня обострение боли всякий раз случается, когда нормальный мир через реалистов вроде тебя напоминает мне о моей ненормальности тем, что громко не понимает те рассказы, что внятны мне.
Знаешь, я думала, что те люди, которые ко мне тянутся, тоже в чём-то такие, с луны упавшие, и значит, им будут внятны те же вещи, что и мне. Ну глупа, что поделаешь, такие надежды – удел юных лет, а не моих. Ты не виноват в том, что чужд этих заморочек. Ты не обязан себя заставлять понимать то, от чего с души воротит. Не все должны уметь вскрывать трупы. Не мучайся, утешься. Мне плохо не из-за тебя. Просто твои бравые размахивания флагом нормальности были так энергичны, что флаг задевал меня по лицу. Мокрый и тяжёлый. Но мне нужно было просто отойти в сторону самой, а не ждать, что ты уймёшься. У тебя свои мотивации и свои болевые точки, и я тебе не судья. У нас нет общих сфер, это очевидно. Поэтому тебе правда лучше сторониться меня».
В себя после твоего ответа я приходил долго. Ты вычёркивала и Юрку из своей жизни. Так кто ж тебе нужен?
Кажется, от отчаяния, я выпил за месяц половину запасов спиртного из соседнего магазина. Со мной норовили поздороваться за руку все окрестные бомжи. А что делать дальше, так и не придумал.
Глава 4
Куда-то меня засасывало, тянуло и вращало. Туда, откуда у меня уже не было сил вернуться. К тому же я точно не знал, есть ли у меня на это желание. Не пугали горы пустых бутылок в комнатах, не раздражали смердящие люди со смутно различимыми лицами, после ухода которых этих бутылок становилось больше, а моих сил на возвращение всё меньше. И я всё слабее понимал, куда мне возвращаться и надо ли. А потом приходили другие люди взамен старых, впрочем, с теми же лицами. В зеркало заглядывать у меня не хватало духу, и однажды я его разбил, а на порезанную руку намотал грязную футболку, что когда-то ты мне подарила. Хотя в тот момент этот факт не был для меня самым важным. Самых важных уже просто не оставалось. Или все они были важными – я не знал. А за окном уже пылал жарким солнцем май, и я уже не мог сосчитать, сколько времени тебя у меня нет. Месяц? Четыре? Полгода? Что-то среднее, видимо. С работы меня уволили ещё в апреле, после того как однажды пришёл пьяным. Я жил на свою пенсию, что досталась мне по случаю прежних заслуг перед отечеством.
Ты почувствовала как-то, что я повис на краю жизни, и позвонила.
– Здравствуй, – я не сразу поверил-понял, что этот голос – твой, слишком грубые звуки были вокруг, слишком бронхиально хрипела жизнь рядом.
– Привет, – мне трудно было многословить по разным причинам. – Чему обязан?
– Я знаю, что тебе очень плохо.
– Так себе, – я пытался воззвать к остаткам своих сил и не сойти с ума – мне всё ещё не верилось, что это ты.
– Знаю. Соберись, пожалуйста. Не убивайся. Лучше…
– Что?
– Лучше расскажи мне о море. У тебя это иногда хорошо получалось. Мне хочется увидеть море твоими глазами. Напиши. Приходи в себя и напиши. Понимаешь, море всегда означало такое большое разделение, границу, за которой – всё другое. Помнишь эти сказочные «за семью морями», «ладно ль за морем иль худо»? Там – «за морем» – живут непоправимо иначе, словно именно море исключает собой и соседство, и влияние стран друг на друга, и похожесть культур.
– Да, – выпал у меня скрип из прокуренных легких.
– Я буду ждать твоего письма.
Я ещё долго стоял с телефонной трубкой у уха, слушая зуммер. И всё же это была ты. Или я сошёл с ума. Что в принципе означало для меня одно и то же. Странным образом такая мыслительная находка показалась мне ценной. Рассказать тебе о море.
Долго шарил я в голове в поисках шума прибоя, но ничего не нашёл. Ни моря, ни цунами, ни головы, ни самой мысли, которая всё время норовила убежать от меня в сторону пивного ларька. Силой последней капли воли я удержал её при себе и провалился в тяжёлый сон под гудение телеграфных столбов и скрежет собственных зубов…
Твёрдо попадать в кнопки клавиатуры удалось лишь на третий день после твоего звонка. Всё осложнялось тем, что я не был в нём уверен. Цепляясь за надежду, что мне это не пригрезилось, я отправил тебе письмо о море:
«Резал блестящим корпусом солёную воду, кренясь в манёвре, смело и от души зачёрпывая её планширем. Двухмачтовый красавец бриг, я раздувал щёки парусов, мчал навстречу мнимой опасности. Возможная смерть – лишь начало другой жизни. Значит – всё жизнь для счастливого в бесстрашии морского скитальца. Разные моря я видел, десятки их. Тёплые до замирания вмиг растаявшей души. Холодные, расчётливые и оттого прекрасные в своём блеске заснеженных алмазов. Призывно штормящие, ласково эротичные, загадочно переменчивые, не отпускающие, вечно манящие, не до конца открывающие свою прелесть – разные.
И вот случайным ветром судьбы прельстил меня таинственный блеск глубинного ума и колдовского обаяния далёкого моря Саргассова. Смело переложил паруса, изменяя курс в направлении пьянящего покалывания в груди.
Саргассы твоих ладоней притягивают, не отпускают, замедляя ход почти до нуля. Омуты твоих ласковых глаз кружат меня в эйфорийном танце полузабытья, и наваждение, с ума сводящее, шепчет нам, что счастье – твоя родная сестра. Полусном или грёзой наносит на память будущего сладкие мазки осознания встречи с искомым. Так долго и трудно искомым. И пусть теперь!
Я – голландец, я – демон мира морей, скрипящий гнилыми мачтами, хлещущий ветра грязными тряпками бывших парусов. Ветра отпущены, и лишь старый, щербатый, изгрызенный древесными червями корпус мой хрипло дохает старым астматиком. Глухо воет, поддаётся тяжёлым воздушным массам, нехотя повинуясь указанному направлению.
Течения морей порой принимают меня и, зацепив за донные надолбы из ороговевших гадов, шепча, тянут за собой, до тех пор пока шалый шквал не вырвет меня, выстегнув из борта кусок обшивки вместе с ошалевшими от ужаса червями.
Блестящие отполированные скелеты моей бывшей отважной команды давно растасканы солёным рёвом морей на сувениры. И лишь в заплесневелом носовом трюме всё ещё перекатываются кости боцмана – его съели первым. Остальные погибали на верхней палубе, талыми глазами моля у Бога каплю пресной дождевой воды.
Я – причина тревожных снов просоленных морских волков. Я – выплюнутый Посейдоном из ада за грехи морской, полуразложившийся труп. При виде меня табанят ход и разваливаются ровные ряды красавцев-фрегатов и убийц-линкоров. И у бравого боевого адмирала вздымается в ужасе треуголка, а былая смелость его пахучей струйкой стекает во вмиг вспотевшие ботфорты. Птицы морские, завидев, облетают меня. Знают – не ходят рядом со мной стаи рыб, полагая меня старой, но всё ещё опасной, акулой.
И до тех пор покуда ветра не вырвут мои гнилые мачты и море не устанет носить свой ужас и не переломит меня волной пополам, паника всем и одиночество мне – вот моя жизнь.
Пусть! Пусть мои плечи изогнуты ветром. Зато я знаю, где живёт счастье. Я его видел и умер, оставив в нем душу».
– Спасибо, – ты ответила, о боже, ты ответила! Значит, я не сходил с ума, не выдумывал твой звонок, но ты не разделяла моей бурлящей радости. – Спасибо, но я просила о море, не о любви. Не говори мне ничего о любви. Я уехала. И между нами – вот такое непоправимое море. Ты там, а я здесь, «за морем», и тут у меня всё иначе. С моего берега «море» безбрежно, необозримо, неодолимо. Я хочу увидеть его твоими глазами. Хочу понять: что оно такое? Какое оно? Из того, что ты написал, следует, что оно – любовь, оно – бескрайне и оно же – разделяет. И я думаю, ты прав. Подумай над этим. И придумай что-нибудь. Придумай.
– Да, хорошо. Я ещё что-нибудь придумаю.
Ты мягко положила трубку и, как показалось мне, улыбнулась. Тогда я ещё не понял, что ты просила о помощи. Я честно писал только о море:
«Свершилось – снова увижу тебя. Долгие месяцы вынужденной разлуки в больнице-доке, и я снова в строю. Моё тело залатали-зашили заботливые руки, организм заново налажен-настроен на любые перегрузки, я готов к бою. Готов к любви. Я – подводный корабль и скоро увижу тебя, о Море. Свершилось!
Боцкоманда отдаёт швартовые концы, на пирсе торжественно-прощальная музыка земли. С моря несутся радостные приветственные крики чаек на высоченных тонах, а впереди меня ждёшь ты, моя прелесть, моё Море. Я создан для тебя, ты мне необходимо.
Вхожу в твои воды медленно, аккуратно, боясь потревожить лишний раз, боясь выдать волнение. Всплески ласковых волн по бортам – как мягкое и самое нежное касание моей щеки. На мгновение замираю. Трепещу всем корпусом, радостно дрожу всеми механизмами – желаю тебя, хочу жить для тебя, раствориться в тебе. Здравствуй, родное! Как трудно без тебя, плохо и горько, как невыносимо! Но теперь мы опять вместе. Ты ведь никуда меня не отпустишь, верно? Не отпускай. Не надо.
Позади остались огоньки базы, вышел в открытое море. Здесь ты хозяйничаешь, а я вечный гость. Тут нужно подстраиваться, ловить переменчивое настроение. А оно у тебя ой какое разное. Иногда балуешь меня ласковым штилем, я дышу ровно и спокойно, но внутри всегда настороже – с тобой нельзя по-другому. Нежный штиль вмиг может обернуться смерчем, торнадо, тайфуном, ревущим штормом. В такие моменты остаётся лишь заполнить свои цистерны и уйти на дно. Иначе тебе ничего не стоит поднять меня гребнем своей волны и переломить пополам. А на дне спокойно и тихо-тихо. Тут, правда, есть опасность быть расплющенным, ты очень сильное, моё Море. Но если уходить не слишком глубоко, то можно уравнять давление внутри себя с твоим, и тогда опасности нет. Как здесь тихо. А наверху ты разогнало всех чаек с их вечными кавалерами – бакланами. А я тут, в тебе растворился и иду дальше.
У меня есть глаза и уши – радары, сонары, локаторы. Всё-всё вижу и слышу. Жду, когда успокоишься, чтобы снова всплыть, поговорить с волнами, принять их ласку и нежность. И когда этот радостный миг наступает, даю воздух на все свои цистерны и не всплываю, нет – выпрыгиваю из воды, как огромный железный кит. Мы так играем с тобой. Под вечер любишь слушать мои рассказы, под вечер по-особенному умеешь слушать. Рассказываю про свою любовь, про тебя – прекрасное, завораживающее. В ответ плачешь и сожалеешь, что не можешь ответить взаимностью. Понимаю, хорошо понимаю, но от этого не легче, и я продолжаю свои печальные истории о любви. Очень боюсь надоесть своим однообразием, но поверь, нет в мире ничего прекраснее, чем быть с тобой, в тебе, чем говорить “люблю”, чем мечтать о тебе, чем умирать и воскресать от любви, от радости, что тебе до сих пор всё это не осточертело и ты не расплющило меня о скалистый атолл.
Иногда вижу по недовольным бурунам, что лучше на время умолкнуть, и тогда ныряю глубоко-глубоко. И очень быстро некогда нежнейшие руки-волны, вмиг превратившиеся в инструмент для охлаждения моего пыла, шлёпают друг о друга, меня промеж них уже нет. Я глубоко. Притаился и жду момента, чтобы снова, в миллионный раз сказать тебе, что ты самое прекрасное, сказать, что люблю.
А ещё я ревнив. О да, очень ревнив. Ты говорило мне, что ревность разрушает. Но пойми же, ненаглядное, ведь ты – одно, а нас много. И все твердят, твердят о своих чувствах. И что остаётся? Только ждать, что когда-нибудь поймёшь: мои чувства во сто крат сильнее, чем у всех соперников, вместе взятых. Не веришь. Хотя и не говоришь прямо об этом, но чувствую – не веришь. Ну и не верь – всё равно тебя люблю. Всё равно никому – слышишь ли там, наверху?! – никому тебя не отдам. Мне проще выдохнуть весь воздух и уйти на дно, чтобы раздавило ты меня, расплющило в морской железный ил. Но даже он каждой песчинкой своей будет шептать нежные слова любви, будет с тобой всегда и всюду, будет в тебе.
Никуда от меня не деться тебе. Нет, не старайся, не выйдет.
А наверху ласковое солнышко греет тебя. А наверху снова водят вокруг чаек хороводы любви красавцы бакланы и басят, гундося, демонстрируют своё либидо. Ты не пускаешь меня наверх, не хочешь меня больше слушать.
Нет выхода – я ухожу на дно, выдохнув весь запас воздуха, отрезав тем самым возможность снова вынырнуть. Сигнала “СОС” не подам – не дождётесь! Буду жить здесь, с тобой, в тебе.
Прощайте все! Я люблю тебя, Море!»
Ты ответила почти тут же.
– Привет, – ты смеялась в трубку так легко и задорно, что невольно улыбался и я. – Теперь ты много раз написал слово «море», которого я опять не разглядела за частоколом твоих обостренных чувств.
– Да? Не может быть, – я подыграл тебе, это было, конечно, не о море написано. Но как же мне было исполнить твою просьбу хорошо, когда самого моря я в жизни не видел. Хотя любил и мечтал о нем с детства. Но тебя-то я любил больше.