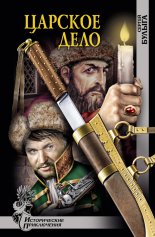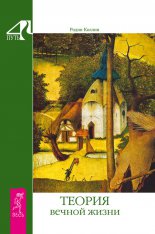Батареи Магнусхольма Плещеева Дарья
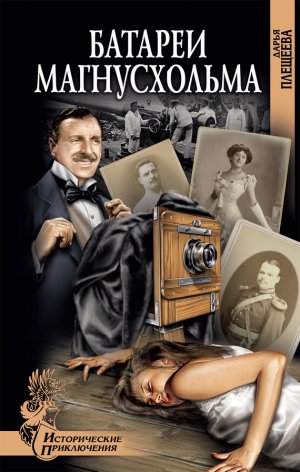
– Точно.
– Жаль. А то бы я тебе кое-что рассказала. Если ты уже не ищейка – то тебе ни к чему.
Лабрюйер понял – Лореляй неловко пытается отблагодарить за спасение.
– Можешь рассказать по старой дружбе…
– Я, когда вошла туда вслед за дурой и ее хахалем, одного человека видела. Я его помню, потому что месяц назад в Либаве встречала, в порту. И там, в порту, его называли господином Айзенштадтом. А сегодня, в гостинице, он уже – господин Красницкий.
– Думаешь, профессор картежной академии?
– Я на руки посмотрела – нет, пальцы как сардельки, такими пальцами и в носу не поковыряешь. А ты уж мне поверь, полицейский пес, с ним дело нечисто. Вот он-то как раз не дурень. Ну, прощай!
– Прощай, Лореляй. И вот что…
– Ну?
– Волосы заново отрасти. Тебе с длинными лучше.
– Все равно к лету стричь придется.
– Долго еще собираешься мальчика изображать? До старости?
– Не доживу я до старости, милая моя ищейка.
На том и расстались. Лореляй ушла куда-то к Гертрудинской, Лабрюйер прошел вперед до перекрестка – но Романовскую переходить не стал. Он вспомнил графа Рокетти де ла Рокка, вспомнил ту облаву. Если в Ригу опять заявился шулер высокого полета – нужно все же предупредить старых товарищей.
Он повернул обратно.
Тех коридорных, с которыми он свел знакомство при суете вокруг Рокетти де ла Рокка, уже не было – мальчишки выросли. Но кто-то из них наверняка остался при гостинице и ресторане. И вряд ли они знают полицейские новости. Если явиться с вопросами о постояльце – не сообразят, что Лабрюйер уже давно покинул Сыскную полицию.
К счастью, он помнил имена.
Юрис Вилкс за эти годы превратился в Юргена Вольфа и по-латышски говорил уже с большой неохотой, зато немецкий освоил едва ль не лучше прирожденного немца. Он стал буфетчиком – должность очень ответственная, совсем не для латыша должность, и даже выучил довольно много русских слов. Лабрюйер, отыскав его в буфетной, заговорил с ним по-немецки и получил такие сведения: господин Красницкий прибыл месяц назад, поселился в одном из лучших номеров, ищет себе хорошую квартиру в приличном месте, но это тяжкий труд – что ни выберет, супруга против, ей не угодишь.
– Так он с супругой? – удивился Лабрюйер.
– Да, господин инспектор. Дама из благородного сословия, очень хорошо одевается. Завела в Риге большие знакомства, всюду ее принимают.
– Немка?
– Русская.
– Понятно. Никому не говори, что я тебя спрашивал. И хотелось бы мне взглянуть на эту пару.
– Это легко устроить.
Лабрюйер прикинул: в паре мошенникам работать выгоднее, красивая дама заводит светские знакомства, собирает вокруг себя кавалеров, а муж аккуратно обчищает их за карточным столом. Что тут можно сделать? Можно, познакомившись, зазвать их в ателье, а снимки передать в Сыскную полицию, пусть там разбираются.
– Взгляни, Вольф, может быть, они в зале.
– Как будет угодно господину инспектору.
Буфетчик выдал подбежавшему официанту целый поднос посуды и вслед за ним вышел в зал. Минуту спустя он вернулся.
– Ужинают, господин инспектор. Во втором ряду справа третий стол от входа.
– Там рядом есть свободные столы?
– Второй пока свободен. Сказать Гансу, чтобы посадил вас там?
– Да, сделай милость.
Лабрюйер отдал пальто гардеробщику, посмотрел в большое зеркало – вид приличный, не хуже, чем у богатых постояльцев гостиницы. Подкрутил усы и пожалел, что так и не привык пользоваться помадами, которые сводят кончики усов в задорно торчащие вверх стрелки. В немецкой среде эта манера называлась «жизнь удалась». Может быть, помада изменила бы цвет волосков. Лабрюйеру не очень-то нравилась его рыжеватая масть.
По распоряжению буфетчика официант быстро провел его вдоль стены к намеченному месту. Лабрюйер сел и огляделся. Вспомнилось то забавное время, когда агенты выслеживали Рокетти де ла Рокка, часами сидели в ресторане, а потом отчитывались за каждый потраченный пятак. Теперь Лабрюйер мог заказать самый изысканный ужин – пожалуй, это и следовало сделать…
Он не торопился разглядывать Красницкого со спутницей, чтобы не выглядеть назойливым. Отметил только, что говорят они по-русски. Грех было не прислушаться.
– Я другую брошку тебе куплю, только не ной, – сказал раздраженный мужчина. – Да и подороже, а твоей – грош цена.
– Это память, ты что, не понял? Это память.
– Закажем ювелиру точно такую же. Хочешь – можно дать объявление в газете: нашедшему – вознаграждение, а кошелек пусть уж оставит себе.
– Она не найдется, я знаю, она не найдется.
– Если ты думаешь, что она тебе удачу приносила…
– Это память. Единственная память.
– И непременно нужно было единственную память всюду с собой таскать?
– Непременно.
– Ты становишься невыносима, моя милая. Потерю вряд ли найдешь, новую брошку не хочешь – чего же тебе надо? Я же посылал в фотографическое ателье – там не находили. У госпожи Морус кошелька не находили. Ну, поплачь, если тебе с того станет легче.
– Я никогда не плачу.
Заинтригованный Лабрюйер наклонился и вытянул шею, чтобы разглядеть пару.
Это действительно была Иоанна д’Арк, и с ней – высокий статный мужчина, той породы, которая нравится всем женщинам без исключения: осанистый, плотный, плечистый, с правильным лицом, с прекрасными волосами, подстриженными лучшим парикмахером, такие волосы всегда вызывали у Лабрюйера легкую зависть: очень темные, с деликатнейшим налетом благородной седины. Лет этому красавцу было, пожалуй, уже под пятьдесят. Вот только руки – Лореляй была права, руки он имел пухлые, крупные, прямо сказать – простонародные.
Лабрюйер удивился было – отчего в ателье не сказали, что кошелек с брошкой найден? И сообразил: видимо, послано было только что, сам он отсутствовал, Каролина где-то читала доклад, оставался один Ян, а его, когда нашли кошелек, не было, был только Пича.
Красницкий вел себя по-хозяйски – обращался с Орлеанской девой, как терпеливый муж со взбалмошной женой, при этом поправил ей задравшийся воротник модного жакета. Он и сам был прекрасно, с иголочки, одет – как раз, чтобы втереться в самое приличное общество.
Ну что же, сказал себе Лабрюйер, была иллюзия – и вот она разлетелась в мелкие дребезги. Орлеанская дева – подруга заезжего мазурика. Лебединая шея, природные черные кудри, сейчас убранные в прическу, черты лица – как на итальянской картине, и вся эта роскошь принадлежит мазурику. Больше тут делать нечего.
Официант принес паре горячие жюльены в горшочках, Красницкий о чем-то тихо спросил его. Лабрюйер встал, быстро положил кошелек рядом с тарелкой Орлеанской девы, но она, уловив движение воздуха, не иначе, повернула голову – и глаза встретились.
Лабрюйер сделал движение головой, почти судорожное – кивок не кивок, поклон не поклон, – и стремительно понесся через зал к выходу.
Он успокоился только возле Верманского парка. Там на открытой сцене играли вальс Штрауса – может статься, последний раз в этом сезоне.
Иллюзия!
Как в цирке – когда фокусник достает из цилиндра голубей и большие шелковые шарфы. Но фокусник получает деньги за устройство иллюзий – а кто заплатит Лабрюйеру, который сам себе опять придумал иллюзию?
Хорошо хоть, длилось это состояние недолго. Будь Лабрюйер втрое моложе – в голове у него уже разыгралось бы целое кинематографическое произведение, в котором он скакал бы верхом, плечом к плечу с Орлеанской девой, к осажденному Орлеану под энергичные аккорды незримого тапера. А поскольку ему, старому дураку, уже сорок, сделать нужно вот что – отдать фотографическую карточку Иоанны д’Арк тому же Линдеру из Сыскной полиции, пусть присмотрит за парочкой.
Придумав это, Лабрюйер затосковал.
На самом деле, тоска зрела уже давно – и вот выплеснулась. Хоть покупай две бутылки водки и употребляй их в одиночестве. Суетливая жизнь зажиточного владельца фотографического ателье вроде и занимала голову целиком, однако души не касалась. А вот не менее суетливая жизнь полицейского агента, потом – инспектора, на самом деле имела свойство заполнять душу. Было в ней немало скверного – но ведь были и радости. А Лабрюйер еще не научился приходить в восторг, когда Каролина показывала конторскую книгу с заказами, расходами и вполне приличными для новорожденного заведения доходами.
В цирк он попал незадолго до антракта.
Его не сразу пустили в служебные помещения, но он прорвался и оказался в довольно-таки вонючем и тесном мирке. Альберт Саламонский, затеяв чуть ли не четверть века назад строить рижский цирк, малость не рассчитал – купленной земли оказалось, если вдуматься, недостаточно. Прежде всего, это сказалось на размере манежа. Правильный его диаметр – восемнадцать с половиной аршин, и цифру не с потолка сняли, а установили опытным путем за годы существования конного цирка; именно такой диаметр круга был удобен для лошадей и наездников. В рижском же цирке пришлось сделать шестнадцать с половиной аршин – больше никак не получалось. И прочие помещения тоже были невелики, а по двору, захламленному всяким загадочным имуществом, пробираться приходилось очень осторожно. Задние ворота выходили на короткую и узкую Парковую улицу – между Мариинской и Верманским парком.
Во время представления в подковообразном коридоре, охватывавшем манеж с одной стороны (противоположная подкова была зрительским променадом), толпилось немало народу, и весь этот народ вел себя, как выпущенная на прогулку палата буйнопомешанных: кто-то стоял на голове, кто-то крутил колесо, кто-то скакал козлом, кто-то матерно ругался с собратьями из-за порванного костюма. Тут же вертелись девушки в коротких юбочках – жонглерши, акробатки и наездницы. Тут же сидели на цепи дрессированные звери – с одной стороны медведи, с другой – большие псы. Медведи тоже вносили свою лепту – один, встав на задние лапы, приплясывал, другой кувыркался.
Лабрюйер пробивался к лестнице, ведущей на второй этаж, к гримуборным, его толкнули, он оглянулся, чтобы увидеть и обругать обидчика, и увидел самый диковинный экипаж, какой только возможен.
Белая лошадь была впряжена в двухколесную таратайку, причем колеса – чуть не в человеческий рост, а сиденье для кучера пряталось среди каких-то железных этажерок, увитых гирляндами тряпичных роз и незабудок. Лошадь держал под уздцы конюх, а возле таратайки стояла высокая тонкая женщина в преогромной шляпе и вопила так, что, наверно, на вокзале было слышно:
– Эмма! Эмма! Эмма!
Лабрюйер отвык от закулисных воплей и потому как можно скорее взбежал по лестнице.
Штейнбах и Краузе выступали во втором отделении – составился небольшой чемпионат, собралось шесть борцов из остзейских губерний и еще две женщины-борчихи, истинно цирковая диковинка. Они приняли Лабрюйера в гримуборной, отобрали шесть контролек, пригласили посмотреть борьбу и повеселиться – дерущиеся дамы казались им занимательным зрелищем. Лабрюйер ответил, что бабью драку он этим вечером уже наблюдал, ничего хорошего. Тогда его угостили хорошим коньяком – бутылку атлеты прятали в большом фанерном кофре. Он подумал – и не отказался.
– Что-то случилось, – сказал Штейнбах, прислушавшись.
Лабрюйер удивился – шум как будто был прежним, и тонкая дверь гримуборной от него не спасала.
Краузе, уже в борцовском трико, выглянул в коридор. По коридору бежали к лестнице две полные дамы в халатах-кимоно.
– Что там случилось? – спросил он по-немецки.
– Ах, убили, убили!
И дамы, топоча каблуками, скрылись за поворотом.
– Убили? – спросил Лабрюйер. И тут он слышал крик
снизу:
– Полиция!
В голове явственно щелкнуло. Ноги сами собой выпрямились, каблуки ударили в щелястый пол. И был момент – как будто кто взял Лабрюйера за шиворот и, приподняв, подвесил в воздухе, ощутимо густом из-за тяжелого запаха дешевого грима. Следующий момент застал его уже на лестнице.
Вопили на конюшне.
Лабрюйер растолкал артистов и цирковых служителей, оказался у загородки в углу и все понял.
На соломе лежали маленькие белые собачки, шесть собачек, все – мертвые. Рядом стояла на коленях женщина и горько плакала.
– Так надо же телефонировать в полицию! Отчего не едет полиция? – совсем ошалев, спрашивали друг дружку артисты.
– Тут полиция, – сказал Лабрюйер. – Я полицейский инспектор Гроссмайстер. Что произошло? Кто-нибудь один – говорите!
– У мадмуазель Мари собак отравили, – по-русски ответил мужчина, самый из всех, наверно, вменяемый.
– Вот сволочи! – не сдержался Лабрюйер.
– Сволочи, – подтвердил мужчина.
– Это кто-то из своих.
– Нет.
– Отойдем.
Они отошли к воротам, ведущим в цирковой двор.
– Почему вы думаете, что не свои? – спросил Лабрюйер, знавший, на что способны артистические натуры. – И кто вы?
– Я конюх, прозвание – Орлов.
Лабрюйер посмотрел на него и решил, что на орла этот человек вряд ли похож, но что-то птичье в нем есть: плотный, невысокий, голова ушла в плечи… что-то совиное, пожалуй…
– Так почему вы подозреваете чужого, господин Орлов?
– Потому что она еще врагов не нажила. Вот если бы у фрау Шварцвальд голубей отравили – то сразу ясно, чьих ручонок дело. Шварцвальдиха умеет хвостом крутить. Господин Освальд с нее глаз не спускает, а Освальдиха-то все видит…
– Это, может, так, а может, и не так, – возразил Лабрюйер, а в голове у него уже нарисовался тот самый листок с записями, который следует брать с собой, когда идешь отчитываться перед начальством. Версия первая – отравила своя же цирковая дура-баба из ревности. Версия вторая – получивший отставку любовник. Версия третья – вылезла на свет Божий давняя ссора. Версия четвертая – кто-то из рижских поклонников, не добившись успеха, отомстил…
– А как бы чужой человек забрался на цирковую конюшню? – спросил Лабрюйер, и завязался самый увлекательный для полицейского инспектора разговор о заборах, воротах, прыжках в окошко и военных хитростях.
Женщины увели мадмуазель Мари, второе отделение уже началось, Орлова ждали его обязанности, и Лабрюйер неторопливо пошел прочь. Он вышел в фойе, дошел до служебного входа – и свернул в дирекцию. Там он представился полицейским инспектором и телефонировал бывшему сослуживцу Линдеру.
– Надо сдать дохлую собаку в лабораторию, – сказал он, изложив свои соображения. – И надо как-то взяться за это дело. Они тут уверены, что полиция уже занимается отравлением, и телефонировать в управление не станут, подавать жалобу тоже не станут, нужно что-то придумать…
– Да… – задумчиво ответил Линдер. – Как же я ни с того ни с сего в цирк заявлюсь? Что я начальству скажу? Проходил, мол, мимо цирка, слышу – полицию зовут?
– Скажи – был этим вечером на представлении…
– Вот-вот! – развеселился Линдер. – А мне скажут: тебя, подлеца, посылали в помощь Менжинскому, а ты в цирк развлекаться побежал! Давай-ка ты сам, а? Тащи завтра эту собаку. Я с утра буду. А потом что-нибудь придумаем. Даже если ты сам следствие проведешь – начальство тебя знает и буянить не станет. Подумаешь – шесть дохлых шавок. Не бриллианты же!
– Черт бы все это побрал… – проворчал Лабрюйер. Вот уж о чем он всю жизнь мечтал – о прогулке по Риге с дохлой собакой под мышкой. Но деваться было некуда – заварил кашу, теперь расхлебывай.
Однако странное чувство им завладело – какой-то несуразный протест проснулся в душе и сердито полез наружу. Жизнь добропорядочного бюргера, на которую Лабрюйер сам себя обрек, связавшись с контрразведкой, оказалась утомительна и, при всей беготне, чересчур спокойна – недоставало погони. А если уж Лабрюйер собрался что-то совершить вопреки и наперекор – то и совершал, потому что свое упрямство очень уважал.
Если разбираться в деле об отравлении собак – то по горячим следам; так он решил и вернулся за кулисы.
Конюху Орлову было не до него, но Лабрюйер отыскал другую особу, на его взгляд, более подходящую: немолодую немку, служительницу при дрессированных голубях, которая, не имея в жизни другой отрады, целыми днями обитала при больших, скорее похожих на вольеры, клетках. Лабрюйер не знал, что этих птиц можно дрессировать, но немка (ее звали фрау Бауэр, и была она ростом с двенадцатилетнюю девочку, худенькая, седенькая) рассказала: многого от голубей не добьешься, но научить их слетаться по знаку в одно место, ходить по жердочкам и опускаться в ладони дрессировщицы не так уж сложно. А дрессировщица выезжает в разубранном гирляндами экипаже, изумительном, сказочном экипаже, и получается очень красиво – прекрасная женщина и прекрасные голуби. Тут Лабрюйер понял, что фрау Бауэр толкует о таратайке, которую он видел за кулисами. Железные этажерки, оказывается, предназначались для голубей.
Фрау Бауэр подтвердила – никто из своих не мог отравить собак, она бы видела, если бы кто-то из артистов или служителей подошел к загородке и кинул им отравленный корм.
– Бедная фрейлен Мари, – сказала фрау Бауэр. – Не представляю, что она теперь будет делать! Такая молоденькая – и такое несчастье… Умоляю вас, найдите этого злодея!
– Или злодейку.
– Это был мужчина. Ни одна женщина не способна убить эти очаровательные создания, – уверенно сказала фрау Бауэр. И Лабрюйер понял – перед ним настоящая, неподдельная, убежденная в своей правоте старая дева. Вроде Каролины…
Решив продолжить розыск утром, он попросил фрау Бауэр завернуть одну из собак в мешковину, чтобы можно было забрать ее утром. Фрау пообещала, и он отправился на Александровскую, в свое фотографическое ателье.
Мысли о ходе розыска развлекали его всю дорогу. Они были куда приятнее мыслей о стоимости аппарата для просушивания карточек и нового объектива, похожего на старинную мортиру. Но, проходя мимо «Франкфурта-на-Майне», Лабрюйер надулся и засопел. За одним из окон была фальшивая Иоанна д’Арк, и воспоминание о ней раздражало хуже всякой зубной боли.
Глава четвертая
Вернувшись в ателье, Лабрюйер отнес контрольки Каролине, которая уже ждала в лаборатории.
– Вы что-то мрачны, душка, – сказала фотографесса. – Я уж думала, не дождусь вас.
– Помрачнеешь тут…
Злясь на себя за ребяческую доверчивость, Лабрюйер рассказал Каролине про господина Красницкого и Орлеанскую деву. В собачью историю решил ее не посвящать – мало ли, донесет питерскому начальству, что агент Леопард дурака валяет…
– Нужно как-то Моруса предупредить, и Семецкого тоже, – решил он. – Кузина, будете печатать карточки – сделайте для меня полдюжины с этой дамой. Лицо в медальоне, без жестяных доспехов.
– При нашем ремесле, душка, семейство карточных шулеров тоже может пригодиться, – ответила Каролина. – Такие люди, если их прижать, берутся за неприглядные поручения.
– Сам знаю…
– Может, у них уже хвост замаран. Давайте-ка, душка, перешлем портретик в Питер. Глядишь – получим кнутик, чтобы этой запряжкой править…
– Хорошая мысль.
Лабрюйер не думал, что способен вложить в два простых слова столько злости. Вдруг очень захотелось устроить Орлеанской Деве хоть мелкую пакость; желание недостойное, да и не виновата мошенница, что показалась старому дураку Иоанной д’Арк, но, может, от осознания маленькой мести на душе посветлеет?
Он оставил Каролину в лаборатории, зашел к Круминю, послал Яна на помощь фотографессе, сам пошел домой. Как всякий холостяк, он держал дома запас продовольствия и поужинал бутербродами с копченой рыбой и чаем. И успокоился.
Утром его ждала маленькая неприятность. Когда он шел дворами с Гертрудинской в свое фотографическое заведение, его встретили сестрицы, Марта и Анна. Им бы полагалось шить у окошка, но они вышли во двор – явно подкараулили Лабрюйера и не стеснялись этого.
– Господин Гроссмайстер, мы хотим вам сказать… Эта особа, фрейлен Менгель… Эта особа ведет себя недостойно! – заговорили они наперебой. – Неприлично! Недопустимо!
– А в чем дело?
– Она два раза не ночевала в своей комнате. Она уходила в десять вечера, а возвращалась в два ночи! Вы понимаете, что это означает?!
Это означало, что блюстительницы нравственности допоздна не спали, чтобы собрать доказательства непристойного поведения Каролины.
– У фрейлен Менгель в Риге есть пожилая родственница, которая нуждается в уходе… – Лабрюйер задумался, где бы поместить старушку, подальше от Александровской улицы. – Кажется, где-то в Агенсберге.
Агенсберг был тем хорош, что на другом берегу Двины, добираться туда днем, через понтонный мост, – еще куда ни шло, есть и орманы, и пароходы, а выбираться оттуда ночью – большая морока.
– Мы не хотим жить рядом с такой особой, – сказала старшая сестрица, Марта. – Мы не такие.
Из чего следовало, что вранью Лабрюйера девицы не поверили.
– Вы ошибаетесь, – ответил он. – Фрейлен – самого благородного поведения. Ее не интересуют такие вещи.
А сам еле удержал усмешку: значит, Каролина уже выполняет тайные задания питерского начальства. Конечно, могла бы хоть намекнуть. Но если ей велено соблюдать обстановку строжайшей секретности – пускай соблюдает. Потому что пока его, Лабрюйера, дело – фотографическое ателье. И если для него будут более соответствующие новому ремеслу поручения – ему об этом скажут.
В фотографическом заведении его ждала неприятность – соседские мальчишки побили Пичу. Расквасили ему нос, подбили глаз, наставили синяков, но Пича держался стойко. Причину драки не сказал никому, и дворник Круминь, пришедший сказать, что сынишка в ближайшие дни не работник, даже спросил Лабрюйера, не знает ли он чего о происшествии; может, Пичу мальчишки и раньше преследовали, а он молчал?
Лабрюйер расспросил о подробностях. Оказалось, Пичу отнял у драчунов старый городовой Андрей.
Говорят, пуганая ворона куста боится, а Лабрюйер, связавшись с контрразведкой, стал хуже всякой вороны: что, если кто-то уже присматривает за «Рижской фотографией» и пытается через Пичу собрать сведения? Оставив заведение на Каролину и Яна, Лабрюйер пошел отыскивать Андрея. Тот жил по соседству, в деревянном домике, в самой глубине квартала. Домик имел по меньшей мере три выхода, каждый – в отдельный двор, дворы эти были – с гулькин нос, однако с собственными лавочками и грядками. Как раз на такой территории Лабрюйер и обнаружил старика. Тот был не один, а с Пичей.
Как всякий отставной унтер-офицер, подавшийся в городовые, Андрей понимал службу так: будь строг с чужаками, договаривайся полюбовно со своими, и будет тебе в жизни счастье. Он за десять лет службы узнал все рижские наречия, включая цыганское, а сейчас разговаривал с Пичей по-латышски. Разговор был странный, Лабрюйер даже забрался на перекладину штакетника, чтобы заглянуть во двор и понять смысл. Оказалось – Андрей учил Пичу приемам штыкового боя.
Его поучения были просты и надежны: коли ты уродился низкорослым, то умей защитить себя всем, что подвернется под руку, и дворницкая метла в умелых руках – страшное оружие. Опять же, уличная драка – не то событие, где призывы к совести хоть что-то значат. Если на тебя кидаются двое – отбивайся от двоих, вот и вся недолга.
Заместо ружья со штыком у Андрея была эта самая палка от метлы, и он ею с блеском показывал приемы – лучше, пожалуй, чем в молодые годы на полковом плацу. Лабрюйер даже залюбовался.
Потом он, как полагается приличному господину, вошел в калитку и завел разговор о драке.
Андрей объяснил – Пича ходил по каким-то своим делам через квартал наискосок, дворами; мальчишки, вообразив себя хозяевами, стали требовать плату за проход, сперва в шутку, потом уже не в шутку, он же продолжал ходить из чистого упрямства, хотя обходный путь, по улицам, был всего минуты на две длиннее. И вот теперь, из того же упрямства, пришел учиться бою.
Лабрюйер это одобрил и спросил будочника, нельзя ли и ему присоединиться к урокам.
Поступая на службу в Сыскную полицию, Лабрюйер бойцом не был – а был неутомимым ходоком, метким стрелком, знал несколько ухваток рукопашного боя, кое-чему обучили товарищи, имел тяжелый кулак; этого хватало. А вот теперь, когда он сам не знал, какие приключения предстоят, следовало, пожалуй, поучиться тому, о чем говорил Андрей; искусству воевать подручными предметами. А тому можно было верить – он на всякие драки насмотрелся.
Андрей удивился господской блажи, но согласился дать несколько уроков.
Разобравшись с Пичиными бедами, Лабрюйер поспешил в цирк. При этом он чувствовал себя шкодливым котом, что втихомолку стянул со стола гирлянду пахучих франкфуртеров и тащит в надежное место. Для кота сосиска – счастье, а для агента Леопарда, заскучавшего в роли почтенного обывателя, возможность раскрыть тайну отравления собачек – счастье.
Утром в цирке было шумно – репетировал оркестр, на манеже скакали акробаты, там же пристроился с чемоданом мячей и булав жонглер. За кулисами оборудовали закуток для занятий атлетов, и в этом закутке тягали гири Штейнбах, Краузе, еще четверо плотных мускулистых борцов, одетых как попало – кто в старых кальсонах, кто в широких мешковатых штанах. Там же были расстелены пыльные маты.
– О, господин Лабрюйер, доброе утро! – воскликнул Штейнбах. – Неужели наш заказ уже готов?
– Нет, господин Штейнбах, заказ большой, и когда мои служащие справятся, я сам его принесу, – по-немецки, как и собеседник, ответил Лабрюйер.
– Зачем же тогда вы к нам пожаловали? Хотите знать изнанку наших цирковых чудес? Или сами не прочь тяжести потаскать? Это теперь модно, и ваше сложение… – Штейнбах внимательно оглядел фигуру Лабрюйера, насколько позволяло пальто. – Да, ваше сложение весьма располагает.
И это было чистой правдой – борцы имели тот же тип сложения, ни одного длинноногого и худого, как молодые офицеры, Лабрюйер не заметил, у всех – крепкие плечи, мощные ляжки и икры, даже заметные животики. И еще усы – сейчас, с утра, вислые, но вечером эти длинные усы будут нафабрены и лихо подкручены, к вящему восторгу зрительниц.
– Сперва – дело, – честно сказал Лабрюйер. – Видите ли, я до того, как получил наследство и открыл ателье, служил в полиции. Вчера я видел на конюшне, как плакала мадмуазель Мари. Ваши товарищи требовали, чтобы кто-нибудь вызвал полицию. Я и сам не понял, как вышел вперед и объявил себя полицейским агентом. В общем, я телефонировал сослуживцам, и они попросили меня по старой памяти расследовать это несложное дело… раз уж ввязался… Так что я отправлю собачий труп экспертам, а сам опрошу всех, кто днем бывает в цирке. Понятно же, что собачек отравили не во время представления.
– То есть по доброте душевной? – уточнил Штейнбах.
– В сущности, да. И потому, что сослуживцы сейчас заняты важным делом, им не до собачек. А я помню одну гадкую историю. Тут же, в цирке случилась. Служитель-униформист сошел с ума. Ему стало казаться, что в животных сидит нечистая сила, и он подсыпал им в пищу толченое стекло. Не хотелось бы, чтобы у вас завелся отравитель и пострадала другая живность…
Дело о толченом стекле Лабрюйер расследовал – но не в цирке. Это была склока между орманами, погибло несколько лошадей. Он хотел напустить страху на цирковой народ, чтобы ему охотнее отвечали на вопросы, и не более того.
– Так-так-так… – пробормотал Штейнбах. – Надо предупредить всех, у кого животные… Эй, Готлиб! Готлиб! Да, да, я тебя зову!
Парнишка, тащивший на манеж высокий металлический табурет на широко расставленных ногах, обернулся.
– Проводи господина к фрау Берте, – велел Штейнбах. – Она только что приехала и еще не успела раздеться. Ну, живо, живо!
Парнишка поставил табурет к стене, и Лабрюйер подивился – это под чью же задницу? Чтобы сидеть на такой штуке, нужно быть ростом – как тот деревянный святой Христофор, что стоит в будке на двинском берегу. То есть – в сажень с четвертью, не меньше.
Готлиб привел его к той гримуборной на втором этаже, которую занимала фрау Берта. Лабрюйер постучал и по-немецки осведомился, можно ли войти. Ему позволили. Дверь открыла малютка фрау Бауэр.
Фрау Берта Шварцвальд была тоща и стройна, как будто стремительно вытянувшийся за лето подросток. Однако личико она имела круглое, глаза – большие и выразительные, явно обведенные черным карандашом. Она сидела перед большим зеркалом, еще в шляпе; повернулась, и это простое движение было то ли утонченным, то ли вычурным, Лабрюйер не понял. Он сразу узнал Берту – это она стояла тогда за кулисами возле причудливой колесницы.
Вместе с ней там была красивая круглолицая женщина с невозможно пышной прической.
Лабрюйер представился и объяснил, для чего явился.
– Я тебе говорила, Эмма, что нужно забрать птиц со двора в конюшню, – сказала фрау Берта. – У меня номер с дрессированными голубями, господин Лабрюйер. Приходите, я достану вам контрамарку. У меня замечательные птицы, знатоки в восторге. Я купила английских карьеров, красавцы, умницы, прекрасная память, длинные лапки, длинные шейки, прелесть что такое! Мне привезли голубей из Вервье… но вам это, наверно, ничего не говорит?..
– Увы, ничего, – согласился Лабрюйер. – Но было бы жалко потерять таких замечательных птичек…
Тут он понял, что фрау Берта и сама чем-то походит на птицу – посадкой головы, что ли, быстрыми поворотами этой головы, тонкими длинными пальцами, охватившими ручку кресла и сильно смахивающими на цепкую птичью лапу.
– Я жадная, – вдруг призналась фрау Берта. – Я набрала полсотни птиц и никак не могу с ними расстаться, всех вожу с собой. А надо бы по меньшей мере половину куда-то деть, продать знающим людям. Но я никого не знаю…
– Это наша общая беда, – добавила круглолицая. – У меня с братьями и мужем велосипедный номер, мы ездим из города в город и успеваем познакомиться только с такими же бродячими артистами. Мужчинам легче, а мы, женщины, обречены или довольствоваться обществом артистов, или губить репутацию.
– Да, Дора, ты правильно это назвала – беда, – согласилась фрау Берта. – Мы в каждом городе чужие, совсем чужие, и в этом тоже, я познакомилась только с поклонниками, знаете, с этими чудаками, которые шлют мне корзинки роз и фиалок, а в приличном обществе совсем не бываю… Эмма, что ты стоишь? Ступай к птицам, дорогая.
Маленькая фрау сделала книксен и вышла.
– Что вы можете сказать о мадмуазель Мари? Были у нее враги? Может, отвергнутый поклонник имеется? – предположил Лабрюйер. – Мстительный отвергнутый поклонник?
– О мой Бог, я не знаю… Она такая, такая… Я совершенно не понимаю, что она делает в цирке! Собак ей выдрессировал кто-то другой, не спорьте, это все знают!
– Я не спорю, фрау Берта.
– Она не из наших… может быть, она сбежала от мужа и скрывается в цирке?.. А любовник ездит всюду за ней следом? А муж подкупил служителей, они отравили собак, и теперь ей, бедняжке, придется вернуться домой?..
– Это любопытно… – пробормотал Лабрюйер, мысленно записав в воображаемом блокноте: узнать о семейном положении мадмуазель Мари.
– Отвергнутый поклонник? – предположила Дора. – Ей посылает цветы один господин, наверно, это он и есть. За кулисами я его ни разу не встречала. Кто еще мог отравить собачек? О, я знаю! Она выгнала служительницу, которая была при собаках с начала сезона! Сейчас она уже наняла Марту Гессе, Марта всю жизнь служила здесь уборщицей, и ей это уже не под силу, а покормить, выгулять и причесать собачек не так уж трудно. А та служительница… вы представляете себе, она каждый вечер пьянствовала с конюхами!..
Лабрюйер решил, что об этом расспросит Орлова.
Потом он по совету фрау Берты навестил еще несколько артисток и наслушался самых разных версий. Но ничего конкретного ему не сказали. Тогда он спустился в конюшню и нашел Орлова. Орлов рассказал ему о собачьем распорядке – во сколько зверюшек кормили, во сколько выводили на прогулку.
Кухня, где готовили для животных, была во дворе, одна на всех, и приходилось договариваться. Орлову плита была нужна, чтобы греть воду – для мытья лошадей и для запаривания конской «каши-маши» из овса, отрубей и льняного семени. Поэтому он знал, когда предшественница Марты Гессе, а потом и сама Марта стряпали собачкам утреннюю и вечернюю еду.
Лабрюйер с Орловым вышли во двор, осмотрели кухню, изучили тот свободный от хлама пятачок, где выгуливали собак.
– А это что? – спросил Лабрюйер, показывая на высокие кубические клетки, где сидели голуби.
– А это Шварцвальдихи хозяйство.
С конюхом Лабрюйер говорил по-русски, и тот отвечал, не боясь, что служители-немцы подслушают и донесут в дирекцию.
– Она не боится, что они простудятся?
Голуби в клетках были диковинные – с преогромными причудливыми наростами вокруг клювов. Надо полагать, птицы были искусственно выведены и потому – капризны и склонны к хворобам.
– А черт ли их разберет… По-моему, им так даже лучше, чем в конюшне. Там вонь, воздух спертый. А тут вроде ничего.
– А лошадей выводят на свежий воздух?
– Лошадок гуляем… Да и купаем во дворе в хорошую погоду.
Лабрюйер поднял голову.
Справа была высоченная стена доходного дома. За окнами висели мешочки с продуктами. Знакомая картина небогатого житья…
– Покажи-ка ты мне эту Марту Гессе, – сказал Лабрюйер.
– А ее сейчас, поди, нет. У нее дочка тут рядом живет, она у дочки, за внуками смотрит. Она с утра обыкновенно приходила, собак обиходит, на репетиции поработает – и к дочке.
– То есть кормила, выгуливала, запирала в загородке – и к дочке?
– Да, так и выходило. Потом перед представлением приходила часа за полтора, потом собак с манежа принимала, опять выгуливала, ужином кормила.
– А что за полтора часа до представления с ними делала?
– Да выгуливала же, следила, чтобы все опростались. А то если на представлении – стыдоба.
Лабрюйер достал блокнот и записал собачий график.
– Так выходит, что они днем, часов примерно пять, были без всякого присмотра?
– Ну, как – без присмотра? Все время же кто-то на конюшне крутится или в шорной сидит. Из шорной загородку видно.
– Так уж все время?..
– А черт его знает… – Орлов поскреб в затылке.