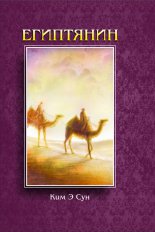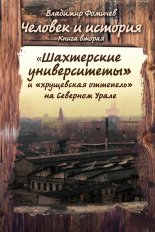Малахитовый бегемот. Фантастические повести Смирнов Алексей

– Я фокусник, – уныло отозвался Бомбер. – Иллюзионист. Немножко гипнотизер. Детвора меня любит. Я никакой не администратор, мне все это чуждо и неприятно…
– Да, гипнотизер из вас никакой, – кивнула я. – Полный провал. Насчет администратора тоже согласна. Март на дворе! Ваше заведение простаивает. Почему, позвольте узнать?
– Так шапито же, – простонал Бомбер. – Это летний формат…
– А Родина – формат круглогодичный, – сказала я веско. – Ее нужно защищать. Для этого необходима оптимизация инфраструктуры Министерства обороны…
– Ракетную шахту построите на месте цирка?
– Она уже есть, – шепнула я доверительно. – Не знали? Мы тоже фокусники, товарищ Бомбер.
Горе-директор побледнел.
– Хотите сказать, Павлина Пахомовна, что наши собачки… наши слоны… поют и танцуют над межконтинентальной ракетой?
– Как и все мы, – подхватила я. – Если кому заикнетесь – вам отрежут язык. Я рискую местом, свободой и жизнью, информируя вас.
До мизерабля дошло, что над ним издеваются в пролонгированном режиме. Он, видно, был готов унижаться дозированно, с чередованием смешных и серьезных моментов – по цирковому обыкновению. Но вот он смекнул, что режим для него один, общий. Господин Бомбер вспотел, грим потек. Так и не встав с колен, он полез за пазуху, выдернул какие-то мятые бумаги. Я на секунду подумала, что появится кролик.
– Вот подписи, – сказал он хрипло. – От жителей района.
Я кивнула в угол, где штабелем стояли коробки.
– Знаете, что это?
– Нет.
– Подписи. От жителей районов. По самым разным поводам. Положите туда.
Тогда он встал и выложил последний козырь.
– У нас договор с дю Солей.
– С кем? – Я жалостливо скривилась.
– Цирк дю Солей, – пробормотал Бомбер. – Это всемирно известный коллектив. Их гастроли – событие государственного масштаба, и если они сорвутся, будет международный скандал.
– Всемирный коллектив намерен выступить на нашем кладбище? – скептически переспросила я. – Что ж, мы их пустим. Для такого случая мы временно расконсервируем объект. То есть законсервируем. Подготовьте мне справку и перешлите по почте секретарю, я введу в курс нового директора объекта. Мне вызвать охрану, или с вами обойдется?
На лице Бомбера отразилась борьба. Зрелище было немного жуткое: маска пошла рябью. Белила, румяна и тушь заволновались, обозначились кости – скуловые, челюсть, и даже каким-то бесом намекнули о себе носовые хрящи. Лик изготовился лопнуть, наружу рвались острые углы. Руки Бомбера пришли в бестолковое движение. Я невольно приковалась к ним: очевидно, в минуты волнения директор бессознательно отрабатывал актерское мастерство. Из-под манжет запрыгали карты. Облизывая алые губы, Бомбер смотрел мне в лицо, а пальцы выстраивали вееры и гармошки.
– Неужели вы не были маленькой, Павлина Пахомовна?
Голос его срывался; брови, губы и нос наезжали друг на дружку; блестящий пробор ритмично дрожал, как хвост у заводной собачки.
– Неужели вы не помните цирк?
Карты легли передо мной полукругом. Все это были пиковые тузы. Бомбер, продолжая сверлить меня взглядом, махнул рукой, и они стали бубновыми. Он потянулся не глядя и вынул у меня из-за уха шестерку.
– Налепите ее себе на лоб, – предложила я. – Выметайтесь, уважаемый. Библиотекарь, который приходил перед вами… да вы, наверное, видели, как его проводили.
Между прочим, я помнила цирк. Настоящий, в добротном здании, с живым оркестром. По арене кружил мотоцикл с медведем верхом; в коляске сидел еще один. Медведь. Дрессировщик стоял сзади и держал огромное красное знамя. В шапито Бомбера выступали под фонограмму. Его договоренность с иностранным цирком следовало проверить, но участь самого Бомбера была решена независимо от исхода.
– Деткам радость, – прошептал он чуть слышно.
– Сколько там еще человек в приемной? – осведомилась я.
Тот облизнул кровавые губы.
– Трое. В смысле наших. За остальных не скажу.
Как я и думала. Они пронюхали и теперь действовали сообща. Удивляться не приходилось – я сама разослала уведомления.
– Значит, два плача о детках я уже выслушала. Осталось три.
Лицо Бомбера вдруг успокоилось.
– Четыре, – возразил он.
– Что, вы еще не наплакались?
– Нет, я закончил. Четвертый будет ваш.
– А, – я кивнула и потянулась к интеркому. Но вдруг моя рука замерла. Я смотрела на нее, как на чужую.
Бомбер тут же кивнул, и она упала плетью.
– Маленькая демонстрация, Павлина Пахомовна, – объяснил он зловеще, хотя я видела, что директор умирает от страха. – Небольшое чудо. Нельзя забирать последнее у креативного класса. Честь имею.
Он вышел, а я озадаченно смотрела на руку. Потом набрала номер генерала.
– Сарафутдинов, – сказала я. – Прижми, пожалуйста, хвост директору шапито.
– Только не сейчас, Пашенька, – пробасил он издалека. – У меня еще один труп.
– Где? – зачем-то спросила я.
– Возле библиотеки.
Глава 5. Концерт ля минор для скрипки
Сарафутдинов не поехал смотреть другие места. Его вызвал министр.
Генерал стал похож на гигантскую испуганную жабу. В нем что-то невольно взбулькивало, и водитель тревожно посматривал в зеркальце, устрашенный невидимыми внутренними процессами. В глубинах генерала разворачивалась кишечнополостная работа, подобная вулканической деятельности. Водителю было нечего бояться, но он боялся. Генерал был предельно физиологичен, и он постоянно воображал, как пассажир взрывается селевым потоком. К тому же генерала могли снять. Водитель и в этом случае ничего не терял, он стал бы возить другого, но все равно было страшно. Пять малолетних покойников за ночь в условиях кампании за счастливое детство могли свалить кого угодно.
Министр был Сарафутдинову земляк.
Генерал считал себя визирем при султане и относился к министру соответственно: ненавидел и преклонялся. Его насторожил дружеский тон. Министр позвонил ему лично и был преувеличенно радушен: тараторил, как на базаре – говорил что-то про плов, которого им нужно покушать, вспомнил родственников, справился о здоровье. Сарафутдинов знал, что это очень плохо. И министр знал, но продолжал комедию, ибо так был устроен этнически. В старину генералу могли отрубить башку сразу после братского обеда с кальяном и плясуньями. Сарафутдинов подыграл министру, ведомый тем же звериным мотивом, однако стал мрачнее тучи. Случилась некая неприятность. Покойников было много, он этого не отрицал, но дело, с другой стороны, лишь только началось. Маньяк орудовал месяца полтора, не срок для серьезного следствия.
Министр лично встретил его на пороге, и это вовсе не лезло ни в какие ворота. Тучность Сарафутдинова не помешала ему поклониться коротко, но с фантастической грацией.
– Проходи, дорогой, – трещал министр, ведя генерала под руку. – Никого не пускать! – бросил он секретарше. – Проходи, садись хорошо, кушай фрукты, коньяк!
Шторы были задернуты. Стол оказался и впрямь накрыт – на скорую руку, но со вкусом. И не стол – столик. Он ломился от винограда и хурмы, зажатый меж двух колоссальных кресел перед плазменной панелью во всю стену.
Сарафутдинов не прикоснулся к яствам, хотя благодарить и кланяться не перестал. Министр усадил его, сел сам, потянулся за пультом.
– Посмотрим, дорогой! – весело пригласил он.
Генерал ухитрился поклониться и в кресле, послушно полуприкрыв глаза. Министр ничего не сделал, но свет погас. Все вокруг повиновалось ему. Экран зажегся, и Сарафутдинов мгновенно узнал сегодняшнюю жертву номер четыре. Девчонка лет четырнадцати, одетая в красные шелка и увенчанная диадемой, стояла на сцене, изготовив смычок. Вокруг нее подрагивал сумрак – запись была неважная. Скрипачка сверкала черным и красным, выхваченная белым прожектором. Она прижала скрипку подбородком, взмахнула рукой и породила вихрь. Скрипка у нее оказалась электрической. После десятка аккордов вступили другие – невидимые – инструменты: клавишные, ударные, басы. Вспыхнули и заметались разноцветные огни. Мелодия расправлялась в бешеном темпе, подобная огненному цветку; со всех сторон к девчонке потянулись уродливые тени – они ломались в танце, простирали скрюченные руки, сникали, отступали и вновь надвигались. Прядь распущенных черных волос выбилась на лицо и упала на правый глаз. Сарафутдинов с шумом втянул воздух. Этот глаз он видел часом раньше, на фотографии. Тот, разумеется, был зашит. Иначе выглядела на снимке и белоснежная шея: на сей раз злодей увлекся и взял немного выше, распоров свою добычу до самого подбородка.
Силы тьмы, как догадался Сарафутдинов, тоже накатывались все яростнее; по сцене поползли клубы дыма, взметнулись газовые цвета морской волны – очевидно, именно волны они представляли. Слабо высветился задний план, где стояла толпа статистов, безмолвно воздевших руки.
– Ну, ты узнал, дорогой? – осведомился министр.
Сарафутдинов кивнул.
– Это, хороший ты мой человек, спектакль театральной студии при Доме творчества юных. Вот у меня справочка, – министр невесть откуда извлек пару сшитых листов, которые все равно было не прочесть в темноте. – Это фантастическая история про глобальное потепление, называется «Хищная оттепель»…
Генерал тоскливо взглянул на зашторенное окно, за которым оттепелью не пахло. Но скоро, очень скоро черный лед разойдется, заструятся бурые ручейки, снег сойдет, и обнажатся новые мертвецы.
– В общем, там такое дело, что все вокруг утонуло, и люди выстроили огромные плавучие города-башни, – продолжал министр. – Их осаждают разные хищные подводные существа, мутанты, пираты… – Он махнул рукой. – Ты знаешь, дорогой. И вот в одной такой башне живет с друзьями юная героиня-скрипачка, на музыку которой почему-то сползается вся эта нехорошая дрянь… злые силы пытаются противостоять, но ничего не могут поделать, они очарованы этой скрипкой, сдаются… Но вижу, тебе это не интересно!
– Мы найдем, кто это сделал, – хрипло сказал Сарафутдинов.
– Конечно, найдешь, – уверенно кивнул министр, подал знак, и экран омертвел. Медленно разлилось электричество, наполнившее светильники золотым светом. – Уже десяток трупов, да? И последние пять – только за сегодня, да?
– Так точно, – выдавил тот.
– Этот ролик, – министр кивнул на панель, – уже разошелся по всему Интернету. Из юного дарования сделают мученицу. Нас будут травить – уже начали шельмовать…
– Возьму его лично, – твердо пообещал генерал, не веря себе нисколько и зная, что и начальник не верит.
– Да я же не говорю, что не возьмешь, – министр всплеснул руками, участливо заулыбался, однако в глазах его маячила лютая бездна. – Я тебя пригласил, чтобы помочь! Ты кое-чего не знаешь…
Сарафутдинов не мог вскинуться целиком, потому что был грузен, и вытянул, сколько мог, только шею.
– Смотри, – посерьезнел министр. – Мальчик был детдомовский. Девочка висел во двор библиотеки, да?
Он тоже стал коверкать язык, но вовсе не от волнения, а из желания обозначить глубинные узы и подчеркнуть, что дело между ними двоими едва ли не родственное, стоящее выше всех прочих соображений.
– Другой девочка играл на скрипке в доме творчества. Четвертый – мальчик, да? – оказался на кладбище, где цирк. Пятый был во дворе детского сада. Я уверен, дорогой, что он туда ходил. Точно тебе говорю!
Генерал бездумно и нервно полез рукой куда-то под себя, чесаться.
Министр помолчал.
– Наверху идет бой, – молвил он удрученно. – Каждый должен определиться со стороной. Военные пошатнулись. Вай, какие были военные!
– Не улавливаю, товарищ министр, – признался Сарафутдинов.
Тот придвинулся.
– Твой Вонина – он во какой, славный, завидую! – Министр сладко прикрыл глаза и очертил ладонями нечто, долженствовавшее означать женский зад. Потом игриво ткнул генерала пальцем в живот. – Роскошная женщина. Но она делает очень большую ошибку. Она все это продает – библиотеку, цирк, детский сад…
Сарафутдинов наморщил лоб.
– Прошу пояснить, – попросил он жалобно.
Министр развел руками.
– Думай сам, дорогой! Пять объектов – пять мертвецов. Может, военные не при чем, но отмываться все равно не отмоются!
– Были же и другие, – пробормотал генерал.
– Э! – отмахнулся министр. – Кто их вспомнит? Кто их будет считать? Тебе будут этих помнить!
Сарафутдинов мучительно соображал. Он никак не мог взять в толк, на что намекает высокий земляк. Если Павлина продавала что-то чужое, то не сама, а потому что ей позволили или велели, хотя могла и сама, если одурела. И если в сферах развернулось сражение, то она слишком близко к поверхности. Морской бой незаметен для обитателей дна. Чем ближе к свету, тем ужаснее волны. Внезапно возлюбленная представилась генералу на месте скрипачки: все утонуло в оттепель, плавучие исполины гасят друг друга из всех калибров, со всех сторон подкрадываются хищники – и только она стоит, одинокая, со светлыми стихами о любви. Накатывают пенные валы, бьется скрипичная нота. Ведомственное имущество качается на понтонах.
Министр понял, что дело сдвинулось.
– Значит, под Павлину копают, – констатировал генерал. – И выше берут. Валят министерство. Что же мне делать? Я не могу не ловить маньяка.
Собеседник заледенел.
– Как так – не ловить? Я что, запретил? Очень ловить! Лови!
– Я все понял, – кивнул Сарафутдинов, помедлил и просто спросил: – Как думаешь, чья возьмет?
– Не знаю, – отозвался министр. – Не знаю, дорогой. Я тебя просветил, я тебе сочувствую. Думай своя голова!
– Может, и нет никакого маньяка, – пробормотал тот.
Министр выставил ладони:
– Я так не сказал! Все! Иди, работай и очень хорошо думай!
Крякнув, Сарафутдинов поднялся. Он сдвинул каблуки, и будто сошлись две тумбы. Слоновьи ноги чуть шаркнули, скрипнул загривок: генерал поклонился. Министр смотрел сочувственно.
Снаружи Сарафутдинов иначе взглянул на весну. [Издательство напоминает, что художественные домыслы о сокровенных впечатлениях и переживаниях фигурантов остаются на совести переписчика.] Потеплеть не успело, однако он вообразил уже не Вонину, а себя самого на льдине посреди зловещего изумрудного океана. Вокруг него скользили плавники, выбрасывались щупальца, и Кракен медленно поднимался из глубины, уже угадываясь в сгустившемся электричестве. Взлетали чернильные фонтаны; растекались ядовитые пятна; медузы, окрашенные во все цвета мира, группировались в обманчиво уютные и даже трогательные зонты, парашюты и дирижабли. Чудовища выстраивались свинячьими клиньями, готовые атаковать друг друга, и генерал содрогался, признавая в них знакомые высокие черты. Багровое солнце садилось, и небо с водой окрашивались кровью. Незримый подводный гад, обремененный специальным заданием, сеял смерть среди малых, которым лучше бы повесить на шею жернов; долг обязывал генерала найти и обезвредить чудовище, но аппаратная мудрость предписывала зашить себе рот и глаза, по образу и подобию убиенных. Лед таял по краю, шел трещинами, и генерал приказывал себе выжить в поединке титанов. Он не хотел похмелья в чужом пиру.
Глава 6. Трицератопсы
Рукопись
– Заводите остальных, – велела я капитану, когда Бомбер выкатился вон. – Там еще трое, правильно?
Мой оловянный солдатик уже вытянулся в струну.
– Никак нет, – возразил он виновато. – Четырнадцать человек.
У меня не собес, чтобы сидеть десятками.
– Пригласите директоров. Там должны быть заведующие детским садом, детским домом и домом творчества. Пусть войдут сразу все. Остальным скажите, что я уезжаю в министерство.
Капитан отрывисто кивнул. Я обошла его стол, толкнула грудью. Мой адъютант попятился, уперся в стену.
– Дверь запри на минуту.
Он скользнул приставным шагом, щелкнул ключом, вернулся и вытаращился на потолок. Я пошарила у него в брюках. О нет, это не мой генерал. В штанах у Сарафутдинова всегда было как в паровозной топке или медвежьей берлоге: жарко, мясисто, поначалу немного вяло, зато изобильно. С генералом мне не хватало рта. Капитана мне было мало. Я встала на колени, постояла, но не докончила дела. Буратино, а не мужик.
– Хорошего понемножку, – объяснила я, утирая губы. – Плохо кушаете, товарищ капитан.
– Никак нет…
– Значит, не в коня корм. Да и какой ты конь? Пусть заходят.
Я пошла в кабинет, и позади отомкнулся замок.
Ковер пружинил подо мной – не мог, конечно, это меня распирала энергия. Казалось, что я могу совершить все и в любую секунду сделаюсь невесомой, запрыгаю огромным мячом, раздосадованная лишь мелкостью дел, мне порученных. Тут я вспомнила о звонке Сарафутдинова. Мелькнула мысль, что дело действительно неприятное. С другой стороны, мне будто кто-то подыгрывал. Не прошло и получаса, как я попрощалась с Тортом, а близ его библиотеки – моей библиотеки – уже объявился покойник. Только-только я нашпиговывала Торта соображениями безопасности для детства и юношества, а кто-то уже управился подвести материальную базу. Лучше, конечно, было бы держаться в стороне от области обитания этого психа. Мне стало бы спокойнее, окажись это какая-то другая библиотека. С иной стороны, теперь я могла показать рвение и закрыть это место прямо сейчас. А завтра продать, наконец, и впредь не иметь к нему никакого отношения.
Бедные детки!
Я так и повторила троим, которые вошли.
– Бедные детки! – скрестила я руки на роскошной моей груди.
Судя по лицам, они не поняли.
Я предпочла постоять для внушительности, не села за стол. Сдвинула брови, добавила свинца. Они, конечно, тоже не осмелились сесть. Я слышала, как мой капитан за дверью разгоняет второй эшелон просителей.
Первый сделал маленький шажок. Одной ногой. И сразу вернул ее на место.
– Павлина Пахомовна, простите нас за вторжение, – начал он.
Я усмехнулась. Воробей вообразил, что имеет слониху.
– Представьтесь, пожалуйста.
– Тыквин Андрей Андреевич, – спохватился он. – Я заведую детским садом.
– Как же вы, мужчина, справляетесь? – вырвалось у меня.
На мужчину он, разумеется, не тянул, как и никто из ходатаев. Толстый – ладно, лысый – тоже не беда, однако ножки такие короткие, что мотня чуть не пол метет. Вот кому было впору заведовать шапито. Будь у меня время и желания, я бы их переставила. Ну, и ручки под стать ногам: еще немного – и кисти росли бы сразу из плечевых суставов. Весь обтекаемый, будто капля под носом; женские плечики Тыквина продолжались в широченные бедра, а дальше он резко сужался, благо ноги не допускали плавного перехода.
Тыквин угодливо забулькал.
– Крутимся, Павлина Пахомовна, изворачиваемся, как можем, жена помогает.
Пресвятая богородица, он был женат.
Некрасивые люди! И этим сказано все. Сарафутдинов называет их «шерстью». В тюремной иерархии она означает какое-то дно. Откуда ползло это доисторическое счастье, где отсиживалось, чем кормилось? Я думала, таких не бывает. Мне казалось, они засохли во глубине времен – в пыли редакций когда-то передовых журналов среди казенных картотек и шкафов; в президиумах лестничных советов; в культурных парках за шахматами в окружении засранных пионеров. Я полагала, они давно обернулись гербарием, до которого страшно дотронуться – настолько он ветхий. С тех пор, как они объелись белены, пролетели десятилетия. И вот они явились на свет, подслеповатые диплодоки, замшелые трицератопсы – точно, их трое, анатомические мужчины без пола и смысла.
Второй изображал респектабельность. Есть такая порода: реликтовый барин. Толстый серый костюм, жилетка, часы-цепочка, упитанный вишневый галстук. Мягкие щеки, острая седая бородка, очки, дутый перстень, старорежимный портфель. Дома, небось, кутается в истертый халат, не вынимая запонок и любуясь манжетами; восседает за древним письменным, зеленого сукна столом, играет полукилограммовой ручкой – обдумывает афоризм. Он оказался директором детского дома, и я сразу заподозрила в нем извращенца. Представившись, он дальше не успел раскрыть рта, как я его упредила.
– А к вам идут проверки – независимо от ведомственной принадлежности объекта.
В его утробе бесшумно взорвалось что-то зловонное. Он стиснул губы, чтобы не повалил дым. Я знаю таких. Велеть бы ему раздеться – явилось бы недельное исподнее.
– Вы же Мирон Моисеевич Булка? – зловеще осведомилась я, прошла за стол и заглянула в бумаги, как будто давно что-то знала о нем.
Он собрался и приосанился. Это стоило ему трудов.
– Странная комбинация, – заметила я, ощущая себя в ударе.
Булка зарумянился.
– А вы, – обратила я к третьему, – представляете, как нетрудно понять, Дом творчества юных?
Этот шагнул ко мне на целых два шага и отрывисто поклонился. Еще одно ископаемое, на сей раз вырядившееся в духе стиляги шестидесятых годов. Или пятидесятых, я их не различаю. На языке у меня вертелся вопрос, почему его не приняли, как опять-таки выражался Сарафутдинов, и не закрыли. Это чучело бродило по улицам в дудочках-брюках и полосатом пиджаке – приталенном, с подбитыми плечами; на голове красовался пегий кок. Вместо галстука – ослепительный желтый ромб в разноцветных квадратах. Я могла поклясться, что в шапито он был бы намного уместнее Бомбера. Мерзкие косые височки, узкие темные очки, удушливый аромат каких-то духов.
– Наверное, вам лучше известен мой сценический псевдоним, – объявил этот тип с неописуемым нахальством. – Меня зовут Ойчек Молчун. Я чечеточник. Вы не могли меня не видеть, я не однажды был в телевизоре.
– Не видела, – покачала я головой. – Когда это было, до революции? Вы не похожи на молчуна. Но можете называться так, мне все равно…
– Молчун – сценический образ, – не унимался третий – пятый – директор. – А что до революции, то вы, скорее всего, спутали меня с великим Бастером Китоном, комиком без улыбки. Я посчитал разумным заимствовать его метод…
– Это, если не путаю, было немое кино? – подхватила я по наитию, потому что понятия не имела, о ком он толкует.
– Безусловно, – просиял Ойчек.
– Тогда следуйте вашему кумиру во всем. Закройте рот, будьте любезны. У меня мало времени. Я работаю. В отличие от вас троих.
Не стану скрывать – я вела себя с ними не слишком учтиво. Но как иначе обозначить приоритеты и диспозиции?
– Что это у вас? Петиция? Дайте сюда.
Я потянулась за бумагой, которую давно тискал и мял Андрей Андреевич Тыквин. Прошение увлажнилось, мне стало тошно. Булка уже трудился над портфелем, там у него лежала вторая – ходатайство от каких-то попечителей, как он пригрозил.
Я бегло взглянула. Витиеватое послание за пятью подписями: трое присутствующих плюс Бомбер и Торт. Опять мелькнула тревожная мысль: как они скооперировались? Похоже было, что их кто-то наставил и направил. Директор библиотеки не обязан знать ни директора шапито, ни тем более графика распродажи министерской недвижимости. Я вчиталась внимательнее. Да, они всяко не в коридоре спелись. Объекты поименованы, пропечатаны, прошение составлено от имени пятерых и подписано каллиграфически, не на коленке. Под меня кто-то рыл. Мизераблей наставили и подослали, но все это не имело значения, благо меня хранило личное распоряжение министра.
– Ну что же, – молвила я, откладывая бумаги. – Было очень приятно познакомиться сразу со всеми хозяйствующими субъектами, а то все было недосуг. Знакомство наше будет коротким. Я вас увидела, услышала, документы приняла, вы можете быть свободны.
Три уродца потерянно переминались и переглядывались.
– Но позвольте, – сдавленно пискнул Булка. – Как же быть с интернатом?
– Переедете на периферию, – сказала я, хотя не была обязана. – Договоренность с областью уже есть. Вам же лучше – свежий воздух. А в вашем здании будет военное общежитие. Где мне людей селить?
– А в доме творчества? – осведомился Ойчек Молчун.
Он спросил подозрительно вкрадчиво.
– Воскресная школа для военнослужащих. Вы разве не в курсе, что в основу нынешней государственной идеологии положена духовность? А у вас в туалетах стоят автоматы с презервативами!
Молчун на то и Молчун, чтобы взорваться. Я знала, что так будет.
Отставной чечеточник затряс пальцем, вновь наступая на меня, и заблажил, забрызгал вдруг слюной:
– Пусть для начала вычешут из бород капусту от суточных щей, да вынут хрящи осетровых рыб! – Ойчек выл, воображая себя витией. – Дождутся, что их опять же по щам перетянут мокрыми… писюнами!..
На последнем слове он сбился, мнимая интеллигентность взяла над ним верх. Впрочем, истерика оставалась истерикой – будучи загнан в угол, он мог и ужалить.
– Вон отсюда, все трое! – гаркнула я и встала.
Откуда мне было знать, что булкиных сирот поставляют на самый верх – я слабая женщина, не искушенная в высших силовых играх. Но это, как говорится, другая история. Правда, она объясняла, с чего вдруг эта компания так оборзела; они чувствовали невидимую поддержку, хотя и не знали заступников.
Но я все равно их выставила.
Глава 7. Апартаменты под ключ
В квартире недавно жили, и человек, остановившийся в прихожей, не хотел знать, как.
– Сергей Иванович, это я, – сказал он в телефон.
Мобильник молчал.
– Вот, Сергей Иванович, пришел я на место, и если навскидку, то все меня как будто устраивает…
Говоривший еще застал жилицу, когда договаривался об аренде помещения; дальше все происходило без нее. Та, похожая на толстую сказочную собаку, только-только переборовшую запой, вышла к нему с грязной ложкой в руке. Она ела кашу. Инфернальная баба разинула пасть, со вкусом облизала ложку квадратным языком, напоминавшим дворницкую лопату, а после вытерла о свитер, плотно облегавший цирротический живот.
Жилица стреляла свиными глазками, поджимала губы. Она догадывалась, что с квартирой неладно, однако держалась уверенно и нагло. Гость, впрочем, не собирался торговаться, и они быстро договорились.
С той встречи ничего не изменилось. Жилицы не стало, а вот ее присутствие по-прежнему улавливалось, как будто она, распертая кашей, взорвалась и рассыпалась на кварки, которые втянулись в сырые стены.
– Так что вы не горюйте, Сергей Иванович. Что поделать, если нас выселяют! Мы прекрасно устроимся в этих казематах.
В комнате стояла вода. Неизвестный то ли строитель, то ли архитектор, соорудил там наклонный каменный пол. Добротное, старых времен каменное покрытие; человек с телефоном не мог понять, откуда взялся такой здоровенный блок полированного гранита. Возможно, был распилен и нашинкован огромный валун, сошедший некогда с ледником. Пол от порога уходил под наклоном к мутному окну с битыми стеклами. Начиная с середины комнаты, в этом естественном косом котловане стояла зеленая вода. В ней кто-то жил. В углу валялись тряпки, которыми вытирали все. Слив в туалете не работал. Близ унитаза поселилась початая банка тушенки, источавшая неимоверный смрад. С потолка на шнуре свисал холостой патрон. Он состарился и покрылся пылью, отчаявшись мечтать о свежих лампах.
– Вы знаете, Сергей Иванович – хочу поделиться с вами, пока никого нет. Вчера я читал Писание, и вот на какие строки наткнулся: «…жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». Да это же про меня! Что скажете, Сергей Иванович? Как вы думаете?..
В прихожей по растресканному паркету сновали мокрицы, виртуозно огибавшие ботинки вошедшего. Что-то всхлипывало, где-то низко гудело. Стены хворали кожной болезнью, шершавая сыпь – обнаженная штукатурка – сливалась в отталкивающие очаги. Остатки обоев были покрыты бурыми пятнами, похожими на кровавые следы, но это была никакая не кровь, и тем ужаснее они выглядели.
– Давайте, Сергей Иванович, потолкуем о Небесном Царстве. Мы с вами смертные грешники, но мы туда попадем. И знаете, как? Через малых, которые суть ангелы. Спросите меня, зачем я зашиваю им глазки? Можете не спрашивать, я и так отвечу. Чтобы они нас запомнили. Мы въедем в Царство, если позволите выразиться, на их плечах… Мы последние, кто отражается в их глазах. Зашивать же приходится непременно, ибо оттепель, и птички голодные… Они слетаются к древу жизни, вредят херувимам…
Человек прикинул, сумеет ли он исхитриться и добраться до окна, не намочив брюк. Все, чего он хотел – проверить батареи парового отопления. Пошатать трубу. В ней очень кстати завыло, и понеслись бесы – не то веселые, не то скорбные; в трубе причитало и бормотало, она чуть подрагивала, вся испещренная смертными каплями воды. Мужчина плюнул, разулся, закатал брючины и пошел босиком. Лицо его гадливо кривилось. Он пожалел, что не взял рабочим комбинезоном, а лучше – костюм химзащиты.
– Все бы вам помалкивать, Сергей Иванович. Озорник вы! Мало ли, что я рассказывал – не сломаетесь еще раз послушать. Ладно, впитывайте новости. Так вышло, Сергей Иванович, что мы, похоже, попадаем под какую-то программу защиты. Может быть, нас и не выселят. Может, нам повезет. Не знаю, в чем дело, но гадину, которая хочет продать наше место, собираются сковырнуть. Раз уж мы оказались поблизости – поможем этому славному делу…
Вода была теплее, чем казалась.
Он дошел до трубы. Все на соплях. Дернул, что было сил, и та не подвела, устояла. Но это до поры. Он оглянулся на сумку, которую оставил на пороге. Та была набита разным железом – ножами, наручниками, пилами и топорами. Пришелец выбрался на сухое место и поискал глазами, чем бы вытереться. Ничто не годилось, тряпье грозило расползтись в пальцах. Выругавшись, он натянул носки прямо на мокрое.
– Натерпелся я с вами, Сергей Иванович!
Мужчина завел глаза к лишайному потолку. Он прикинул, нет ли смысла облагородить самый вход, чтобы внутренность не пугала с первого шага. Немного подумав, решил не обременяться.
– Да, Сергей Иванович. О наших херувимах. Освобожденные от скверны, избавленные от требухи, они украшают лозу подобно дрожащим листочкам…
Он прислушался к шумам. Дом жил прибитой жизнью. Где-то встукивал молотком невидимый сосед. Хлопнула входная дверь: кто-то зашаркал по лестнице, перхая и всхлюпывая. Сразу же все и смолкло. Во дворе-колодце полагалось не жить, а долго болеть и медленно умирать. Мужчина постоял, потом повернулся и заглянул в зеркало. Он отразился там темнее, чем был. Шляпа, нахлобученная по брови, превращала его в идиота. Хотелось схватить шляпу за поля и рвануть вниз, чтобы вышел ошейник, а на макушке осталось бы нечто вроде кипы.
Он улыбнулся от уха до уха, представив это.
Глава 8. Швейные принадлежности
Рукопись
Браслет, надетый мне на ногу, можно перестричь ножницами, и ничего не случится. Мне ли этого не знать. Это разработка нашего Министерства, на которой мы оптимизировали миллиард или два, я не помню. Только резать его незачем, потому что я все равно не выйду, а выйду, так не дойду, а если даже дойду, то не знаю, куда, потому что некуда.
И ножниц в доме нет.
Их изъяли.
Вместе с хирургическими иглами, от крови то ли ржавыми, то ли просто грязными.
День Пяти Мизераблей – да, мне приятно это слово, оно поэтично, а поэзия высока и обращает низкое в небесное – завершился без происшествий. Ископаемые ушли, а прочую публику без шума и скандала выставил мой капитан, и я еще немного поточила ему стерженек или что у него там – коготок, хохолок, я по-разному называла, пока развлекалась. «Писюн», как выразился допотопный чечеточник. Тоже удачное слово, только для улицы.
Я связалась с городским комитетом по культуре и попросила никуда не брать этого хама, когда с домом творчества будет покончено и он останется не у дел. Духовенство строит новые сорок сороков при подряде Минобороны, а этот носитель прекрасного расписывает, как хорошо перетянуть кому-то по щам.
Потом я поехала домой. В салоне мурлыкала музыка, и во мне лениво слагались хвалебные стихи о Сарафутдинове. Твой кадык среди плоти, что я целовала… Твоя грудь исполина, где я ночевала… Твои ноги-колонны, что я омывала… Твоя челюсть с клыками поверх одеяла… Жемчужины горнего, затерянные в грубой мужественности. Чуть позже, как часто случается в стихосложении, я незаметно переключилась на себя и поменяла размер. Я богата по праву, мне это по нраву… Я красива, и в этом великий закон… Неимущий убог, пусть канает в дубраву… Пресмыкаться и бедствовать он урожден…
…На пороге я села. Это метафора. Я привалилась к косяку, не веря глазам. Очутись я на Марсе – было бы не так странно. Кто-то разгромил мою квартиру. На первый взгляд, бесцельно, ради искусства хаоса. Многое просто посбрасывали без всякой нужды, расшвыряли, разорвали, разбили; кто-то явился не только искать неизвестно что, но и нагадить. Это было немыслимо. Нигде же не значится ни квартира, ни дом, повторяю, ни целый микрорайон; моего адреса ни у кого нет, у меня пятьдесят степеней защиты, вооруженный консьерж, сигнализация, видеокамеры, частные охранники – в минуте ходьбы. Я бросилась к потайным ларцам: ничего не украли. Не тронули и сейф. Налички в нем было не больше миллиона, я не храню деньги дома, но откуда могли это знать погромщики?
Я все-таки села, и больше посадка метафорой не была. Мне пришло в голову, что налет одобрили наверху. Никто не проник бы ко мне без высшего дозволения. Консьерж отвернулся, камеры выключили, вообще все здание обесточили, охране велели сидеть тихо. Но кто, почему? Я знала, что в эшелонах происходит волнение. Но мой министр оставался несокрушим, он относился к сонму грозных божеств, которые не проигрывают. Он дважды навещал меня, и я отметила в пуховых перинах, что он не хуже Сарафутдинова. Положа руку на сердце, признаюсь, что он был лучше. Загривок, килограммовые ядра, челюсть, дикий зык на излете соития – все оказалось по моему вкусу. Он не мог мной пожертвовать, я находилась слишком близко к нему. Но кто поднял руку?
Знакомая с детективами, я ничего не тронула и сразу позвонила генералу. Тот ответил растерянно и даже вяло – правда, пообещал немедленно приехать с опергруппой. Я разволновалась всерьез. Я ждала, что Сарафутдинов начнет метать молнии. Он прибыл настороженный, фуражку нахлобучил по самую переносицу. Его внимательные глазки осторожно сверкали из тени двумя яркими точками.
– Работайте, – бросил он подручным, и те принялись за дело. – Идем пить, – приказал он мне, и мы пошли в кухню.
Сарафутдинов никогда не командовал мною. Только в койке. Наши любовные утехи делились на два этапа. Сначала я сама настаивала, чтобы он меня мял и ломал, наседал, нагибал, притискивал, немного шлепал, засовывал толстенные пальцы куда не положено и всячески по ходу раскрепощался: взрыкивал, хрюкал, пускал ветры, причавкивал, ронял слюну. Этот первый этап оказывался дольше второго; следующий начинался, когда Сарафутдинов впадал в неистовство и все это делал по собственному почину, без напоминаний и просьб. События резко ускорялись; перекрывая ревом ритмичные музыкальные басы, Сарафутдинов разряжался и накрывал меня обессилевшей массой. Но то была постель. В остальное время генерал держался кротким зайчиком, потому что между нами существовало расслоение. Или дистанция. Генерал знал, что я принимала моего министра. Для стирания разницы ему пришлось бы принять своего.
Но сейчас он вел себя как хозяин.
Его шестерки трудились, исследуя каждый очаг разгрома, их не было видно. Я слышала их тараканье шебуршание и тявканье. Кухня тоже оказалась разорена – бессмысленно, как выразился какой-то терпила, и беспощадно. Кто-то залез и просто нагадил. Зачем? Я не находила ответа.
Мы стали пить водку.
– Павлина, – прохрипел Сарафутдинов, – сегодня он вывесил пятерых подряд. В том числе девчонку-скрипачку, довольно известную. Ходил со складной лесенкой, ночью, и вешал. Я эту артистку видел. Такая шустрая, играла фантастический спектакль о будущем. Там, значит, везде… наступила оттепель, все растаяло и утонуло… города плавают, вокруг всякие пираты и акулы…