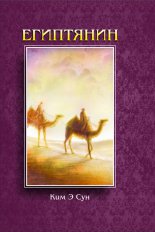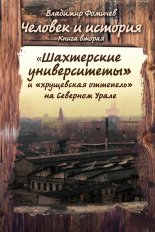Малахитовый бегемот. Фантастические повести Смирнов Алексей

Хищная оттепель
Фантазия
От издательства
Рукопись, оказавшаяся в нашем распоряжении, не могла быть опубликована в первоначальном виде. Издательство сочло необходимым оговорить это обстоятельство по той причине, что приглашенный автор, имя которого остается коммерческой тайной, положил документальные материалы в основу самобытного повествования, применив, таким образом, художественный прием, оправданность которого целиком лежит на его совести. Для ясности мы приводим отрывок из оригинала, чтобы читатель убедился в невозможности напечатания этой сумбурной исповеди – потока, как выражаются в литературных кругах, сознания.
Сраные суки! Они заперли меня дома. Мало ли, что четырнадцать комнат. Суки, твари, подонки, они заварили дверь. Они забрали железом окна, кроме мансардного. Там дежурит автоматчик. Мне спускают жрачку в корзине. Дом оцеплен. Телефон отключили, проклятые они гниды, пидоры, пусть сгорят в аду, я все напишу про них, я расскажу про уродов. Это у них называется домашний арест. Они меня сгноят, но я напишу, как было. У меня нет никакой связи. Они даже электричество перерезали. Нет горячей воды. Педрилы паскудные, болотные гады, будьте вы прокляты.
И так далее, и тому подобное – жемчужины смысла теряются в нескончаемом потоке брани. Читатель не должен забывать, что даже этот фрагмент подвергся нашей тщательной правке: мы многое вымарали, расставили знаки препинания, исправили орфографические ошибки, а после вычеркнули вообще. Тем не менее литератор, которого мы привлекли к обработке рукописи, посчитал возможным вести часть рассказа от лица героини. Если окажется, что речь ее не слишком соответствует манере, принятой в известных кругах, то и за этот недочет несет ответственность наш автор. Мы, однако, видели свою задачу в обеспечении складности и плавности изложения, а потому закрыли, к примеру, глаза на тот факт, что героиня никак не могла быть свидетельницей ряда событий, о которых – как может показаться из текста – рассказывает лично. То, что более или менее относится к собственно ее сочинению, снабжено подзаголовками.
Хотя издательство не понимает причин, по которым Следственный Комитет передал рукопись в наше полное распоряжение, ибо расследование продолжается, и конца ему не видать, мы выражаем признательность этому уважаемому органу правоохраны.
Из пресс-релиза Следственного Комитета
…Следствием установлено, что Вонина Павлина Пахомовна на протяжении ряда лет злоупотребляла своей должностью в хозяйственном ведомстве Министерства обороны. Вонина, в частности, занималась продажей собственности Министерства самому Министерству по ценам, во много раз превышавшим установленные – предварительно выкупая эту собственность по ценам заниженным и снова от имени Министерства…
он рассказал что там у них внизу
есть галерея лиц и эти лица
свисают с веток в призрачном лесу
как сон который никому не снится
Алексей Цветков
Глава 1. Кислород Чикатило
Рукопись
…Вонина то, Вонина се. Всех собак повесить на Вонину.
Вонину запереть.
Я, конечно, перемудрила. Я сама себя вывела из правового пространства. И даже из географии. Моего дома нет на карте. Да и всего района там тоже нет, хотя это центр города. Юридически ни района, ни дома не существует.
Мне очень жалко себя.
Я большая, во мне сто четыре килограмма слоеного мяса. У меня опрелости. Еще начинается диабет. Я смотрю на себя голую в зеркало и понимаю, что совершенно беззащитна. Такая большая, и делай со мной, что хошь. Слезы ручьем, когда оглаживаю загривок – ну и загривок, и пусть, и что. И подбородок. Первый, второй, следующий. Я все подрагиваю от страха и горя.
Разве спасут меня четырнадцать комнат?
Я прячусь в туалет. Сижу там, потею. Свет не горит. Телевизоры мертвы. Пахнет кашей и кислым бельем. Мне спускают разные крупы, молоко, хлеб. Я высовываюсь в окно и дышу свежим воздухом. Раз в день, в один и тот же час, больше не разрешают. Я забираю корзину и одновременно дышу. Еще я слышу, как стрекочет вертолет. Это по мою душу. И где-то воют сирены – это уже по чью-то чужую.
Было так: Дженни туфлю потеряла. Долго плакала, искала. Мельник туфельку нашел и на мельнице смолол. Мне снилось, будто я это читаю вслух. Вроде бы я, но в то же время не я. Деточка какая-то стоит на стульчике, в бантик наряжена. Херувим в локонах. Утренник в детском саду, и вокруг – никого. И деточка я тошнотная.
Где тот стульчик? Теперь у меня трон. Подарок Сарафутдинова. Он у кого-то изъял и доставил в полночь, с боем часов. Не поленился, все сделал сам. Перетянул атласной лентой поверх розового букета, шофера отослал, принес лично. Сарафутдинов не малого роста, да и не мальчик; одышка у него, солидный живот, но трон еще больше, Сарафутдинова было не видно за ним, только слышно. Как будто это сам трон дышал, тяжело и с присвистом. Не то от натуги, не то от страсти.
Я оделась в бальное платье, приладила диадемку. Сарафутдинов совсем сошел с ума: он и меня поднял – на секунду, конечно, дольше было не выдержать даже ему. Стал цвета кирпича. Усадил, выпил шампанского из туфли, целовал педикюр. Той ночью я написала стихи. Сарафутдинов спал, а я смотрела и слагала строки о его волосах на подушке. Миндальные волосы ежиком. Моя любимая челюсть, трогательные клыки. Я писала, что беззащитна и беспомощна перед ним, не зная, что на самом деле пишу не о себе, а о нем. Он тоже оказался беззащитным и беспомощным. Он ничего не смог сделать.
Брожу в темноте. Они хотят меня ослепить. Болваны, как же я буду подписывать протоколы?
Детки тоже ослепли. Меня спрашивали, не жалко ли мне деток. Жалко, спору нет, но если честно, то в первый момент, когда я узнала, мне было жальче Сарафутдинова. Мой рыцарь был вынужден копаться в этом говне. Его терзали, на него давили, в нем убывала мужская сила вместе с достоинством.
В самом начале, как только он рассказал мне о детках, я приказала ему заткнуться. Я знала, что существует грязь, и я бы месила ее ногами, как все, ничего необычного, но волею судьбы я вознеслась, и сам Сарафутдинов предпочитал меня видеть на троне, так что окрысилась я по делу. Он-то, в конце концов, ходил по грязи, и я не возражала.
Он приехал, как обычно, к полуночи, уже прилично выпивший. Я налила себе и ему. Он снял китель, ослабил галстук и развалился в кресле. Весь, помнится, оплыл и обмяк и стал не то квашней, не то тестом. На щеках проступили прожилки, похожие на морковь в кислой капусте. Челюсть гуляла.
– Какой-то гад объявился, – пожаловался он сразу, без предисловий любви.
Сарафутдинов был генерал полиции. Я не стыдилась его. Он стал бы министром.
– Детей потрошит, – продолжил Сарафутдинов.
– Заткнись, – ответила я. – Не смей тащить сюда со службы всякую срань. Мне нет до нее дела.
Но он гнул свое, пришлось послушать. Мне стало ясно, что он озабочен всерьез, иначе бы не посмел говорить дальше.
– Маньяк, – сказал Сарафутдинов.
Он лег ко мне и отразился в зеркале. У меня большое зеркало на потолке. Я любила смотреть на Сарафутдинова, он будто пожирал меня, медленно извиваясь, в шерсти, пытался слиться со мной, но я была непроницаема, и он трудился, я вся была под ним – перед ним, бери не хочу, и было удивительно, что такому усердному не удается меня расслоить. Еще немного, и он бы утонул, растекся во мне мохнатыми щупальцами, но я выталкивала его. Клещ, захваченный каплей масла. Сарафутдинов был прекрасен, мой настойчивый герой. Люблю, когда он топчется мешком под увесистый рок, и много в нем говна, и стены дрожат, и весь он мужик. Прекрасное в нем уживалось с мерзким, и мне делалось особенно сладко, когда я не могла понять, где что. Я млела и отвращалась сразу; это настолько меня возбуждало, что все отверстия на пике восторга молниеносно расслаблялись.
– Соловушка моя, – заворковал Сарафутдинов. – Дынька. Ты моя хурма.
Помню, я дернула за шнурок. Теперь здесь темно, а прежде горели лампы в тысячи свечей. Нам обоим нравилось, когда слепит глаза и видна каждая взопревшая складочка, каждый прыщик, все волоски. Вот и тогда вокруг вспыхнуло. Я потянулась, немного стиснула Сарафутдинову яйца. Но свет на беду переменил его настроение. Может быть, он не ждал, хотя не понимаю, с чего бы. Мы всегда так делали. Свет навел его на мысли о зрении; мой генерал сморщился, сощурился. Он отлип и распростерся на простынях. С потолка на него глядел такой же Сарафутдинов, как будто настоящий умер, а наверху парила его освободившаяся душа – точная копия тела.
– Он зашивает им глаза, представляешь?
Сарафутдинов сел.
– Прекратил уже, а?
Я осталась лежать. Могу зарычать, да. Подозреваю, что во мне тоже обозначался контраст. Я в теле, но умею быть белочкой, тыковкой и хурмой, Сарафутдинов не врет. А бывает, что белочка вдруг превращается в заведующую овощным магазином. Иногда и газы отходят. Генерал даже вздрагивал, случалось, и сразу пил.
Он и тогда выпил, но не поэтому. Налил себе виски. Сожрал, как воду.
– Развешивает на деревьях, – монотонно продолжил Сарафутдинов. – Выпотрошит, потом застегнет одежку. Расстегнем – все наружу. Шапки наденет, туфельки. И повесит. Но сначала зашьет глаза.
Тут я его и пожалела. Он государственный человек, ему бы армией править или страной. А у него импотенция от забот.
Я свесилась с ложа, пошарила под кроватью, выудила горн. Проиграла побудку. Мы современные люди и время от времени играли то в пионервожатую, то в медсестру, то в штандартенфюрера. Горн был украшен вишневым бархатным полотнищем, как золоченой бородой. И Ленин вышит. Ручная вязка – хотя о чем я, вяжут колбасу. Короче, штучная работа.
Только генерал не угомонился и пропустил побудку мимо ушей. Встал, пошел, сунулся в китель. Детки детками, а я любовалась. Не Аполлон, о чем речь – горилла, кабан, но сколько силы! Какая гордая мощь! «Заслуженное брюхо» не комплимент, над ним упражняются в остроумии, но эти шутники просто не видели Сарафутдинова. Он так прекрасен, что я готова одолжить глаза. Вы видели, как шествует павиан? В нем есть величие. Он выше своего уродства. Подозреваю, что он специально натирает себе зад. Плевать ему на эстетику, у него есть клыки. Почти как у Сарафутдинова. Я говорила? Да, говорила. Я описала их в стихах, но это слишком личное, не для прозы. Да, я пишу стихи. Вы против, зайчики? Вы плесень. Навоз.
Сарафутдинов принес в постель фотографии и что-то еще, он называл эти бумаги ориентировками. Я уже поняла, что нынче он не в ударе. Коли так – отчего же не посмотреть, аппетит не собьется.
Там были настоящие ужасы.
Детки маленькие, лет по восемь-двенадцать. Мальчики и девочки. Висят, похожие на прошлогодние яблоки; потом лежат, на снегу. Лица спокойные, но кажется почему-то, что их разглаживали утюгом. Или проглаживали, как мятые страницы. Сначала были разные морщины, гримасы; потом не стало, ротики позакрывали, складочки выправили, глазки зашили. Фотограф их взял крупным планом. Очень грубые швы, толстые нитки. Я смотрела и никак не могла сообразить, что в них неправильного; я знаю, не ловите на слове, правильного там ничего, но была какая-то деталь, которая, с одной стороны, так и выпирала, а с другой – пряталась.
– Видишь, целая постановка, – сказал Сарафутдинов.
Я сразу и поняла. Вот в чем было дело. Да он же и говорил: застегивает и вешает. Все деточки аккуратные, словно мама одела; ни тебе шапочка чтобы свалилась, ни развязались шнурки. Даже повязаны шарфики, поверх петель. Значит, их сначала подвешивали, а потом прихорашивали, наносили последние штрихи. Следующий снимок: уже без одежды, на столе. Распороты целиком, зияют черные ямы.
– Это не мы, – пояснил Сарафутдинов. – Не вскрытие. Все вынимает, но животы не шьет, только глаза.
Я швырнула фотографии на пол, всю пачку.
– Дело на контроле, – поспешно хрюкнул Сарафутдинов, словно извинялся. – С меня самого того и гляди шкуру снимут.
Надо было посочувствовать, и я погладила его по шкуре. Телеса моего генерала дрогнули, они совсем беззащитные, если вблизи. Я против воли представила, как шкура его – не цепляйтесь, что повторяю, шкура и есть – лежит перед камином у министра или кого повыше, и голова с клыками прибита, и перекрещенные сабли под ней.
– Зачем он зашивает глаза? – жалобно спросил Сарафутдинов.
Жалобно – от непонимания и усталости.
– Затем, что больной. Знаешь, Сарафутдинов, ты мне это больше в дом не носи.
– Они еще живые, когда шьет. И потом тоже. Медики говорят, что надо понять, тогда портрет нарисуется. А как поймешь, что у него в голове? Может, там сидит какая-нибудь галлюцинация. Вторая личность – Сергей Николаевич, например. Или Петрович. И командует. Как его возьмешь, Сергея Николаевича?
Он встряхнул головой, изобразил внезапную бодрость и шлепнул меня по заду. Смешно угадал, звон слился с боем часов.
– Вот разложился Чикатило на атомы. Кислород, водород. А мы дышим. Они везде.
Сарафутдинов встал, упер руки в бока и захохотал.
– Не нравится, да? Дыши глубоко, очень хорошо дыши!
В минуты веселья он притворялся гастарбайтером – а может, и впрямь деградировал. Напрасно кривлялся, поезд ушел, все у него уже висело. Не то перепил, не то по-настоящему переживал из-за деток.
– Стих напишешь про его атомы, да?
– Все мои стихи про тебя, Сарафутдинов. Скотина. Хочешь про атомы? Ладно. Напишу, как они в тебе вертятся. Деток своих прибери, мне деток хватает.
Это была правда, бери не хочу. Брать никто не хотел, зато донимали меня с утра до вечера, хоть в присутствие не ходи…
Глава 2. Прощальный шелест страниц
Рукопись
…У нас на балансе числились детские учреждения, пять позиций. Наследие не знаю, кого. Уже не важно. Черт его знает, зачем минобороны понадобились детский сад и цирк шапито. Там отродясь не было никаких военных. Я называла эти объекты крольчатниками. Номер один, номер четыре и так далее. Что там творилось, я не имела понятия. «Завхоз» – некрасивое слово для поэтессы, но если обнажать сути – кто это написал? не мое – то иначе не скажешь. Мы все были завхозами, работягами, в том числе сам министр. Простая и тяжелая работа, управление всякой собственностью, шило на мыло, зачеты и бартеры, ведомости и счета. Любой труд порождает некоторую черствость, иначе ничего невозможно сделать. Врач выстраивает стеночку, отгораживается; и мент выстраивает стеночку, потому что инфаркт случится, если вникать всей душой; министр вообще ничего не видит, он оперирует статистикой. Уже с уровня районного коммунального хозяйства заведующий возносится достаточно высоко, чтобы не различать людей. Это не хорошо и не плохо, так нужно. Специфика руководства. Вот представьте, что вы командуете собственным телом. Всеми соками, каждой дыркой и даже атомами, среди которых тебе и кислород Чикатило, и водород Шостаковича, и сера случайного прохожего. Обращая внимание на все подряд, вы не сделаете и шага. Поэтому существовали крольчатники под номерами от одного до пяти, и я знала, конечно, что под ними скрываются детский дом, детский сад, детская библиотека, дом творчества юных и цирк шапито, но забывала об этом, когда начинались большие цифры.
Не спешите мне завидовать. Сами видите, где я теперь и что со мной. Вот вам другой образ: океан. Шторм. Чем ближе к поверхности, тем опаснее. Да, если буря сильная, то и до дна достанет. Пронумерованные объекты зашевелились, но я-то вообще попала в водоворот или что там бывает, когда штормит. Наверху сцепились, повынимали компромат, и я для кого-то оказалась дубиной, дремавшей в углу, а мой министр – булавой. Мы разлетелись в щепки. А всякая слепая придонная мелочь лишь перетрусила. Меня поставили на якорь, как мину, чтобы в подходящий момент расстрелять из пушки. Надели на ногу браслет. Я чувствую тяжесть, меня тянет на дно. Сам Сарафутдинов и надел: сидел на корточках, загривок наливался, а он пыхтел в мои пальчики, такие перламутровые раковинки, они поджимались, прятались в коверный ворс; Сарафутдинов застегивал ремешок и клялся, что первым перекусит и выплюнет, когда разойдутся тучи, но я понимала, что это не по его клыкам, серьезнейший груз, я на рейде в окружении морского боя. Он все нахваливал этот браслет – и мыться в нем можно, и танцевать не трудно, мне даже идет, соблазн получился заоблачный, а я же птичка окольцованная в клетке, мне петь не дают, я отвела ножку, мою смешную толстую ножку, и как наподдам ему в хрюшник, даже чавкнуло; мне сразу руки за спину, а всё уже, браслет сидит, я под арестом, но домашним, держать меня незачем – они и не знают, схвативши, как им быть, стоят чурбанами и не пускают, не понимают, что мне такого сделать дальше, чтобы не посадили самих, а Сарафутдинов морщится с пола и машет им – отпустите…
Ладно, продолжим. Ночью он показывал фотографии с детками, а утром началось, хотя я не догадывалась ни о каком начале. Обычный день. Сарафутдинов опохмелился и уехал, а следом и я. Надела шубу и спустилась. Машина темная сплошь, тоже толстая, меня в ней не видно, я расстегнулась. Торпеда, а не машина; от нее расступалась и разлеталась серая грязь – дорога, прохожие, дома, небеса. Приехали в ведомство. День был приемный, два часа для просителей, и явились все пятеро, плюс какие-то еще. Меня насторожило, что с претензиями. Обычно приходят, когда что-то в принципе можно, но им никак, однако эти не могли не сообразить, что нельзя и незачем шляться, то есть наметились какие-то семена бунта или зародыши мятежа – короче говоря, недовольство с долей истерики.
Но я разрешила впустить. Служба есть служба.
Удивительно, что мужчины. Я даже не знала, что детской библиотекой может заведовать мужик. Это уже предел, дальше падать некуда. Да, она была на балансе, фамилия мелькала, но я не присматривалась, какое мне дело. И вот он вошел, обтерханный, молью траченный, хотя потрудился вырядиться, потому что все-таки понимал, что не в столовую намылился и даже не в гастроном. Песочный, дикий какой-то костюмчик, стоптанные ботинки, галстук за три рубля. Представьте, ноги вытер о ковер. Не иначе, разволновался. А может быть, дома так делает, воображаю его ковры.
– Здравствуйте, Павлина Пахомовна!
Каркнул, а не сказал, как подавился. Лицо похоже на утюг: затылок квадратный, а рожу будто сплющили под углами. Все выстроилось в ребро – подбородок, шнобель, межбровье. Волосы редкие, перхотные, зализаны к плеши. Глазками прямо искательно жрет. Ходят ко мне просители, как не ходить, такая моя планида и звезда, но этот приперся какой-то классический.
– Присаживайтесь, – говорю, – Дрон Ефимович.
И он с готовностью зашептал:
– Дориан, Дориан.
Я не сразу поняла.
– А? – спрашиваю.
– Дориан, – повторил этот убогий.
Ну да, я немного ошиблась. Откуда мне было знать, кто он? Вошел – я заглянула в бумаги, наспех прочла, что он Дрон. На всякий случай перечитала фамилию – Торт.
– Родители очень любили Уайльда, – шелестел мой заведующий, мой безнадежно директорствующий Дориан. – Я еще не родился, а они уже выбрали имя. Я еще ножкой толкался.
– Что у вас, Дориан Ефимович? – перебила я.
– Библиотека же, Павлина Пахомовна! – Торт изобразил крайнее страдание. – Мне приходят какие-то бумаги, проверки – тоже приходят. Пожарные. Санитарный доктор – вы знаете, наверное, Дмитрий Владимирович…
– К сожалению, не знаю, – отрезала я. – Дориан Ефимович, я очень занята. Изложите, пожалуйста, без предисловий.
– Библиотека, – повторил он, как дунул чем-то после дешевой еды. – Я навел справки – все хором советуют: идите к вам.
У меня чуткий поэтический слух. Я не удержалась.
– Так и выразились – идите к вам? Значит, библиотекой заведуете?
Торт пошел пятнами.
– Боже упаси, это я для краткости. Сказали со всем почтением: обратитесь, мол, к Павлине Пахомовне Вониной. Я, грешным делом, не знал, что нами владеют военные. Сначала удивился, а потом обрадовался. Солдат ребенка не обидит!
– Матрос, – поправила я.
– А? – Он вконец очумел.
– Дориан Ефимович, что вам угодно? У меня мало времени.
Торт вывалил язык. Я не шучу. Как шелудивая собака. Принялся дергать себя за ворот, ему стало душно, и по ходу разинул пасть. Раз он зашевелился – пахнуло каким-то селом. Ни слова не говоря и не сводя с него глаз, я включила вентилятор.
– Разгоняют же нас, Павлина Пахомовна, – пискнул Торт. – Говорят, что нарушения, но вы знаете, как это бывает.
– Как? – спросила я ледяным голосом.
Он взял себя в руки и кивнул.
– Хорошо, я все понял. Но деток-то куда? На тот свет? Они же книжки читают. Иногда. Уже почти нет, но иногда.
Снова детки. Я вспомнила пальтишки, шарфики, береты. Новогодние краски. Может быть, душегуб помешался на елках и наряжает? Надо будет подсказать Сарафутдинову.
– Здесь военные, Дориан Ефимович. У военных – командование, приказы. Велят на тот свет – отправятся на тот свет. Вы временно занимаете стратегический объект, и обстановка требует его освободить.
Для потомков я объясню, в первый и последний раз. Среди прочего Министерству понадобился склад под новое обмундирование. Модельные шинели, носки с подогревом, ортопедическая обувь, аксельбанты, белые перчатки, фуражки вертикального взлета – тульи стоят торчком и занимают место. Недвижимость стоит дорого, а у нас уже есть, но бюджет предоставил средства. Я считала это неразумным, библиотеку можно было просто освободить, но транши и гранты полагается осваивать. Поэтому я зачеркнула четыре нуля и выставила объект на торги. Открыла контору, та купила библиотеку, потом продала опять, снова нам, только нули вернула… Да вам ни к чему подробности. На разницу я прикупила десять складов, и еще осталось. Да, прилично осталось. И что? Во всем мире выплачивают комиссионные.
– Деткам надо дома сидеть, нечего шляться, – добавила я.
Напрасно добавила. Но меня понесло.
– Детки, – заметила я, – по улицам ходят, а им потом животы вспарывают.
Торт попятился.
– Что вы такое говорите, Павлина Пахомовна? – спросил он в ужасе.
– Да. Все уже боятся. К вам и так не ходят, а теперь вообще не придут.
Глупость с моей стороны, не спорю. Но Торт меня чем-то бесил. Любоваться в нем было нечем, обычная тля, такие не бесят, я их не вижу. Мне было непонятно, зачем он явился и на что рассчитывал. Мизерабль что-то вообразил, нарисовал какие-то горизонты, причислил меня неизвестно к кому, а я не могла сообразить, какие у него основания.
Наверное, я не выспалась. Аргумент был дурацкий, вообще посторонний – отчасти за неимением лучшего. Что я могла сказать? Мне было незачем отчитываться перед Тортом, но все же я сочла нужным смягчиться и снизойти.
– Решаю не я. Решает Министерство.
Я развела руками и даже печально улыбнулась. Более чем достаточно.
– Но нам-то куда деваться?
Он не о детках заботился, он горевал по своей синекуре. Куда ему, в самом деле? Только в дворники – и то не возьмут. Эта ниша была занята давно и прочно.
– Вы же сами книжки читаете, не только ваши детки, – нахмурилась я. – Про одно вы знаете, как бывает, а про другое не знаете. Разве я непонятно выразилась? Я пешка.
В его собачьих глазах отражалась ладья.
– Я напишу в газету, – пробухтел он и чуть не умер.
– Напишите, – кивнула я. – Соберите марш миллионов. Только сюда не ведите, здесь тесно.
– Ну да, помещений не хватает, – осклабился Торт, а я поняла, что он может укусить со всей дури.
– Охрана, – сказала я в интерком…
Глава 3. Грачи прилетели
Оцепление выставили настолько густое, что оставалось гадать, для чего: то ли от любопытных, то ли ради беспрепятственного перемещения Сарафутдинова. Тот прибыл лично, свитой и транспортом воплощая генеральский авторитет. Генеральские погоны подрагивали, готовые в любую секунду отвалиться, подобно ящерному хвосту, и замениться новыми, еще тяжелее и мягче. Стараниями Вониной вопрос был почти решен. Тяжелая дверь сверкнула, отразила пасмурный снег, и вот Сарафутдинов шагнул из машины в угрюмую зиму, заранее рыча. Фуражка зацепилась, сбилась; налетевшая свита обеспокоенно заплясала. Сверкнуло там и здесь, вдалеке: двор снимали на телефоны. Сарафутдинов наподдал подмерзшее собачье дерьмо, мечтая ощетиниться пулеметами.
О, этот март, проклятая пора! [От издательства: компенсируя нашему анонимному автору-обработчику моральный ущерб и профессиональную вредность, мы предпочли закрыть глаза на стилистический диссонанс и ненужные отступления.] Погосты голы – еще не прилетели грачи. Зима распахивает весенний кафтан, надетый для карнавала, и жизнь леденеет при виде морозных змей. И щеку поджаривает солнце; другую обжигает тень. И снег не валит, не кружится, но суется, разреженный, в солнечном свете, как будто по тугому мешку – летнему и лопающемуся от муки – хватили ледяным костылем. Вползает циклон, сугробы покрываются коркой перечного оттенка, шоссе разлетается жижей, и что бы ни ехало – все тарантас по внутренней сути. Уходит – и снова звезды, неотличимые от снежного проса, соседствуют с медленно желтеющей луной, а солнце, спрятавшееся за бруствером, садится на помидор, и разливается красное. Животные чаяния, вегетативные мечты о весне умерщвляются, препарируются, отливаются в ледовые фишки, щелчками сбиваются с белого поля. Мимозы отражаются в мелких лужах; вода господствует в трех состояниях – жидкая, твердая и повисшая в воздухе, где было рискнула зародиться некая эфирная жизнь. Клыкастый Сарафутдинов крушит сугробы; он носит форму, но зрение зоркого мистика способно приметить абрис обязательной дворницкой лопаты, закинутой на толстое плечо.
Он не обязан был присутствовать лично, однако дело зашевелилось под сукном, взгорбилось, утвердилось на коротких ножках и прорвало материю. Высунулась рожа злобного и счастливого карлика, открытая общественному мнению. Сарафутдинов решил появиться. Чем бы ни кончилось, никто не упрекнет его в бездействии.
Труп не снимали: дожидались начальства.
Черный тополь уже был украшен сдутым воздушным шариком и старым носком, брошенным с нижних небес. То и другое зацепилось еще по случаю веселого лета, и прочно. Их не сорвали никакие шторма. Нижний сук был сломан, и давно. Кто-то на нем веселился. Либо какой-то бугай, по маете хмельной хотевший повертеть «солнце» за неимением турника, либо местная ребятня, игравшая с тарзанкой. Может быть, кончилось травмой. Сук торчал низко, но все равно был выше человеческого роста. Повесить на нем мальчонку лет десяти не удалось бы без предварительной подготовки. Нужна была скамеечка, а то и лестница. Сарафутдинов огляделся в поисках ящика или чего-то подобного.
– Как он достал?
– Разбираемся, товарищ генерал-майор.
Ответ держал приземистый человек с болезненно красным лицом. Казалось, его растерли наждаком, однако при более пристальном рассмотрении становилось ясно, что это внутренний пожар, который просится наружу и превращается в верховой.
Сарафутдинов посмотрел на темные окна.
– Снимайте, – приказал он.
Краснолицый бросился распорядиться. Полусогбенный эксперт с фотокамерой не глядя попятился, освобождая проход. Люди в спецовках принесли компактную раздвижную лестницу. К Сарафутдинову подошел упитанный капитан.
– Он с такой же пришел, – полицейский шмыгнул носом, заклокотал и выстрелил тяжелым плевком. – Лестница. Затоптал, но мы осторожно копнули. Там две дырки в снегу.
– Фуражка надень, – велел Сарафутдинов.
В минуты волнения он временно забывал падежи, склонения и спряжения.
– В машине, товарищ генерал-майор. Виноват.
Не слушая его дальше, Сарафутдинов захрустел черствым снегом. Труп сняли и положили на брезент. Да, пацану лет десять. Дешевая, довольно грязная куртка застегнута на все пуговицы. На молнию, вероятно, тоже. Шапочка-пидорка надета неглубоко и чуть косо, лоб открыт целиком. Лыжные штаны, сбитая обувка.
– Расстегните его.
Служивый шнырь проворно присел на корточки. Точно, есть молния. Медленный, неуступчивый скрежет, как будто по ржавым зубцам. Сарафутдинов шагнул вперед и открыл, что исполнитель расстегнул не только куртку, но как бы сразу всего покойника – под одеждой зияла багровая яма. Внутренностей не было, кровь спустили – не здесь, это делали в каком-то подполье. Мясная пещера, местами шершавая. Слабо пахнуло железом. Лицо розовато-синюшное, но чистое…
– Умыли, – обронил кто-то.
Веки были прочно прихвачены грубыми нитками. По три шва на оба глаза, хвостики на узлах подрезаны. Нитки порыжели, отверстия чуть тронуты кровяной ржавчиной. Сарафутдинов сел на корточки, принюхался.
– Должен был обосраться.
– Так вымыли его, товарищ генерал-майор.
– Личность установили?
– Никак нет. Я дал команду проверить заявления о пропавших…
– Не знаешь, как они у нас регистрируются, да? Почему он такой синий? Снова топили? – Это вопрос он задал подоспевшему эксперту.
Тот кивнул.
– Очень похоже, товарищ генерал. Еще, конечно, не сто процентов… Но цвет лица, отсутствие следов… надо посмотреть конъюнктивы…
Сарафутдинов выпрямился.
– Ищите подвал, – произнес он почти моляще. – Гараж. Цех. Что угодно, где есть ванна или какой резервуар.
– Но может, это квартира… какая ванна в гараже?
– Может, – огрызнулся генерал. – Ты потащишь в квартиру, труп за трупом? Соседи, а? Люди не слепые. Вон, высыпали! – Он дернул головой, указывая на окна, и складчатый загривок скрипнул на холоде.
– Собака след не взяла, – доложил кто-то.
– Не кормить три дня, – приказал Сарафутдинов.
– Слушаюсь. Товарищ генерал-майор, собака не виновата. Перечная смесь.
– Ты тоже не кушай, дорогой.
– Есть не кушать.
Сарафутдинов стоял, не зная, что еще придумать.
– По квартирам пошли? – спросил он наконец.
– Пошли, товарищ генерал-майор. Но вряд ли будет толк. Вешали, конечно, ночью. Люди мало что спали – еще и темно.
Генерал запрокинул голову.
– А вон же фонарь современный болтается. Сенсорный.
– Разбит уже несколько дней.
– Он высоко, как разбили?
– Стреляли из пневматики, спать мешал, светил прямо в окно.
– Выяснить, кто стрелял.
– Уже выяснили, товарищ генерал-майор.
– Тогда бейте, ищите связь.
– Бьем, товарищ генерал…
– Плохо бьете! – заорал Сарафутдинов, сжимая кулаки и наступая на побелевшего коротышку, о котором не знал, не слышал и видел впервые. – Как это он так угадал, а? Слюшай! Ты мне вообще тут? Что мальчишка висел – все сразу ослеп, да?
Овчарка ела генерала глазами. Она улыбалась, она вывалила язык. У нее была удивительно глупая морда.
– Он обычного роста, товарищ генерал-майор, – коротышка сменил тему, решив доложить хоть о чем-то – может, похвалят. – Или она. Судя по следам. Весит как будто много, но он же нес труп.
Сарафутдинов вынул фляжку, свинтил крышку, выпил, утерся. Не говоря ни слова, пошел к машине. Дверца была распахнута, и к нему уже тянулись заботливые руки, готовые принять и усадить.
Генерал остановился, не обращая на них внимания. Повернулся.
– Зачем шьет кожу, а? – крикнул он. – Глаза почему шьет?
Глава 4. Стратегия шапито
Рукопись
Когда явился без перерыва второй, я смекнула, что хозяйствующие субъекты договорились. Очевидно, они собрались в приемной всем кагалом и рисовали мысленные картины хозяйствования. Панорамы и полотнища, не меньше.
Ведомство у нас военное, в секретарях сидит верный капитан. Муха не пролетит. Я его покрестила в первый же день, как он заступил. Призвала, велела запереть дверь. Капитан молоденький, чей-то сынуля. Он вмиг покрылся пятнами, потому что догадался очень быстро. Я повернулась к нему спиной, навалилась на стол и стала ждать, что он сделает. Секретарь, что греха таить, растерялся. Богатство открылось ему. Засуетился, перепугался; не знал, за что взяться – одной рукой платье задирал, а другой уже обратно натягивал и расправлял складки. Ладошка намокла, стала прыгать. Я дала ему еще полминуты, и мальчишечка справился. Ну, конечно, это был не мой генерал. Сарафутдинов не топчет, а пашет; у него даже не поршень, а коленвал или шатун – короче, плуг для десяти борозд за раз. Капитан по сравнению с ним обладал востреньким карандашиком, который сразу во мне потерялся. Я, как сумела, поточила ему. С тех пор у него сделались оловянные очи. Он и раньше не рассуждал, а после нашего щекотного внутрисобоя вообще перестал.
Я могла распорядиться перемочить всю эту скорбную кодлу, и он перемочил бы. Но передумала. Решила расшвырять их сама.
– Кто там еще? – спросила я в интерком, как только выставила Торта. – Пусть заходят по одному.
И зашел директор цирка шапито, нахально назвавшийся: Петр Бомбер.
Я где-то видела афиши, не к ночи будь помянуты, где этот тип красовался в цилиндре и полумаске. Я не сомневалась, что у него псевдоним, но оказалось иначе.
– Приветствую вас, почтеннейшая Павлина Пахомовна!
Этот директор попался наглый, в отличие от библиотекаря. Шагнул ко мне, протянул обе руки. Я холодно взглянула исподлобья.
– У вас пять минут, я очень занята. Присядьте, если хотите, и говорите быстро.
Бомбер сел на край стула. В нем, как и положено циркачу, угадывалась пружина. Я думала, таких уже не делают. Черные волосы напомажены, расчесаны на прямой пробор. Усики, как будто нарисованные углем; алый рот. Мне показалось, что он и глаза подвел.
– Павлина Пахомовна, пощадите цирк. На что он военным? Ребятишкам радость.
Мне начали надоедать ребятишки в качестве козырей и джокеров.
– Цирк военным и вправду не нужен. Его построили для семей военнослужащих. Семьи разослали по гарнизонам. Министерство нуждается не в цирке, а в земле, на которой он стоит. Что у вас рядом?
– Кладбище, – бодро и быстро отозвался Бомбер.
– Именно. Его предстоит расширить под нас.
– Семьи возвращаются?
– Придержите язык. У вас все?
Директор цирка вдруг упал на колени и пополз ко мне, простирая руки.
– Павлина Пахомовна! Пожалуйста, не трогайте нас! Фабричный район, новостройки. Людям некуда деться, наше маленькое шапито – лучик света… Куда, в конце концов, позволите податься лично мне?
Я не стала поднимать его с колен. Этот идиот рассчитывал произвести на меня впечатление скоморошьей раскованностью – может быть, развеселить, но не растрогать, не настолько же он был туп. Совсем наоборот, он действовал по науке. Наверное, книжки прочел, а то и сам догадался звериным умом – ломал, что называется, мне шаблон. Мешать ему было незачем, пусть сломается у него.
– Вы кто по специальности будете? – спросила я дружески. – Коверный? То-то я смотрю…