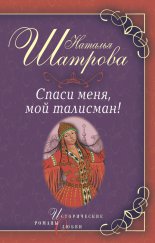Кесарево свечение Аксенов Василий

Интересно, что в течение всего ужина никто из семьи не задал мне ни единого вопроса о моей жизни в отдаленной стране. В постсоветское время странное равнодушие к Америке стало распространяться среди москвичей. Публика почему-то полагала, что она знает о Штатах все. Тот факт, что человек живет в Америке, как бы говорил сам за себя. Фактически единственный личный вопрос был задан Любкой, когда она возилась с моим подбитым глазом: «Больно, Стас?» Заботливые ее руки – время нанесло им урон больше, чем другим частям тела, – превратили мой фонарь в размазанное сине-оранжевое украшение сродни цветовым пятнам Кандинского. И все же это было незабываемо – ее пальцы вокруг моего глаза.
Русская выпивка без философии считается пустой тратой времени. И наша не была исключением. Мы истощили уже все запасы доброго юмора, легкого сарказма и легкомысленных воспоминаний. Несмотря на ароматную водку и благодаря огромному количеству еды, мы становились все трезвее и сумрачней; что называется, обкушались. Теперь мы поглядывали друг на друга как бы в предвкушении того, что называется «серьезным разговором». Ребро болело, и философия становилась неизбежной.
«Что же, Игорь? Что же ты все-таки думаешь обо всем этом анекдоте?»
«Каком анекдоте?»
«Об империи, которая собиралась существовать вечно, но не дотянула и до семидесяти пяти лет, перед тем как развалиться на куски?»
«Эта штука не дотягивает до анекдота – это история, а об истории и говорить нечего».
«Иными словами, нет никакого смысла в подсчете невинных жертв и невинных злодеев – так, что ли?»
«Есть только слепая удача и не менее слепая беда – вот что такое история. Как у вас в Америке говорят, right time and right place, wrong time and wrong place.[27] А фактически хаотические завихрения на пути к окончательной инвентаризации».
«И стало быть, стоя вокруг бильярдного стола, ваш клуб будет ждать ангела с Благой Вестью: Жизнь Есть Форма Существования Белковых Тел; так, что ли?»
«Верная догадка, мой милый Стас Ваксино, властитель дум нашего поколения».
Провожая меня, Любка Незабываемая жарко прошептала прямо мне в ухо, которое тоже слегка ныло из солидарности с ребром и глазом: «Не знаю насчет дум нашего поколения, но некоторые старые девушки до сих пор тебя помнят, мой Стас Ваксино». Славка подвез меня до дома в своем «Ягуаре», чей задок слегка провисал, как у стареющей, хотя все еще в активном бизнесе, бляди.
– Не беспокойся, Стас, через неделю я обменяю его на почти новый «Порше», – сказал он мне по-мальчишески.
– Я не беспокоюсь, – не очень-то хорошо ответил я.
Когда-то я любил его, как своего собственного сына. Когда-то он приезжал ко мне из Ленинграда и немедленно интересовался последней доставкой нелегальной литературы из-за бугра. «Питер нуждается в литературе! – восклицал он с глазами, полными пылающих убеждений. – Нам нужна настоящая литература по любому предмету: искусство, философия, религиозная мысль, права человека!» Он полагал себя революционером, подпольным связным. Встретив его сегодня, я был смущен и пристыжен оттого, что я так мало думал о нем там, в Америке. Сказать по правде, у него не было специального сегмента в моей памяти. «Ублюдок, – подумал я о себе, – ты больше думаешь о персонажах своих книг, чем о реальной близкой душе».
В машине он мне говорит: «Ты знаешь, что моя мать была в тебя влюблена всю жизнь? Она и сейчас в тебя влюблена».
Я смотрю на его профиль молодого самоуверенного парня с мальчишеским крюкатом по новой моде. Он бросает на меня взгляд и усмехается. Классный малый! Я спрашиваю его, что с ним произошло за время моего отсутствия. Откуда этот шрам на подбородке?
«Это тюрьма», – отвечает он.
Поразительно! Оказывается, он умудрился отсидеть три года в тюрьме как один из самых последних советских «узников совести». Глава гореликовского клана донес на него в КГБ. Нет, конечно, не мой старый кореш Игорь, а настоящий глава клана – Славкин дед Николай (бывший Натан) Горелик, коммунист с дореволюционным стажем, классик соцреализма по живописи, трижды сталинский лауреат, ну и так далее.
Когда Славкины родители переехали в Москву, юнец решил остаться с дедом на набережной Крузенштерна. Они любили друг друга. Дед не принимал Славку всерьез с его «завиральными идеями», а Славка не принимал «ископаемое» всерьез с его соцреализмом. Так было до одной ночи в 1988-м, когда после какого-то спора дед вдруг понял, что вырастил «настоящего белогвардейца». Впав в невменяемое состояние, он стал названивать на Литейный и в результате спровадил внучонка в чекистское узилище. Только августовская революция 91-го освободила этого Мстислава, но он и не помышлял мстить.
«Поверишь ли, Стас, – он говорит, – каждое утро я просыпаюсь с острым ощущением счастья. Я так счастлив, что это все кончилось! Что именно? Вся эта история, которая не дотягивает до анекдота, как говорит мой смешной папа. Вся эта чудовищная империя и наша неуклюжая борьба за права, весь этот придурковатый дедушкин диамат и папочкин цинический романтизм. Я просто счастлив оттого, что весь этот постбайроновский, постсартровский, постбахтинский постмодернизм, включая, прости, и твои сочинения, это российское блядское «лишнелюдие», – закончилось!»
«А что ты собираешься делать, Славка?» – спрашиваю я.
«Деньги!» – он говорит.
«Да, между прочим, – он говорит, – ты не можешь дать мне сотню грэндов на пару недель?»
«Сто тысяч?»
«Ну да, сто тысяч баксов».
«Боюсь, ты меня за кого-то другого принимаешь, Славка. Я ведь просто колледжский учитель в Штатах».
«Ну, сколько ты мне можешь максимум дать на пару недель?»
Я делаю мгновенный расчет в уме и решительно перечеркиваю столь желанные кипрские вакации.
«Не больше чем три».
«И это пойдет, – говорит он с улыбкой. – Хотя бы на три дня отмажутся. Верну тебе три через неделю, щедрый дядюшка Стас. А через год выплачу тебе тысячу процентов интереса».
«Ты сумасшедший, мой мальчик», – вздыхаю я.
Мы приближаемся к моему дому. Со своей главной башней, башенками и монументальными скульптурами чудовищный чертог закрывает восточную часть московского небосклона.
«На что тебе этот денежный бизнес, Славка?» – Я выговариваю этот вопрос с трудом, но и со жгучим интересом.
Небрежно, но и не без меланхолии он выговаривает ответ: «Не кажется ли тебе, что я тоже имею право на свою личную утопию?»
Вопрос на вопрос, в ответе зеро.
«Похоже, что вы все тут слегка поехали», – вздыхаю я.
Он смеется: «Я тебе далеко не все еще сказал, Стас Ваксино». И тоже вздыхает.
С чрезвычайной осторожностью я задаю последний вопрос: «Скажи, ты путешествовал когда-нибудь вдоль Каспо-Балтийской Стрёмы?»
Он смеется: «А что тебе?»
«Да так, просто хочу отдохнуть на каком-нибудь теплоходе. Ну, скажем, на «Михаиле Шолохове».
Тем временем товарищ Кашамов Апломб Хардибабедович, только что выписанный из Склифосовского, ковылял по ночному Садовому кольцу и думал свою постоянную тяжелую думу. «Почему я являюсь водителем троллейбуса? Чего здесь больше, Судьбы или Произвола? Как мы пели в нашем пионерском детстве? «Мы родились, чтоб сказку сделать былью». Давайте начнем от печки. Я, Кашамов Апломб Хардибабедович, сорока трех лет, родился в семье Хардибабеда, потомственного московского дворника, по происхождению хуразита с отдаленных Кукушкиных островов, почему же я-то не стал потомственным дворником? Кто мне ответит на этот вопрос? Ты, Мать-Природа? Это ты, наша великая материалистическая Природа, решила мою судьбу в качестве водителя троллейбуса? Кто ты, великая богиня материализма, в твоем каменном с тяжелыми складками одеянии, – сестра ты или мать Богини Судьбы? А может, ты дщерь ея, мадам? Кто отвечает за предназначения водителей троллейбуса, за их путевки? Впрочем, пошла бы она подальше, эта армия послушных инструкциям гуманоидов! Меня интересует только один, мой частный водитель троллейбуса, Апломб де Кашам, сын Хардибабеда. Он что, результат твоей химической активности, Мать-Природа, прародительница Богини Судьбы?
Кто там еще сидит в твоем еврейском Синедрионе, кто занимается путевками водителей троллейбусов? Почему ты не родила меня тысячу лет назад, чтобы сделать водителем наций? Тамерланом, что ли? Почему ты не родила меня триллион лет назад в виде грязевого ядра кометы? Почему ты вообще-то не сделала этого данного Хардибабедовича водителем спецназовского броневика для своего вечного Синедриона – не важно, еврейского или антиеврейского? Почему ты лишила меня закрытых рационов, пакетов нала? Почему ты швырнула меня на похабные трассы Москвы? Почему ты привязала меня к этому гребаному 116-му, с его неизбежными, как будто навеки предназначенными остановками? Почему ты избрала своей представительницей отвратную Софку Блинкину из троллейбусного депо Пролетарского района, эту слезливую лебедиху подозрительного происхождения, которая каждое утро выписывает мне путевку и смотрит на меня с такой отвратной симпатией, как будто она мне навеки предназначена, эта пизда, конгломерат гинекологии, как будто она какой-нибудь еврейский ангелочек из музея?
Нет у меня никакой ненависти к евреям в моем сердце. У меня просто хороший нюх на них. Я просто по нюху чую жида в любой национальности. Они просто стараются набиться в мой 116-й, как их вонючие селедки, словно не знают, что я предпочитаю ездить в одиночестве. Они предпочитают не знать, что для меня троллейбус – это просто мое собственное расширенное тело. Даже если оно вдруг от них освобождается, обязательно какой-нибудь хмырь в последний момент запрыгивает внутрь вместе со своими суетливыми идейками декадентского воображения. Так что чего вы меня спрашиваете, доктора, что спровоцировало мое «неадекватное поведение»? Если уж Мать-Природа вслепую сотворила меня водителем троллейбуса, пусть она и отвечает за последствия. Мэа не кульпа![28]»
Продумав свою основную мысль до ее привычного завершения, Кашамов сел на асфальт возле дома Министерства путей сообщения и там сидел без всяких мыслей и без движения всю ночь, пока Москва не взревела на Кольце тысячами своих движков.
Три года прошло с того дня в начале девяностых. Я снова приехал в Москву из Америки. За это время город приобрел глянец процветающей столицы. Серп и молот на крыше электростанции уступили место короне «Карлсберга» вроде бы окончательно. Монументальные скульптуры рабочих и крестьян, впрочем, уцелели, что и понятно: памятники социализма, «старые песни о главном».
Недавно я узнал от Славки, который за это время стал довольно частым гостем у меня в окрестностях университета Пинкертон, что его родители в Москве больше не живут. У них произошли, как сейчас стали говорить, достаточно кардинальные изменения. Оказалось, что Любка Незабываемая втайне от мужа приняла участие в лотерее американского посольства и выиграла «джекпот»: документы на право проживания в США, ну эти пресловутые «зеленые карты», для себя и для членов семьи. Подхватив своего Игорька со всем его цэковским прошлым, предприимчивая фемина тут же переехала в Нью-Джерси, где они и поселились под крылышком широко известной среди эмигрантов Восьмой программы. Читателю придется дочитать до конца этот рассказ, чтобы узнать, что с ними произошло в стране больших возможностей.
Что касается их сына, то он сдержал свое слово. Не успел назначенный им срок истечь, как он привез мне тяжелый пакет с процентами – 3 000 000 долларов как одна копеечка. «Гони расписку, Стас, и наслаждайся «лимонами», – сказал он запросто. Таким образом я присоединился к американскому среднему классу мини-миллионеров. Я действительно наслаждался этими «лимонами». Достаточно сказать, что теперь мое сердце перестало ёкать в те моменты, когда я открывал конверты со счетами и письма своего литературного агента. Сказать по правде, я потерял рвение к литературным делам и не без удовольствия окончательно выпал из литературного процесса.
Случайно я наткнулся на большой заброшенный мотель на одном из флоридских островов под названием Большие Сосны. Я вложил один из моих трех «лимонов» в восстановление этого заведения. И дело с тех пор пошло неплохо. Нынче я приехал в Москву уже как капиталист для изучения деловых возможностей.
Иду по набережной Москвы-реки. Среди ее обычного густого движения вижу желтую крышу троллейбуса. Это что-то мне напоминает, но не могу припомнить, что именно. Тролл останавливается, я вижу номер 116, однако не могу пока что связать концы рассказа. Да и вообще, какое дело американскому преуспевающему бизнесмену до каких-то литературных потуг. Все-таки по еще неясному побуждению влезаю в 116-й и наконец, увидев «львиную маску» в зеркале заднего вида, немедленно вспоминаю свою дикую поездку три года назад, как будто это было вчера. Даже имя того ублюдочного персонажа начинает высвечиваться из забвения. Шаман? Мамаш? Кашам? Кашамов! Неужели это опять он? Неужели я снова оказался клиентом того психопатического водителя? Тут я вижу снова его угрожающие гримасы, и все сомнения испаряются.
К счастью, я сейчас не один в 116-м. Не менее дюжины досужих пассажиров с удовольствием взирают на дух захватывающий вид Кремля с его летящими трехцветниками. В этой дюжине я вижу и американское семейство. Мама держит все вожжи в своих руках.
«Майк, Кевин, Чэйстити, следующая остановка наша!»
А вот еще один знакомый тип: престарелый советский еврей, по всей вероятности посещающий край своей юности после долгой эмиграции.
«Товарищ, – обращается он к водителю, – следующая – Зарядье, это есть правильно?» Он явно горд своим знакомством с Москвою.
Кашамов отвечает через микрофон: «Если знаешь, чего же ты спрашиваешь, старая жопа?» Публика переглядывается.
Он не останавливается в Зарядье. Он останавливается только в темноте под Большим Москворецким мостом. Там он открывает все двери и командует: «А ну, все выметайтесь, поросята!»
Американское семейство пожимает плечами: «Как-то он странно относится к своим пассажирам, не правда ли?»
Старый эмигрант восклицает с неудержимой страстью: «Это возможно только в хамской стране! Это импоссибл в другой стране! Каков народ, таков и шофер троллейбуса!»
Другие пассажиры, включая и меня, начинают выгружаться без лишних слов. Нервы дороже. Уже снаружи я вижу, как Кашамов и старый эмигрант обмениваются любезностями и жестами. В конце концов первый одолевает второго и вышибает того из троллейбуса. В буквальном смысле, к сожалению. Ногой.
Избавившись от «балласта» (так он про себя называл пассажиров), Кашамов, ловко перетягивая старую веревку, привязанную к контактным щупальцам его т.с., сменил одну электрическую линию на другую. Затем он проделал правый поворот и проследовал вверх в сторону Василия Блаженного. Еще один правый поворот, и он начал пересечение реки по Большому Москворецкому мосту.
Двери его тролла все еще были открыты, и пассажиры другой линии стали запрыгивать к нему на ходу. На горбу моста 116-й свернул налево, пересек все полосы, проломил перила и исчез из вида. Звуковой эффект ужасного всплеска был сравним, пожалуй, только с историческим выстрелом Царь-пушки, от которого сотни язычников, как гласит легенда, потеряли сознание.
Второй хор свидетелей и зевак
КОРИФЕЙ: Правда ли, что Кашамов направляется в Валгаллу?
ХОР: Это правда, это правда! Он пришел к нам из Валгаллы и теперь возвращается к подножию трона Одина!
КОРИФЕЙ: Правда ли, что он был грубоват со своими пассажирами?
ХОР: Он был не особенно вежлив с ними. Но он знал что-то, чего не знаем мы.
Граждане, граждане, что с вами, народ?! Такие Кашамы опасны для нас! Жаль, что народ его вовремя не казнил! Жаль, что он сам вовремя не казнил все знают кого! Вы не забыли про острый мачете его, подаренный Кастро?
- Он алкоголик, венерик и псих!
- Он патриот, его имя, как стих!
- Он не из такого, как мы все, теста,
- Он отдал жизнь свою в знак протеста!
КОРИФЕЙ: Да разве ж он не был простым вожаком городского рыдвана – ответьте мне, братья, и вы, благородные сестры!
ХОР: Он был мстителем этих многострадальных пещер обитанья, держателем наших жестоких и мудрых традиций!
КОРИФЕЙ: Значит, он движется нынче к Валгалле, не так ли?
ХОР: Стая валькирий несет его к сонму героев!
Прогалопировала еще тройка годиков. Сеть «заброшенных отелей» разрасталась в Америке. Никто, конечно, не подозревал, что мое богатство изначально возникло в результате действий скандально известного Славки Горелика по отмыванию денег. В узком кругу литераторов и утонченных читателей, в котором я был известен, полагали, что я скопил капитал, откладывая потиражные. Впрочем, репутация в литературных кругах меня больше не интересовала.
О Славке между тем чего только не рассказывали. Говорили, что он с ума сошел от любви к какой-то питерской гулящей девчонке. Что рассыпает миллионы, чтобы отыскать ее по мировым притонам. То ли он убил кого-то на этой почве, то ли его самого несколько раз застрелили. То ли он продал российский ультракрейсер Китаю, то ли этот крейсер сбежал из Китая и ищет его, чтобы выяснить отношения. Появляясь у меня в Вирджинии, он начинал за столом рассуждать о необходимости очищения воздушной среды от последствий безудержного злостного пердежа, вкладывая в это как метафизические, так и сугубо реальные смыслы. Сестры, живущие в моем доме, хихикали: «Ох уж эти новоруссы!»
Что касается его родителей, то ты, Игорь, отказался от своего сына за то, что тот «стал воплощать в себе все худшее, что может быть в капитализме». Не исключено, впрочем, что это он отказался от тебя в связи с твоей фундаментальной идеей. Так или иначе, старшие Горелики устроились неплохо в старом Новом мире. Ты, Игорь, стал почтенным бильярдным маркером в эксклюзивном клубе за плотными шторами на Кони-Айленд авеню. Жена твоя Любка открыла агентство по продаже недвижимости под вывеской The Unforgettable Reality.[29]
Господь да не оставит вас, ребята! Повернувшись спиной к истории СССР, вы все-таки умудрились сделать вполне приличную американскую «историю успеха».
Однажды вечером в конце июня я снова прибыл в Москву. Целью приезда было открытие моего первого русского мотеля под названием «Заброшенное пристанище». Я оставил дома багаж и пошел прогуляться среди знакомых пейзажей, что все еще были дороги мне как бывшему русскому писателю и патриоту.
Рискуя показаться банальным, все-таки должен признаться: я люблю Красную площадь, этот центр величия в сумбурной столице. Здесь рядом с Лобным местом и Мавзолеем Ленина после какого-нибудь кислотного дождя иногда проступают следы сталинских железобетонных сапог. Конечно, есть что-то зловещее в этих объектах национального достояния, но скажите, сердце какого русского не испытывало привязанности к этим булыжникам, а мистер Стас Ваксино, хоть и не вполне завершенный образец русскости, не является исключением.
Стараясь припомнить, что произошло в этом околокремлевском пространстве три года назад, я подошел к Большому Москворецкому мосту. На его горбу я увидел толпу, не менее сотни мужчин и женщин, стоящую в церемониальном бдении; иные со свечками в руках. Я подошел и обратился к ним дипломатически: «Могу ли я узнать, дамы и господа, что заставило вас собраться в месте, столь малоподобающем для общественных акций?»
Удивленные лица повернулись ко мне.
«Как так? Неужели вы забыли? Мы отмечаем тридцатую годовщину трагического подвига Апломба Хардибабедовича Кашамова!»
Я тут же припомнил гигантский всплеск от троллейбуса, ведомого бунтующей рукою.
«Я видел это моими собственными глазами, – сказал я не без гордости. – Однако простите меня, почтенные граждане, ведь это случилось не тридцать, а три года назад – не так ли?»
Участники бдения нахмурились.
«Послушайте, иностранец, не смейте бросать тень сомнения на наши ритуалы. Пора сомнений миновала. Понимаете?»
Я замечаю, что некоторые в толпе покашливают, как бы прочищая свои глотки, другие же испускают слегка приглушенные рулады. Ба, да ведь это не что иное, как хор! Третье появление хора в этой истории, для точности. Я бормочу, не адресуясь ни к кому из них лично: «Насколько я помню, там были люди, что вскакивали в тролл на ходу. Интересно, кто-нибудь уцелел?»
И хор взмывает.
ХОР (волнуясь, как море): Да что же считать нам отдельные жертвы? Ведь речь же идет об Апломбе Великом, что отдал живот за народ и остался бессмертным!
КОРИФЕЙ: Вниманье, вниманье, вниманье, товарищи, граждане, дамы! Сегодня он явится миру, сегодня иль никогда!
Хор вперился в металлическую рябь реки. Через несколько минут дымный свет появился под поверхностью. Он медленно приближался, таща за собой шлейф ила, несомненно содержащий множество секретов этой столицы. Застывший хор благоговейно взирал, как пятно превращалось в 116-й с водителем Кашамовым за рулем. Честно говоря, я не узнал бы парня, если бы встретил его на улице. Он, казалось, был сделан из цельного куска мыла. Двигаясь по реке, он не обращал никакого внимания на толпу поклонников на мосту в той же манере, в какой Великий Ленин не обращает внимания на неистощимый поток посетителей Мавзолея.
КОРИФЕЙ: Братство мое и сестричество! Верные дети Апломба Кашама! Славу сейчас пропоем в честь великого духа Реки!
ХОР:
- Сквозь грозы сияло нам солнце свободы!
- Плывет 116-й гордый ковчег!
- Сквозь чистые воды, сквозь мутные воды
- Веди нас, величественный человек!
Троллейбус исчезает под мостом и вновь выплывает из-под моста на другой стороне. Он уходит все дальше, постепенно превращаясь в пятно света, в желтую песчинку, в ничто.
декабрь 98-го – июнь 99-гоАвторский перевод с английского
Под оранжевой лампой
Чтение завершилось. Я собирал страницы и постукивал рассказом по столу, выравнивая края. Общество сидело под плоским абажуром и неплохо отражалось в темном окне. Все там казались значительно моложе: Мирка, Галка, Галкин друг – отставной адмирал Лихи, Вавка, соседи Мак-Маевские, ну и автор. Должен был быть еще и Славка Горелик, но он, по своему обыкновению, не явился. Густо-оранжевый блин в темном стекле придавал лицам оттенок хорошего загара, а сумерки ретушировали припухлости и морщины. Странным образом отражение устраняло и аляповатость только что завершившегося акта. В окне выявлялась какая-то иная суть нашего собрания, рассеивающая его анекдотичность, словно это было не собрание, а живопись собрания, картина под названием «Чтение рукописи за семейным столом», а не само чтение, к которому меня, собственно говоря, принудили сестры О.
В далекие 60-е годы традиция домашних чтений еще держалась в литературе. Время от времени кто-нибудь устраивал подобные суаре с последующей выпивкой. Среди еле прикрытой истерии тех времен возникали такие умиротворяющие сцены. Расхристанная богема казалась сама себе кружком серьезных молодых писателей, людей словесности. Автор читает, скажем, пьесу. Входит в раж, прочитанные листы отбрасывает в сторону движением, что сделало бы честь и театру Комиссаржевской. Все сохраняют серьезность, хоть и чувствуют себя немного обосранными. Что же это такое, да почему же мы не можем по-настоящему-то, как символисты? Какой бес подмывает сказать что-нибудь издевательское?
Чтение заканчивается. «Ленок!» – скажем, командует автор, и его жена, скажем, Елена, вчерашняя «классная чувиха», а ныне, после прочтения опуса, «подруга дней его суровых», вкатывает столик с напитками. «Пьем за тебя, солнечный ты наш пуп!» – говорит из нас самый алкоголистый. Начинается хвалебная вакханалия. Любая негативка в таких обстоятельствах кажется неуместной, пока вдруг не происходит пьяный поворот, опрокидывающий всю лодку. «Жопа, у тебя тут есть жестяной таз?» – спрашивает кто-нибудь у автора. «Да зачем тебе жестяной таз?» – удивляется лауреат хвальбы. «Чтоб в него твою пьесу сбросить!» И начинается хамский хохот.
Не хочется вспоминать дальнейшее позорище и стыдливый перезвон на следующее утро. Все чувствуют себя перемазанными, и все-таки через некоторое время тот же кружок с небольшими вариациями вновь собирается на домашнее чтение, и все собравшиеся понимают, что «в этом что-то есть», как-никак продолжение традиции. Так ведь и Булгаков читал Михаил Афанасьевич главы из «М&М» крошечному кружку ближайших, и ведь никто не настучал – это в тридцатые-то годы! – и рукопись уцелела вживе! Правда, там так не пили.
С распространением свободы и всеобщего сарказма домашние чтения стали отмирать, и я, признаться, об этом не жалел. С возрастом мне все меньше стала нравиться бутафорская сторона дела, да и вообще литературственность жизни как-то потускнела по обе стороны океана. Вдруг сестры О стали меня активно убеждать в необходимости чтений. Стас, как ты не понимаешь, сидя в эмиграции, ты просто обязан, ну, глаголом-то, ну, жечь-то избытки холестерина у окружающих. Ведь здесь-то ты читаешь не братьям-писателям, значит, и притворяться не надо. В общем, я стал, как зануда Тригорин, объявлять домочадцам: «Закончил рассказ», и сестры тут же начинали планировать чтение. У этих вечно подшучивающих и мило подхихикивающих дам сохранился – и даже, боюсь сказать, увеличился – пиетет в отношении литтекста. Во время чтения все их хохмочки вылетали наружу и резвились до поры с нашими птахами.
В последнее время они стали приглашать под оранжевую лампу чету Мак-Маевских, поляков, у которых за плечами была советская одиссея эвакуации, ссылок, а стало быть, и любви к русскому слову, а также Галкиного бойфренда, отставного адмирала Джефа Лихи из военно-морской разведки США, который мог в любой момент, когда бы его ни разбудили, прочесть наизусть какой-нибудь рассказ Зощенко в оригинале. Славка Горелик, что уже три месяца жил у нас на чердаке, не приглашался, но подразумевался среди присутствующих. Иногда он и впрямь подсаживался, закладывал ногу на ногу, качал итальянской туфлей и переводил взгляд с одного лица на другое, как будто пытался определить причины недуга. Чтения явно не слушал. То и дело в кармане у него начинала звонить «сотка». Тогда он извинялся и поднимался к себе. Чаще всего к столу не возвращался.
Интересно, что он и прибыл к нам во время одного из таких чтений. Приехал без звонка на скромном наемном автомобильчике. Увидев восседавших вокруг стола любителей литературы, еле заметно поморщился, но тут же продемонстрировал великолепные манеры: сел с краю, выпил стакан вина, съел тарелку салата и заснул, положив голову на руки.
Сестры были явно раздражены его появлением. Вавка уверяла, что уже видела его раньше в «Белом таракане» на Петровских линиях. Он там оттягивался в далеко не безупречной компании. Что у тебя общего с этим молодчиком, Стас? Немало общего, я сказал, может быть, больше, чем я думаю, но не стал вдаваться в подробности.
Оказалось, что он чуть ли не сутки летел в Вирджинию на перекладных и заснул на чтении из-за джетлега, а вовсе не из хамства. Слушай, Стас, мне нужно у тебя отсидеться несколько месяцев, может быть, полгода. Не можешь ли ты меня устроить на какую-нибудь должность в университете? На какую угодно, хоть дворником. Могу быть тренером по карате, у меня «черный пояс». Был бы в восторге послужить в университетской полиции. Освобожденный советский человек не видит преград. Он думает, что его только и ждут в университетской полиции. Воображаю этого Славку, с его развинченной походкой, среди наших кряжистых центурионов. Нахальство, однако, города берет. Должность, хоть и не в полиции, он получил. Я устроил его в свой класс в качестве teaching assistant, даже назначил ему жалованье из своего дискретного фонда – 8 долларов 50 центов за час работы.
Он рьяно взялся за дело. Проверял списки студентов и собирал их мид-терм работы, показывал слайды на проекторе, разыскивал тексты в библиотеке и через нарождающийся тогда Интернет – словом, был полезен. Студенты поначалу были в замешательстве. «Помощник преподавателя» обычно принадлежит к малоимущим классам. Чаще всего это какая-нибудь не очень видная девушка в неизменных застиранных джинсиках и убогом свитерке. Данный «помощник преподавателя» напоминал персонаж из рекламных листов New York Times Magazine. Только близорукий не распознал бы в его псевдообычных костюмах коллекционных «Брухахарди» и «Алахверди». Иной раз из-под манжеты молодого человека мелькали часы «Корбюзье», стоимость которых, пожалуй, даже и не уложилась бы в студенческой голове. Самая главная загадка, однако, заключалась в природных данных «помощника преподавателя»: разворот его плеч находился в полной гармонии с длиной ног и окружностью талии, кожа отличалась оранжевым оттенком, шрам на подбородке привносил в его облик какой-то неясный интригующий сигнал; что касается длинноватой физиономии, нужно заглянуть в первую главу, чтобы понять, почему она приводила в трепет арабских и испанских девушек.
Впрочем, студенты скоро привыкли к новому человеку. В перерывах он покуривал вместе с ними, щеголял своим странноватым английским и даже иногда показывал приемы любимого единоборства. Имя Слава не представляло для студентов никакой трудности, а вскоре они придумали ему и кличку: Ростропович. В общем, они решили, что этот парень cool.[30]
Что касается сестер О, они не очень-то восторгались новым постояльцем. Вавка, та даже слегка кривилась в его присутствии. Мопсячья мордочка, казалось, даже готова была тявкнуть. Галка при нем обычно демонстрировала усталость. А вот Мирка, напротив, вступала с ним в оживленную беседу, в которой расставляла множество вопросительных знаков. Ей, очевидно, хотелось, чтобы парень когда-нибудь о чем-нибудь проговорился.
Впрочем, и они скоро смягчились. Из шикарного ресторана Chez Kussake каждый вечер нам стали привозить обеды с вином. Оказалось, что нам не нужно беспокоиться о счетах: все было оплачено вперед. Ну, признавайтесь, Мстислав Игоревич, это ваши проделки, подступили сестры к гостю. Помилосердствуйте, сестрицы, отнекивался тот, разве может бедный помощник преподавателя себе позволить такие траты?
Он быстро принял их манеру разговора, и вскоре начальное недружелюбие совсем рассеялось. Воцарилось даже некоторое подобие флирта. Как часто это бывает, с появлением в коллективе молодого парня женщины начинают быстрее ходить, громче разговаривать, поблескивать зрачками, матово отсвечивать белками глаз. Я заметил, что сестры стали иногда прикасаться к Славке, и, если одна на мгновение брала его за ухо, другая норовила пропустить свои пальцы сквозь его шевелюру. Славка хохотал и читал из Северянина:
- В группе девушек нервных
- В остром обществе дамском
- Я трагедию жизни
- Претворю в грёзо-фарс!
Не знаю, пошли ли их отношения дальше флирта, но исключить какого-нибудь сексуального баловства не могу. Впрочем, эта тема совсем сейчас не вписывается в текст, ее упоминание – лишь дань реализму.
Так или иначе, в доме возникла забавная молодая атмосфера. Где-то в глубинах то и дело слышался смех, а то и взрывы хохота, проходила какая-то специфическая, будто бы танцевальная, волна воздуха. Одно лишь постоянно раздражало сестер – Славкино неприятие домашних чтений. Пардон-пардон, обычно он говорил, это не по моей части, и старался смыться до начала. Если же сестрам удавалось его затащить под оранжевую лампу, он сидел с наигранно дурацким видом и никогда не дотягивал до конца. В кармане штанов у него начинал звонить телефон, который он называл «друг гениталий», и он немедленно удалялся с аппаратом у уха, словно отоларингологический пациент.
Кстати, об этом телефоне. Похоже, что это была не простая штучка из тех, что можно купить в любой лавке за полсотни баксов. Навороченная, как они сейчас говорят, с сателлитной связью. Славка, кажется, мог по ней говорить с любой точкой на земном шаре. Во всяком случае, иногда, проходя мимо, я улавливал, что он шепелявит что-то по-португальски или хрипит на иврите, мяукает по-японски, похохатывает на сербско-хорватском. Еще в детстве этот тип отличался несколько даже странными талантами в лингвистике, сейчас они ему явно пригодились. Что касается литературы, когда-то в юности он пылал к ней неудержимой страстью, но сейчас она ему на фиг не нужна, во всяком случае, ей нет места в его повестке дня.
Неужели авантюрная жилка затянула его попросту в криминал? Чем он занимается? Что означает его смехотворная работа в классе по утопическим конфликтам? Почему он отсиживается тут у нас, в тихой заводи университетского кампуса? Как и я, он лев по зодиаку; может быть, лев обжег подушки своих лап во время охоты в саванне и прыгнул в кусты?
Почтенный читатель не даст соврать: даже на револьверный выстрел я никогда не подходил к авантюрному жанру. С годами вообще все больше хочется отойти от выдуманных сюжетов. Вот, говорят, в Нью-Гемпшире есть русское село, где живут потомки нашей аристократии. Почему бы не поехать в Нью-Гемпшир и не собрать там материал для пьесы в духе «Горя от ума»? Или вот, скажем, еще проект: почти документальная повесть о молодом Пикассо. 1900 год. Юнец, прилежно освоивший рисунок и масло, переезжает из Барселоны в Париж. Там он видит нечто потрясшее его воображение: толпа сластолюбцев под фонариками танцует аргентинское танго, не снимая черных цилиндров, пшюты пропихивают шевиотовую коленку в голубые и красные шелка. Головокружительные бляди Монмартра и Больших Бульваров, Лулу, Нана, Стрекозет, ошеломляют каталонца, то есть водружают ему шелом авангарда на крутую башку. Взрыв его гения. Увертюра XX века.
Обложиться альбомами и писать прозу о каждой картине той поры. Вместо этого я вознамерился завершить «миллениум» романом об авантюристе Горелике. О русском, которого, метафорически говоря, кесаревым сечением извлекли из засыхающего чрева родины. Что он намерен сотворить сейчас, когда все утопии порушены?
Этот герой, хоть и прячется сейчас у меня, все время от автора удирает. Куда? В его поколении силен пафос антишестидесятничества, священная для нас корова литературы этим ребятам обрыдла. Все эти книжечки, писателишки, борьба за свободу самовыражения – смешной вздор. Нечего подсовывать нам вместо нашей собственной жизни чей-то чужой набор слов! Вы говорите: а как насчет старого Стаса Ваксино с его общепризнанным свингом? Пусть он на этом своем свинге сам и поскачет. В ответ на это старый сочинитель распахивает двери: скатертью дорога, нечего лезть в герои, в свободном романе участвуют только добровольцы.
И все-таки о чем этот Горелик бубнит через космос на всех тарабарщинах мира? Где он пропадает в незнакомом городе, полном шпионов? Что он задумал?
Вдруг до меня дошло: хорошо, что Славки не было на чтении этого блюза. Ведь я даже не удосужился придумать другие имена его семье и ему самому. Я совсем запутался между реальностью и литреальностью, хронотопом мира и хронотопом сочинения. Взять хотя бы первую часть рукописи: откуда влилась в нее Каспо-Балтийская Стрёма? Почему и там появился некий молодой тип хоть и без фамилии еще, но под именем Мстислав? Как зародилось это литературное детище? Ну вот и слово появилось подходящее – детище!
«Жалко, что ты так монотонно читаешь, Стас», – проговорила Вавка.
«Монотонно?! – возмущенно вскричало добрейшее паньство Мак-Маевских. – Нет, Вавка, ты не права! Стас читает великолепно!»
«Все довольно осязаемо», – сказала Галка и щелкнула резинкой от трусов.
«А какая, между прочим, связь между Апломбом Хардибабедовичем и Гореликами?» – поинтересовалась Мирка.
«Черт его знает, – сказал я. – Дело в том, что как раз по дороге к ним я попал в тролл с бесноватым водителем».
«There are a plenty of symbols, – прищурился адмирал Лихи. – Symbols of the Soviet Empire’s decay and break-up. Am I right, Stas?»[31]
Я согласился с ним, а Вавке буркнул: «Я вам не чтец-декламатор».
«Там есть очень странные намеки. – Проницательная Мирка посмотрела на меня из-под челки. – Хорошо, что Славки сегодня не было».
«О боже!» – выдохнула Вавка.
Все заговорили сразу, и в это мгновение нас всех накрыл Прозрачный, на этот раз в роли медузы-парашюта. Своими внутренностями, то есть множеством переливающихся непознаваемых форм, он смотрел на нас, и мы изнутри смотрели на него и на себя у него внутри. Это продолжалось не более мгновения, или менее мгновения, или вовсе не продолжалось. Все вздрогнули, и Прозрачный тут же, переваливаясь, ушел, как уходит в песке черепаха, но мгновенно. На паркете от него осталось только пятнышко прозрачности, но и оно тут же исчезло.
Обсуждение закончилось. Весьма довольные, сестры сервировали блины с красной икрой. Адмирал взял на себя выхлоп пробок. Онегин, который всегда присутствовал на этих сборищах, из-под стола перепрыгнул на его поверхность и теперь угощался длинными полосками блина с икринками; их нарезала для него Галка. Славка так и не появился на протяжении этого веселого ужина.
Fax for M.F
Когда гости уехали, я сел к телевизору и включил «Заголовки новостей». Переговоры в Баньске Уречише снова провалились. Высокомерность балканских мужланов и задавленность их баб, равно как и вся эта древнеславянская парадигма, никогда не позволят прийти к соглашению. Они там все обожрались парной бараниной – вот откуда вздымается жестокая карма. Эйб Шум прав: конфликт может быть решен только при помощи массированной международной оккупации всего региона.
К телевизору подсела Мирка. В руках у нее был рулончик факсограммы.
«Слушай, Стас, я только что сняла странный текст. На нем нет обратного адреса, и, честно говоря, я не понимаю, о чем идет речь».
Я посмотрел. Факсограмма представляла собой своего рода шоп-лист, только цены не были проставлены. Предлагались следующие товары:
Aircraft MIG-29, 10 units
****** MIG-29 UB 2 units
R-27 Rl
APU-470
APU-73 ID
Test Support Equipment
Missile and Avionika
OFZ-30-GSh Cartridges (30 mm)
X-31 A Launcher
11751 Fuel Tanks
WK 6 255 Pilot Harness
NVU (On-Ground-Vision-Device)
IL-117 Radar
SU-25
SU-25 UB
Tunguska (3 x 4)
9M 331M Missile
Barrels 30 mm
Ammunition 30 mm
2V1101 Repair and Maintenance Vehicle
9K38 IGLA Missile
9K38 Launcher
Mobile Testing Station
GAMA 68 N6E
Spare Parts
В правом нижнем углу листка было накорябано от руки по-английски: Get it, M.F.?[32] – а рядом по-русски другим почерком: «Соси!» Впрочем, последняя буква этого лаконизма могла быть задумана как «к», и тогда словечко просто оказывалось четырехзначным эквивалентом русского трехзначного на «х». Впоследствии мне было стыдно вспоминать, как я перепугался в первый момент. В этом факсе было что-то сродни появлению крокодила. Вообразите, как в вашем доме появляется тварь, у которой ничего нет на уме, кроме убийства.
Момент страха проскочил мимо, я свернул факс и сунул его в карман. Мирка смотрела на меня поверх очков умными глазами в окружении веснушек. Как жаль, что они разбежались с Дельфином.
«Ну, что скажешь?» – спросил я.
Она пожала плечами, обтянутыми черной майкой.
«По-моему, это список оружия. Список советского оружия, как мне кажется. Все остальное для меня темный лес».
Уже не темный лес, подумал я. Не всякая женщина-генетик сразу поймет, что у нее в руках был список советского оружия. Тогда уж и я пожал плечами.
«Это какая-то ошибка. С факсами такое случается, особенно в зоне Большого Вашингтона. Однажды, в конце восьмидесятых, я получил список гостей, приглашенных на прием по случаю отставки советника национальной безопасности. В другой раз пришел проспект конференции Американской ассоциации пародонтоза. Для интереса я пошел и туда, и сюда».
«Ну, перестань, Стас», – рассмеялась она.
«Я был и там, и там, – с жаром подтвердил я. – Прекрасно провел время».
«В данном случае попридержи свое любопытство», – суховато сказала она. Похоже, что она что-то еще видела в этом «темном лесу».
Она встала.
Как жаль, что она была замужем за моим сыном. Не будь этого, я мог бы жениться на ней. Она уже достаточно постарела, чтобы стать женой старого вдовца.
«Ты погуляешь с Онегиным?» – спросила она и, получив в ответ утвердительный кивок, отошла.
Где это видано, чтобы с котом гуляли, как с собакой? А вот наш Онегин недавно ввел в обиход ритуал ежевечерних совместных прогулок. Он, как обычно, шастал по кустам поселка, но вечерами требовал, чтобы его сопровождал кто-нибудь из семьи. Иногда даже вовлекал сестер О в свои небезопасные игры. Бросался, скажем, наперерез датскому догу Тирпицу с целью разодрать тому нос. Датчанин, робкий малый величиной с хорошего жеребенка, в ужасе перепутывал свои ноги и валился на газон. Его хозяева Мэйсун и Кейван бросались к нему на выручку. Сестры гнали кота. Онегин взлетал на березу и задумчиво смотрел оттуда, как будто не имеет к переполоху никакого отношения. Девушки сгорали от стыда.
В этот раз мы пошли прогуливать байронита вдвоем с Вавкой. Воздух был прохладен и свеж. Жителям парной Вашингтонщины это всегда кажется чудом. Над темной стеной леса стоял молодой месяц. Какая-то странная гармония возникала от его соседства с высовывающейся из-за вершин леса светящейся вывеской Holiday Inn. От нашего пруда к лесу пролетела серебристая тень цапли. Сучковатые ножки были оттянуты назад, как в романах пишут, с претензией на изящество.
Эта романическая, если не драматургическая, птица повадилась на наш культивированный пруд, окаймленный дощатой дорожкой с фонарями. Ее здесь кое-что очень сильно интересует, хотя она делает вид, что прилетает просто так. Дело в том, что пруд в эту пору кишит жизнью. Тон в ней, конечно, задают жабы. Они трубят, как коровы, из-под мостков и из камышей. Иногда возникает какой-то низкий и сильный звук, как будто кто-то оттянул и отпустил струну преувеличенного контрабаса. Фон этим солистам создает какофония мелкого лягушанства. Вот этот состав как раз и является сутью цаплиного интереса. Она стоит среди камышей на мелководье и делает вид, что она просто так. Лягушки вокруг почему-то смущенно замолкают. Цапля, тоже сама застенчивость, скромненько, чуть-чуть поворачивает круглым глазиком, как будто всей своей позой увещевает холоднокровных: «Ну что же вы, друзья? Почему прекратили дивное пенье?» Взаимное смущенье завершается еле уловимым броском героини болот, захватом и проглотом одной из неосторожных певиц. После этого цапля перелетает на другую сторону пруда и там стоит как будто просто так.
Мы идем по мосткам, а Онегин тем временем совершает пробежки по ближнему холму, ни на минуту не выпуская нас из поля зрения. Вавка облачена в шортики и коротенькую курточку. Как всегда, она старается уйти чуть вперед и разговаривает из-за плеча.
«Вон твоя цапля пролетела, – говорит она. – Птица твоей ностальгии, дядюшка Стас. Может, она из Литвы за тобой пожаловала? Хищница проклятая, нажралась лягушек и летит восвояси».
Я чуть прихрамываю сзади. Побаливает левое колено и правое ахиллово сухожилие. Я связываю это с ежедневным бегом, но не исключаю, что летучий артритик прогуливается по старой структуре.
«Это природа, Вавк, – говорю я. – Лягушки жрут комаров, и те становятся частью лягушек. Цапля проглатывает лягв, и те становятся частью цапли. Цапля – и она ведь не вечна – в один не ахти какой прекрасный день перестает летать и начинает соединяться с землей, но заодно становится частью червяков и муравьев. Ну и так далее. Слепой круг природы. Шопенгауэр, Вавк, не унывай».
Вдруг что-то вспыхивает среди гнущегося на ветру можжевельника; две точки страсти, глаза кота. Он заметил приближающегося Финнегана. Вавка останавливается в темной зоне между двумя фонарями.
«Стас, ответь мне на один вопрос. Ты действительно спишь со мной?»
Опешив, я смотрю, как приближается Финнеган. Вперевалочку, но быстро. Коготки стучат по доскам. Большущие глазенапы еще больше вылупляются при виде нас. Хвост ши-тцу начинает работать, как флаг дружбы. За ним движется его папа, строительный контрактор (прораб) Маллиган. С ним мы однажды выпили пива в Ruby Tuesday и сохранили память об этом навеки. Слышится сильное шипение, как будто выходит воздух из шины. За сим следует взрывной мяв кота, неистовый и гнусный. Онегин выпрыгивает из кустов на мостки, демонстрирует поднятую палицу хвоста и вздыбившуюся шерсть на выгнутой спине. Еще мгновение, и он вцепится в вечно удивленную мордочку Финнегана. Папа Маллиган тормозит, как бронзовый конь генерала Шеридана на Масс-авеню в Д.С. Испуг и впрямь вносит что-то бронзовое в складки его одежды и в моржовые усы. Забыв про летучий артритик, я хватаю за шиворот своего кота. Подвешиваю его в воздухе над несостоявшимся местом преступления.
– Sorry, Buck! I’m awfully sorry!
– It’s all right, Vlas. It was just a game on the part of your beast.
– But of course, he was just kidding. Awfully tactless pranks. I’m really ashamed.[33]
Наказанный преступник висит в воздухе. Покачиваются его лапы. Глаза мирно жмурятся. Соседи не знают, что это его любимая поза. Будучи взят папой за шкирку и подвешен в воздухе, он ловит в этом какой-то кайф уюта, даже иногда начинает петь песнь очага. Только бы сейчас не начал, тогда Маллиган поймет фальшь наказания.
– Have you ever considered fixing him? – спрашивает сосед.
– No, Buck. Frankly, I don’t want to change his personality. It would have been a partial fixing of myself.[34]
Маллиган оглушительно хохочет. Вмешивается с ехидцей Валентина Остроухова:
– I hope your next suggestion, Sir, wouldn’t include Onegin to be declawed?
Маллиган приходит в ужас.
– God forbid, miss! How may we violate the cat’s pride and glory?![35]
Онегин начинает свою песнь блаженства. Неприлично громко урчит. Глаза жмурятся. Я опускаю его на мостик, и он разваливается на боку прямо под носом у возбужденного таким соседством Финнегана. Что и требовалось доказать. Кот трогает песика мягкой лапой. Хвост Финнегана готов оторваться: как он рад этой новой дружбе!
– See you soon in Ruby Tuesday, Vlas,[36] – смеется прораб, и мы расходимся.
Вавка спрашивает из-за плеча: «Ну?»
Я отвечаю: «Да».
Плечики чуть-чуть передергиваются.
«А ты?» – спрашиваю я. Она на мгновение останавливается. Потом идет.
«Да», – отвечает она.
Теперь на мгновение останавливаюсь я. Потом иду.
«Как?» – спрашиваю я.
Она прокручивается на 360 градусов; мгновенно отвечает: «Спиной к тебе».
«Всегда?»