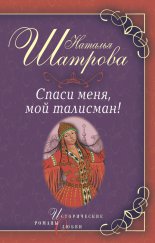Кесарево свечение Аксенов Василий

Часть I
Вездеход
Ну, с чего начнем? С диалога, что ли? Почему бы нет? Немалые ведь вещи начинались с диалогов. Вспомним что-нибудь нетленное? «В ворота гостиницы губернского города Эн-Эн въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка…» И далее, в первом же абзаце, следует ни к чему не обязывающий диалог двух русских мужиков. В этом же абзаце мужики пропадают, чтобы никогда уже на страницах поэмы не появиться. Что из этого следует? Диалог возник просто для разгона, и результат получился замечательный: эва как бричка-то раскатилась, вихревой обернулась метафорой, «птицей-тройкой»!
Ничто не помешает нам собезьянничать, ни единый моралист! Итак, новенький, но уже сильно заляпанный вездеход «Нива» безнадежно буксовал в непролазной грязи на Энской лесной дороге. Теперь – диалог двух русских мужиков.
– Славка, куда ты зарулил? Тут уж и дух-то нерусский, и Русью тут не пахнет!
– По карте рулю. Ты карту читать умеешь? Видишь, пунктиром указано – пятнадцать км до дороги областного значения.
– Мы тут завязнем. Ты куда-то к половцам зарулил, к печенегам, в лучшем случае к веспам каким-нибудь, которые на барсучьем языке объясняются. Мы тут завязнем на хер и даже помощи не сможем попросить, je crois![1] На фиг ты с бетонки свернул?
– Вот уж не думал, что ты такой паникер, Герка! Знал бы, что ты такой паникер, лучше бы один поехал. Погоди, не надо толкать, не вылезай. Я ее сейчас раскачаю, сама, гадюка, потянет.
– Ни фига она не потянет. Ее засасывает. Болотные губы уже чавкают ее резиной! Мы с тобой в необитаемый край заехали. Что там такое клычет-то, клычет, вопиет? Что за мразь какая-то подхохатывает?
– Да просто волки стонут, Герка, не психуй. На волчью свадьбу мы с тобой ненароком заехали, только и всего. Ну, видишь – вытянула! Едем!
– Едем, но куда? В какой-то антимир въезжаем, Славка!
– Ты же знаешь, это спецзона. Мы тут восемьдесят км срезаем.
– Ты тут восемьдесят кг срежешь, лишишься товарища. Давай лучше повернем обратно.
– Ну, вот сейчас мы уже тонем. Но медленно. Одно колесо еще держится. Есть время осмыслить ж.п.
– Je n’sait pas ce que sa veut dire[2] – жопа, что ли?
– Жизненный путь. Давай, Герасим, вытаскивай цареубийственный кинжал, будем ветки резать. Давай, включай в. к ж.!
– Волю к жизни, что ли?
Теперь по законам темпоритма мы должны диалог этот прервать и представить читателю двух этих, неизвестно откуда взявшихся, героев. Что мы и делаем.
Два молодых москвича, лет, скажем, 26–27, Мстислав и Герасим, фамилии пока что неизвестны, рано утром покинули столицу и отправились на «Ниве», принадлежавшей их молодой капиталистической компании, куда-то на север, в какой-то город, то ли Кошкин, то ли Мышкин, а скорее всего, Гусятин, если следовать по пятам классической литературы 60-х. Что их туда понесло, пока неясно, но скоро выяснится, если все-таки выкарабкаются, ну а если не выкарабкаются, тогда и романа не получится.
На какой-то бензоколонке, где бензином уже полгода как не пахло, а пахло однозначно только говном, им повезло: остановился по большой нужде солдат с цистерной. Время было еще паршивое, но уже не совсем паршивое: народ начинал отвязываться в сторону рыночных отношений. Солдат налил им полный бак и канистру, а также продал секретную карту стратегических коммуникаций. «Вот по этому пунктиру, ребята, вы срежете восемьдесят км, а вот здесь, у памятника павшим, снова повернете на бетонку. Если тут ракетный батальон не потащится, до Гуся доберетесь еще засветло. Итак, три пачки «Мальборо» с вас, мужики прикольные». Им как раз и надо было добраться засветло к приходу в Гусятин теплохода «Михаил Шолохов», так что они посчитали этого солдата улыбкой судьбы. Увы, то, что тому на его «КрАЗе» казалось обычной пунктирной дорогой, для их «Нивы» обернулось ловушкой.
Измазанные болотной жижей, исхлестанные колючим кустарником, они теперь с каждой минутой понимали, что машину придется бросать и на ногах добираться за помощью. Над ними еще стояло светлое небо, но внизу, где копошились они, в буреломе уже собирался мрак. Чертова страна, чертово болото, квашеная дрисня, так поносили они стратегическое пространство родины. Так тут и сдохнешь, на корм пойдешь лесной нечисти, и никто твои кости не найдет, пока не приплывут варяги следующего тысячелетия.
«Надо на дерево, что ли, лезть, может, увидим какую-нибудь вышку. Сейчас бы и лагерной вышке обрадовался», – подумал Мстислав. Полезли, еще больше ободрались, ссадины жгли ладони. С деревьев открывалось одно лишь «зеленое море тайги».
Стояла сплошная тишина, если не обращать внимания на панический гомон насекомых. Вдруг из-за веток ели, смешанной с осиной, какое-то око взяло Мстислава под свой прицел. «Только не это», – похолодев, подумал он. Что «это», подумаем мы и не сможем пока что ответить. «Давайте-ка, пожалуйста, без этого, – пробормотал он кому-то. – Все, что угодно, но только не это, и не сейчас, и не здесь. Прошу и вас, и вас, только бы оно не увеличилось вдвое, а там и больше, только бы не поплыть пылинкой вокруг двойного зрачка».
Фу, какая лажа ошеломляет в экстремальных обстоятельствах. Ему стало стыдно. Око-то принадлежало еноту. Зверек проснулся и смущенно выглядывал из-за ствола осины. Глаз его не выражал ничего, кроме смущения засони. Неподалеку на другом дереве торчал запутавшийся в ветвях Герасим. Свисала нога в миссониевском носке и тимберлендовском ботинке.
– Видишь что-нибудь?! – крикнул Мстислав.
– Je ne vois rien,[3] – откликнулся аристократ.
Тут рядом возник и бешено разогнался какой-то сатанинский свист. На помощь свисту пришел раскалывающий небо грохот. Над верхушками леса совсем неподалеку с кажущейся неторопливостью стала подыматься ракета. Зависнув на секунду как бы в раздумчивости, она приняла злодейское решение, после чего в клубах огня и пара устремилась в поднебесье. Исчезла. Приятели слетели вниз.
– Ты понял? Они близко. Пошли.
– Как бы они нас не прихлопнули.
– За что?
– За шпионаж.
– Пусть прихлопнут – все лучше, чем заживо всасываться.
Чтобы дальше не хлюпать по трясине, скажем сразу, что через четверть часа Герасим и Мстислав вышли на опушку, где расчет ракетчиков, только что совершивших злодеяние запуска, теперь оттягивался в перекуре. Не спрашивая, куда ракета полетела, в Брюссель или во Врангеля – полярное царство, наши путешественники предложили воинам ботл джина. Чудовищный тягач тут же развернулся и попер на выручку, ломая все, что попадалось на пути древесного. Не прошло и получаса, как злополучная «Нива» была поставлена на еще какую-то бетонку, даже не отмеченную в секретной карте. Еще через полчаса с косогора открылся перед Мстиславом и Герасимом вид на слияние больших чухонских рек и на древний город Гусятин, потом Краснознаменск, потом опять Гусятин, из центра которого торчала рука Ильича.
Гусь-Под-Зонтиком
Заложено было это поселение лет семьсот назад, то есть сравнительно недавно, хотя имелись сведения, что еще раньше, на пару-тройку веков, стояли тут башни князя Ботифана, которые тот оборонял от князя Псука. В те времена три основных потока омывали здешние бреги – Шульяна, Жмель и Вольжа. Сейчас все три влились по-социалистически в основную артерию, что течет под именем Каспо-Балтийская Стрёма. Многое тут связывает русского человека с прошлым, даже с теми временами, когда и Руси-то как названия не существовало. Вот, например, пейзаж: уцелел, родимый! Все эти отдаленные взгорья, пологие скаты, шерстистые шубы лесов – весь этот окоем, что сохранился в своей прозрачности, несмотря на близость страшного Комбината, – какой русский не почувствует тут хоть на минутку тихого нежного умиления? Или, например, странные местные чайки по прозвищу «жихи», что норовят подлететь втихомолку к проходящему человеку и жутко жихнуть над самым ухом; иностранец может от этого и сознание потерять, русский же человек лишь улыбнется и потрет себе ухо.
В принципе все пространство земли от чухны до чучмека звалось когда-то Путятей. Волоки, которыми тут промышляло население, дали еще одно – впрочем, спорное – название страны – Волочила. Древние деревни по всей округе носили странные императивные имена: Тащите, Ешьте, Ночуйте; в общем, в этом роде. Все советские ухищрения с названиями нынче отпали, да они и раньше не особенно процветали в этой местности. Мало кто из здешних трактористов говорил, скажем, «Похиляли, робя, в «Заветы Ильича», или в «Свет Октября», или в «Девятнадцатый партсъезд». В подпитии всегда всплывало исконное: «Айда, пацаны, в Тащите, к дояркам!» Или: «Эй, жми в Ешьте, там у Евдокии оттянемся!» А то еще: «Говорят, в Ночуйте политуру завезли»; ну и все такое.
Город Гусятин, или, в просторечии, Гусь (не Хрустальный, а натуральный), тут всегда высился над другими поселениями, как Париж высится над разными Нантами и Шартрами. Крупные купцы тут жировали весь прошлый век. Например, один такой Окоемов Илья отгрохал себе трехэтажный дом с колоннами. Брат его Фома до трех этажей не дотянул, но колонны себе поставил выше крыши. Предание гласит, что в 1888 году Илья Окоемов принимал у себя государя. Увидев Его Величество, Илья пал ниц и не мог подняться даже с помощью челяди. Подождав с полчаса, государь в раздражении покинул особняк и перешел через площадь к Фоме. Там играл оркестр и молодые купчихи при-седали в книксенах. «Вот чего мы ждем от отечественного бизнеса», – якобы сказал А.А., хотя и не знал этого слова. У этого немца была русская пятка, в этом нет сомнения. Он заночевал у Фомы и уехал очень довольный, а братья потом целый день гонялись друг за другом с лопатами.
В память об этом историческом визите город решил воздвигнуть монумент; увы, как всем в этом городе известно, «благими намерениями вымощена дорога в ад». С царским монументом затянули, а потом пришлось сооружать монумент пролетарский, то есть Ленину В.И. Любопытно, что и в этом деле не обошлось без братьев Окоемовых. На сооружение гусятинского Ильича пошли с кладбища их мраморные памятники. Их измельчили в пульпу, а из нее уж и слепили фигуру Вождя.
Сейчас иногда звонят из областной администрации: когда стащите с пьедестала творца однопартийной системы, господа гусятинцы? Израильский тигр вам господин, а мы пока что и навсегда товарищи, так отвечают здешние борцы «красного пояса», своего культурного наследия не отдадим!
Мы пока еще не знаем, по какому побуждению пустились мы сейчас в эти исторические экскурсы, – может быть, что-то важное за ними стоит, а может быть, и просто так взяты, для дальнейшего «разгона», во всяком случае, наших молодых героев они вряд ли заинтересовали. Их внимание было привлечено даже не к городу, а к текущей мимо него большой воде. Среди тусклого, но гипнотически манящего ее свечения медленно двигалось белое пятно теплохода. Похоже было на то, что он подойдет к городу не раньше чем через полчаса. Можно было не торопясь спускаться к Гусятину.
На окраине остановились у колодца, накачали в ведерко какой-то илистой жидкости и попытались хоть слегка отмыть лица и башмаки от лесной стратегической дряни. Усилия друзей помогут нам так или иначе распознать в них молодых интеллигентов, в недавнем прошлом выпускников филологического факультета университета «Двенадцать коллегий», а упоминание филологии не даст нам теперь удержаться от применения излюбленного приема классической литературы, то есть от лирического отступления.
Знаете, люблю я эти захолустные городки по берегам Каспо-Балтийской Стрёмы! Даже писать о них приятно, не говоря уже о том, как приятно по ним прогуливаться или проезжать их дремотные улицы на малой скорости. Вот проплывают мимо покосившиеся домишки с резными наличниками. Проживать в них, наверное, противно, но проплывать мимо – одно удовольствие! Вот переходит дорогу утица с выводком. Сколько достоинства в этих наших русских животных! А вот и девчушки-хохотушки проскачут, прыснут при виде двух столичных парней, проезжающих мимо на грязном вездеходе, да тут же и засмущаются, застынут в унынии, всеми позами своими напоминая нашу грустную мелодию «Помню, я еще молодушкой была, наша армия в поход далекий шла». Сколько лирики, сколько чистоты! А вот и парк культуры появится – квадратный скверик с гипсовым хороводом под «голубем мира», с фанерным макетом крейсера «Аврора», признаться, довольно закаканным, с аттракционом «Полет в неведомое», описанным еще в 1967 году одним из мастеров мировой литературы. Сколько воспоминаний!
Мстислав притормозил, и оба друга замерли, не в силах отвести взглядов от фигуры аттракциона, похожей на смесь подъемного крана и птеродактиля.
– Не на этой ли птице катался в свое время Володя Телескопов, – пробормотал Мстислав.
– Не удивлюсь, если именно на этой, – хохотнул Герасим.
Ржавые стальные ноги поднимались из зарослей крапивы, лебеды и лопухов. Под кустом бузины мирно спал охламон, смотритель парка. Рядом с ним стоял открытый баул, заполненный складными зонтиками с кнопкой. Несколько слов об этих зонтиках. Среди засекреченной промышленности Стрёмы Гусятинский зонтиковый завод был лишь частично засекречен. Еще за несколько лет до перестройки предприятие стало выпускать складные зонтики с кнопкой по лицензии ФРГ. Вот этот сектор его деятельности как раз и был засекречен – крошечные, в ладонь длиной, предметики, которые от нажатия кнопки разворачивались над головой в надежный и эстетичный щит от экологически нечистых дождей. Купить эту продукцию можно было только по пропускам в партийных распределителях или за валюту, в широкую же продажу продукт не поступал, чтобы народ не разбаловался. Дело в том, что в ФРГ некоторые круги полагали, что их зонтики могут существенно повлиять на идеологический климат СССР, ну и вот соответствующие органы приняли соответствующие меры по предотвращению. В нынешнее время завод был, конечно, приватизирован, и зонтики хлынули на рынок. Их оказалось так много, что вскоре из-за постоянного недостатка нала они превратились в своего рода валюту Каспо-Балтийской Стрёмы. Ими нередко расплачивались на базарах. Кура, например, стоила три с половиной зонтика, связка лука – полтора. Таким образом, наш народ оказался не глупее фээргэшного. Вот и все, что мы хотели сказать по поводу зонтиков.
Путешественники вынули охламона из-под бузины. Крутили его и так и сяк – он не отбрасывал тени, словно Вергилий. Вдруг проснулся, и сразу тень выросла аж через дорогу до самого магазина. Дохнуло густым алкогольным опытом.
– Ты местный? – спросил его Мстислав.
– Нгкмдк, – утвердительно ответил охламон.
– Comment vous appelez vous, monsieur?[4] – поинтересовался Герасим.
– Телескопов мое фамилие, – нгкмдкнул охламон. – Точнее – через черточку, Телескопов-Незаконный.
Следующий вопрос был задан уже на «вы»:
– К литературному герою имеете отношение?
– Прямое, – ответил человек. – Папашей мне приходится. Я тут на месте действия инструктором числился, а сейчас вот приватизировал это м.д. и стал владельцем. Покататься не желаете? Зонтиков купите?
Путешественники вернулись к непринужденной манере:
– Ладно, лох, берем твои зонтики, только если ты с нами на пристань поедешь.
Дважды просить себя сын исторического персонажа не заставил и немедленно забрался в «Ниву». Там он тут же обнаружил непочатую бутылку «Столицы». «Угощаете, милостивые государи?» И, не дожидаясь ответа, отвинтил.
– Что-то в нем есть от папаши, – сказал Герасим, пока тот булькал. – Но вот интересно, что в нем от мамаши?
Мстислав внимательно наблюдал Т.-Незаконного в зеркальце заднего вида.
– Скажи, друг, ты такого Налима знаешь?
Телескопов-Н., уже захорошев, пребывал в размягченном счастливом состоянии. Он, видно, с трудом верил своей удаче. Вот так лежишь весь день под вонючим кустом по месту приватизации, без надежд, без оптимизма, и вдруг тебя два симпатичных бандита вытаскивают наружу, сажают на мягкое, вливают крепкое, обещают денег; значит, можно и под кустом дождаться справедливости. В ответ икнул:
– Нгкмдк, да кто ж его не знает, он же ж из нашенских, из Окоемовых! Гусенеанец!
– Герка, слышишь, как он говорит, – гусенеанец!
– Это по-римски, – пояснил Владимир. Да-да, конечно, он был Владимир, Владимир Владимирович.
– Опознаешь Налима? – спросил Мстислав.
Получив в ответ еще одну утвердительную полуотрыжку, они приблизились к пристани. К этому времени уже начал расцветать над просторами Стрёмы медлительный северный закат. «Михаил Шолохов» приближался к перекошенному и частично в мелководье затонувшему дебаркадеру. Теплоход этот своими гладкими боками мало напоминал знаменитого плагиатора советской литературы. Закат изящно, если не декадентно, отсвечивал в стеклах верхней палубы.
– Да вон как раз Налим и стоит наверху вместе с дамочкой, – показал В.В.
Указанный не то чтобы стоял, но как бы свисал, удерживаясь от падения в прибрежные воды путем обхвата стойки навеса. Гладкостью своих боков этот сильно нетрезвый пассажир как раз соответствовал теплоходу. Двубортный «Версаче» плотно обкладывал крупного, но с маленьким ротиком и щуплыми усиками – мужланища. Кто-то его метко в свое время прозвал Налимом – сущий налим, господа, идет в наши сети. В.В. прокомментировал:
– Наверное, квасил Налим всю дорогу от Москвы в своем суперлюксе с дамочкой.
Мстислав и Герасим стояли потрясенные, однако не встреча с долгожданным Налимом потрясла их, а его спутница. Ведь это была не кто иная, как Маринка Дикобразова, их сокурсница по филфаку и третий, после них, член правления капиталистической компании «Канал». Собравшись брать Налима, они утаили это опасное дело от слабого пола и вот теперь не могли прийти в себя от изумления, увидев «княжну Дикобразову», как ее звали на факультете, рядом с бандитом. Да и не просто рядом стоят, а вроде как уже и породнились. Просим также обратить внимание на шиншилловую накидку. Уж наверняка Налим ее купил княжне в Нижних Горячах на международном аукционе. Хороша Маринка в этой накидке, ничего не скажешь! Так и хочется шепнуть Герасиму на ухо в гусарской манере: «Каков бабец, bien faty et la beaut du diable!»[5] Однако остережемся – посмотрите, как он побледнел с выпяченным подбородком, как он бормочет сквозь зубы: «Экая гадина, никогда не прощу, plus jamais!»[6] Мстислав между тем, положив другу локоть на плечо, тихонько насвистывает песню Городницкого «Предательство» и с тоской думает: неужели заложила нас Маринка Налиму, неужели и с ней придется разбираться, неужели вот это и есть капитализм?
Теплоход приближался, вместе с ним приближался и ненавистный Налим. Теперь уже можем рассмотреть в подробностях бухого, расслабленного, тяжелого, гладкого Налима. На правом борту с тысячного пиджака оборвана пуговица, левый борт вздут пузырем, поскольку пристегнут к жилетке. Палец Налима норовит пролезть Маринке меж ягодиц, однако ничего не получается – палец нерасторопен. Маринка, хохоча всем своим перламутром, стряхивает палец со своей крутизны, словно белого таракана. Уже слышен ее голос: «Что за шутки, месье? Совсем крыша поехала?» А у ноги негодяя стоит чемодан с кодированным замком – там, наверное, и лежат награбленные деньги.
Задрав штаны, бежать за комсомолом
Пока оба наши гуманитария гнали в Гусятин, они вполне отчетливо представляли себе технику намеченной операции. Едва только Налим ступит на варяжскую землю, а лучше всего еще на борту теплохода, к нему с двух сторон подойдут двое легконогих и мускулистых – примерно такие, как из фильма «Once upon a time in America».[7]
«С приездом, господин Налим! Необходимо побеседовать». Красные книжечки угрозыска вспыхнут в заплывших о. з. авторитета. Щелкнут наручники. Им нравилось наблюдать самих себя как бы со стороны в роли псевдоагентов, а на самом деле благородных гангстеров. Воровская эстетика раннего антисоциализма захватила и этих бывших филологов. Посмотрим и мы на них теперь как бы со стороны, прежде чем рассказать, как на самом деле все это обернулось.
Мстислав – а впрочем, давайте звать его просто Славкой – был похож на молодого Пастернака, то есть, по известному определению, напоминал одновременно и араба и арабского коня. Одним словом, было что-то в нем необъяснимо каталонское. При всем при этом он никоим образом не напоминал пастернаковского лирического героя. Трудно было его представить плачущим в зале концертной. С Брамсом он как-то не увязывался. В его движениях скорее угадывалась какая-то постоянно перемежающаяся синкопа. Вообще, при пастернаковской романтической неотразимости он обладал отчетливой прозаической отразимостью, то есть был готов ко всему. Такой Пастернак, пожалуй, не отказался бы от Нобелевской премии из любви к родине. К этому начальному и, как полагается нынче в прозе, довольно расплывчатому портрету добавим, что у Славки были совсем не пастернаковские, да и вообще не арабские, не каталонские, а сугубо нахальные светлые глаза, на правой же стороне виден был шрам, как будто за пару лет до этой встречи там прогулялась не очень хорошо отточенная бритва.
Тут он поворачивается к автору. «Это у меня от тюрьмы осталось. Только не надо преувеличивать, Стас Аполлинариевич, просто фурункул вырезали».
Что касается «аристократа» Герасима, то он как раз аристократической внешностью не отличался, а если следовать за литературными героями, был вылитый Давид Бурлюк. Трудно сказать, решился ли бы он на манер футуриста разрисовать себе щеки птичками и кошками и прицепить к пиджаку пучок моркови, однако башка у него в соответствии с московским тусовочным «прикидом» была чуть-чуть подкрашена лиловым, а в левом ухе поблескивала серьга. Говорят, что иногда он появлялся в клубе «Белый таракан» с цилиндром на голове и с моноклем в глазнице, то есть, по всей видимости, он знал, на кого похож. Надо сказать, что, в отличие от исторического Бурлюка, этот псевдобурлюк никогда не стремился в лидеры, а, напротив, всегда искал, к кому бы прицепиться, чтобы не отстать от общего похода. В данном случае он с удовольствием шел на буксире у бывшего однокурсника.
В адрес автора он ограничивается лишь легкой улыбочкой и подмигом: «C’est la vie!»[8]
Чтобы завершить этот короткий экскурс в портретную галерею, добавим костюмы. Друзья были одеты одинаково в короткие кожаные «бомбовозки» и черные джинсы, то есть со стороны мало кто признал бы в них интеллектуалов, а уж скорей крутых парней из новой московской братвы.
Теперь коротко о сути дела. Кажется, уже давно, а на самом деле всего полтора года назад, в конце исторического 1991-го, два друга зачали «Канал» – коммерческую структуру с ограниченной ответственностью. С чем едят эту о.о., они плохо себе представляли, просто здорово звучало в переводе на основной язык – Canal Company, limited, а потому сулило неясный, но манящий капиталистический расцвет. «Ты посмотри, mon cher, какие тупые комсомольские башки сейчас ворочают бизнесом – что же, мы их хуже, что ли?» – так вопрошал Герасим Мстислава. Последний, долго не задумываясь, скомандовал «Вперед!». Так вчерашние идеалисты-демократы, члены группы «Живое кольцо», круто вошли в клокочущий хаос первичного российского передела. Ходили слухи, что они каким-то образом вышли на тайный партийный источник денег «Боровое», однако подтверждений этому нет, и не исключено, что бизнес начался с обычной спекуляции. А что, собственно говоря, в первичном смысле представляет собой нормальный бизнес, если не вечную страшилу совдепа – спекуляцию? Купил дешевле, продал дороже – разве не на этом принципе стоит весь коммерческий расцвет? Так или иначе, «Канал» довольно быстро открыл в Москве несколько палаток по продаже оргтехники и тюбиков кетчупа, огромную партию которых им удалось купить на полузатонувшем в окрестностях Туапсе сухогрузе с подмоченной репутацией.
Однажды под утро в клубе «Белый таракан» друзья натолкнулись на подругу юности Маринку Дикобразову. Среди лирических разговоров выяснилось, что у девушки есть прямой выход на рынок видеокассет. Таким оразом дуэт директоров расширился до триумвирата. Все трое кипели, бурлили, едва ли не отрывались от земли в те месяцы «золотой лихорадки». Прибыль тогда накатывала в «раблезианских», как они выражались, размерах. Казалось, что можно было уже подходить к реализации своего основного проекта.
Проект вообще-то носил филологический или, лучше сказать, завиральный характер, и связан он был с Крымским полуостровом. Отправились в Симферополь, и там в новом коммерческом клубе в таинственном полумраке идея была изложена собранию полукриминального комсомола и перестроившегося в рыночном духе партаппарата. Нужно перекопать перешеек и лиманы Сиваша большим судоходным каналом. Немедленно возникнет огромная прибыль, связанная с перегоном торговых судов напрямую из Одессы в порты Азовского моря. Но это не главное. Главное заключается в неожиданном геополитическом смысле. Полуостров превращается в остров. На этом острове может возникнуть независимое средиземноморское государство вроде Кипра. Защищенное водой от материка, это государство станет свободной офшорной зоной, процветающим гнездом нового бизнеса и демократии. А также гнездом великолепной демонстративной экологии, господа. Ведь здесь, в Крыму, господа, ваш коммунизм не успел еще все бесповоротно загадить. Прикроем никчемную промышленность и будем наслаждаться богатством и чистым воздухом.
Позднее Славка, Герка и Маринка, вспоминая об этом утопическом проекте, придут к выводу, что он поднялся из глубин их надорванного антисоветского подсознания. Идея отрыва куска от целого и превращения этого куска в нечто новое, цветущее и самостоятельное была сродни каким-то искусственным родам – своего рода кесареву сечению. Сейчас, впрочем, преждевременно развивать эту почти метафизическую тему. Будут ли они об этом вспоминать? Придут ли к какому-нибудь филологическому выводу? Не повлияет ли на них пристрастие к деньгам? Не превратятся ли они в акул какого-нибудь «уолл-стрита»?
Пока что загудели комсомольские башки, и без того уже помутневшие от бешеных баксов. Не прошло и получаса, как бизнес-клуб превратился в подобие репинского шедевра «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», только в данном случае сочинялось не менее дюжины писем в разные адреса. Тут же у стойки бара Мстиславу было предложено кресло президента Республики Крым, а Герасиму соответственно портфель премьер-министра. Затем начались клятвы в духе темной малины – на верность, на дружбу, на тайну. Зажженной сигаретой проверялась мужская стойкость. Пахло паленой шерстью. Нет-нет, такие мужики не прогнутся! Вот-с-тобой-я-пойду-в-разведку-а-вот-с-ним-я-не-пойду-в-разведку! Кое-кто уже предлагал расписаться кровью. Руки чесались испробовать недавно приобретенное огнестрельное оружие. Тут же шла страннейшая деятельность по инвестициям в этот мегапроект.
Мстислав и Герасим чувствовали, что влезли во что-то столь же бессмысленное, сколь и безобразное, однако и у них в тот год башки были не на месте – им тоже казалось, что среди всеобщей «отвязанности» нет ничего невозможного. Они инвестировали все, что нажили: три лимона баксов. Гордая идея почти сразу же протухла. В Симферополе шли бесконечные разборки вокруг приватизации санаториев. Бизнес-клуб не отвечал ни на звонки, ни на факсы. «Кажется, пропали наши три лимончика, Славик, Герочка», – вздохнула однажды княжна Дикобразова. «Не жалей», – погрозил ей пальцем Герасим и напомнил старую шутку с грузинским акцентом: «Что прогулял, о том не жалей, а то на пользу не пойдет!»
Вдруг все дело заново запылало ярким утопическим огнем. В Москву из Симфи прибыла делегация клуба «Баграм» – пятеро отлично тренированных «афганцев». У этих во главе угла, конечно, стояло счастье полуострова, а не мелкая личная выгода. «Вас, ребята, в бизнес-клубе хотели кинуть, – поведали они, – но мы кое с кем разобрались, и теперь все тип-топ. Пока что знайте: «Баграм» зачинателей крымской идеи в обиду не даст!»
Полетели все вместе обратно на будущую жемчужину Средиземноморья. В клубе «Баграм» их ждал банкет. Специальный самолет привез к столу несметное количество крабьих лап с Камчатки. Столы были заставлены французским шампанским «Веуве Кликуот» по 300 баксов бутылка. Оказалось, что уставный капитал «Канала» внезапно увеличился в шесть раз, да и вклад наших интеллектуалов непонятно каким образом вырос вдвое. Пили за Маринкины аристократические неотразимости, она понимающе улыбалась. Снова были клятвы в верности, в мужской дружбе и тайне. Пулеметчик-вертолетчик Никодим Дулин открыл на ноге вену и предложил всем желающим расписаться на историческом документе. Словом, лед тронулся и уже решено было, кому сколько надо занести и с кем выйти на стрелку.
И вдруг через месяц произошло разрушительное землетрясение. В Симфи для разработки системы охраны прибыл отряд из дружественной структуры ТНТ, что расшифровывалось как «Товарищество Надежных Телохранителей». Средь бела дня они окружили «Баграм», произвели там мощный взрыв тринитротолуола, а оставшихся в живых порешили автоматами, после чего забрали весь общак и в тот же день чартерным рейсом отбыли отдыхать на Канары. Единственный уцелевший «афганец», тот самый пулеметчик-вертолетчик Дима Дулин, запомнил, что во главе ТНТ стоял гладкий мужик, которого называли Налимом. Он поклялся достать эту рыбу, где бы она ни выплыла.
На этом мы завершим наш короткий экскурс в историю второй попытки капитализма в России. Пора подвести читателя к трепетному моменту встречи. «Шолохов» уже надвинулся, сильно надавил на гусятинский дебаркадер. В поле зрения наших «оперативников» остались только две пары туфель – мужские, сущие крокодилы, и женские, крокодиловые птички, да концы брюк гангстера, словно пожеванные каким-нибудь ветераном фауны.
– Ну, пора. А где его охрана, как ты думаешь?
– Черт его знает, – кажется, он без охраны, времени нет, идем! Вова, сторожи машину. Угонишь – найдем. Идем наверх, живо! Отодвигаем вахтенного матроса и пассажирского помощника. Спокойно, господа, мы из Интерпола. У вас на борту опасный преступник. Просьба не мешать операции. – Любой читатель, даже и не особенно подготовленный по части криминальной литературы, заметит, что операция была не ахти как продумана. Например, ребята совершенно не представляли, как быть с Маринкой. Вдруг она выкинет что-нибудь безумное – ведь не стрелять же, право, в красивую девку, с которой так много связано хорошего. Не продумали они также и того простейшего факта, что Налима и на берегу могут ожидать его люди.
И правда – ждали. На берегу между дебаркадером и открытым кафе «Стрёма» стояли два представителя ТНТ из местных. Конечно, группировка могла обеспечить Налиму и более мощное прикрытие для возвращения на родину, однако и она допустила в этом эпизоде немало ляпов: вся страна ведь еще была недостаточно подготовлена к системе свободного предпринимательства. Быть может, думали: ну, кто решится в родном Гусе поднять руку на Налима, бывшего секретаря райкома комсомола да к тому же потомка разбойного рода Окоемовых? Впрочем, и эти два неслабых представителя могли разрушить плохо продуманные планы «каналий» (так, оказывается, называли Славку и Герку в деловом мире Российской Федерации), если бы не стечение хаотических обстоятельств.
Теперь два «интерполовца» стремительно, руки в карманах кожанок, вышагивают по «Михаилу Шолохову». В конце прогулочной палубы они видят искомую парочку. Княжна что-то сердито выговаривает своему избраннику, а тот корячится с чемоданом. Быстрее, быстрее – стремительность обеспечит успех!
Чемодан был настоящим «хардамоном», а может быть, даже и «кончеронти» – иными словами, как всякая фирменная вещь, он был нелегок сам по себе, да и содержимое, похоже, было весомым. После четырехдневной пьянки и молодого мужика подломит такой багаж, а Налим, между прочим, уже разменял пятый десяток. Комсомольская закалка, однако, и тут его не подвела. Корячась с чемоданом, он вынашивал идиотскую, но опять же неслабую идею. «Силы не хватит, гибкостью возьму, – думал он. – Всегда все-ш-таки отличался известной гибкостью, скользким характером тела, потому и назван был Налимом. Нет, не опозорюсь перед любимой, вытяну, выдюжу и это нелегкое испытание за счет своей гибкости, общеизвестной в организации тягучести. А вот тем, кто не приходит на помощь, Коту и Самовару, что дрыхнут сейчас со своими телками, придется ответить перед товарищами. Запсочим хулососов в низовую хрюху!»
Протащив тяжесть метра два, он остановился передохнуть, поднял глаза и увидел, что новые ребята появились. Двое легких на ходу стремительно приближались. Несколько секунд оставалось до сближения. «Это не наши, – вдруг пронзило его до пят. – Это, кажется, из «Баграма» идут недобитые товарищи. Мочить идут!»
Убивая раньше людей, Налим никогда не думал, что делают пули с человеческими телами. Кем-кем, но доктором себя никогда не считал. Всевозможными конвульсиями, агониями и прочей патологией никогда не интересовался. Знал, куда палить – сначала в центр тела, а потом в башку, вслед за чем переступал через рухнувших, которые только что стояли поперек. Только сейчас он подумал о медицинской стороне замочки. Одна пуля пробьет грудную клетку, ей ничего не стоит. Раздерет там весь мотор комсомольского сердца. Упаду, смертельно затоскую, как Маринка бы прочла из стихов Николая Шамилёва. Вторая не-дура пробуравит кости недюжинной головы. Все окоемы тут же погаснут, ой, матушки, да ведь только же ж начали жить! Да кто же ожидал такого приема на дремотной родине?! Да что же получается, товарищи, давайте уж разберемся, ведь не в джунглях же ж живем!
В общем, при взгляде на приближающихся не наших братанов Налим позорно разъехался по палубе – штиблеты версачьи заскользили, не подчиняясь телу, да и тело оказалось не на высоте, не наладило связи со штиблетами, растекаться стало и разваливаться, как подгнившая скульптура основоположника.
Надо сказать, что несколько секунд, оставшихся до завершения операции, стали и для самих мстителей нелегким испытанием. «Смотри, гадский Налим сует руку в карман, там у него пушка, значит, надо немедленно нажимать курки». Увы, операция и в психологическом смысле была из рук вон плохо подготовлена. Мочить или не мочить – эта философская дилемма была ими не до конца продумана. Конечно, револьверы были заряжены на полную катушку, однако вопрос убийства Налима оставался для этих револьверов чистейшей абстракцией. Ярость, вспыхнувшая в них после уничтожения «Баграма», давно улетучилась. Гнали в Гусятин с отчетливой целью – взять Налима, вернуть свои лимоны, накидать ему пиздюлей; ну, в случае необходимости, конечно, стрелять, и даже на поражение. Однако ни Мстиславу, ни Герасиму еще не приходилось стрелять в живое тело, и вот сейчас при виде отвратительной мишени – этого нажратого сладким составом бандитской жизни Налима они почувствовали, что не смогут его убить. Как-то получится слишком безобразно. Вдруг из него брызнет фонтанчик крови? Вдруг он изольется содержимым кишечника и мочевого пузыря? А ведь вслед за отвращением может возникнуть и жалость. Этот Налим из подлого бандита превратится в вызывающее жалость агонизирующее существо – что тогда?
Словом, на прогулочной палубе теплохода «Шолохов» сближались три растерянных существа. Одна только Маринка, княжна Дикобразова, оказалась на высоте. Она блестяще выполнила свое собственное задание. Провезла по всему маршруту приговоренного «Каналом» злодея, упоила его до вегетативного состояния, вырубила двух его «быков» и наконец достала из сумочки свой маленький пистолет «беретта».
– Каков сюрприз! – шикарно сказала она своим двум сопредседателям. – Вот уж не думала, что вы сами появитесь, мальчики, – соврала она (прекрасно знала, кто появится). – Я была уверена, что вы Дулина пришлете. Впрочем, так лучше, Дулин бы тут полгорода разворотил. Ну что ж, принимайте Налимчика под расписку.
– Сдала меня, сука, – прошелестел губами увядающий Налим. Он навалился на перила и стал выворачиваться наизнанку. Все вокруг размазывалось, и ему казалось, что он сейчас станет таким скользким, что утечет за борт без проблем. Только вот этого не хватало, блевотины.
Наши боевики тащили жертву за пояс. Мстислав поскользнулся, Герасим разъехался. Брякнулась на палубу пара наручников. Налим вылупился: перед ним возник Огромный-Коричневый.
Появление Огромного-Коричневого можно было бы приписать галлюцинации Налима, если бы его одновременно не увидели все участники этой нелепой сцены. Он спокойненько вышел из-за закругления кормовой кают-компании, остановился и, кажется, немного причесал свою огненно-голубую шевелюру. Коричневым в его облике был вообще-то только широченный костюм; что касается огромнос-ти, то она возникла из-за пространства, которое он занял в контексте данной сцены. Детали лица от наших героев ускользнули, если они вообще присутствовали. Он как бы собирался пройти дальше, но тут как бы остановился, как бы привлеченный неуклюжей драмой предполагавшегося теракта. «Зачем вам это надо? – как бы спросил он Мстислава и Герасима. – Хотите, чтобы в башках у вас засела навсегда морская звезда отвращенья и жалости?» Одновременно он и Налиму как бы адресовал следующее: «Перестань испражняться, бандит, не пачкай драмы!» И в тот же самый миг Маринке Дикобразовой было им как бы сказано: «Спрячьте вашу «беретту», мадам, и, подобно цветущей агаве, втяните в себя все содержание этой сцены».
В полной тишине все четверо смотрели на то место, где только что возвышался Огромный-Коричневый. Там, разумеется, уже никого не было.
– Ну хорошо, – произнесла Марина и дала своей крокодильской птичкой пинка в зад своему недавнему обладателю. – Приведите себя в порядок, Федор! А вы, мальчики, забудьте про свои стволы, если не умеете ими пользоваться! Берем улов под жабры и поехали туда, куда я вам скажу. Всем все ясно?
И впрямь началось что-то рыболовное. Марина и Мстислав потащили потомка гусятинской первой фамилии к родной земле. Позади Герасим волочил сверхтяжелый чемодан.
– Что ты туда навалил, Налим? – удивлялся он.
– Скоро увидишь, – косым ртом отвечал вождь ТНТ со странной в таких обстоятельствах угрожающей интонацией.
Чем же был занят во время атаки на Налима владелец парка культуры и отдыха Телескопов-Незаконный? Неужели просто сидел сложа руки и сторожил вездеход? А может быть, просто вытащил все ценное и смотался прочь из повествования? Нет, не похоже это на отпрыска прогремевшего в конце 60-х персонажа. Был он занят своей очередной бочкотаристой чепухой, но, как часто это бывало и с его папашей, чепуха эта принесла неожиданно благие результаты. Практически именно благодаря бестолковому гусятинскому охламону операция наших тоже не очень-то толковых столичных авантюристов завершилась успешно, по крайней мере на данный момент. Применяя тактику «замедления», известную нам по изучению трудов ОПОЯЗА, мы можем потратить лист бумаги для того, чтобы раздвинуть только что завершившуюся сцену.
Едва только его новые друзья и покровители поднялись на дебаркадер, Лелик Т.-Н. заметил в кармане висящего в «Ниве» анорака изрядное количество русских тыщ. Стоит ли говорить о том, что он немедленно приватизировал эту пачку и закосолапил к «храму удачи», как он нередко называл капиталистическое кафе «Стрёма», что возвышалось над пристанью со своими зонтиками «Мальборо». Вот какая странная для России оказалась психология у этого человека: с одной стороны, он понимал, что нельзя упускать свой шанс, что в качестве шестерки при этих динамичных ребятах он сможет вырваться из захолустья, однако, с другой стороны, желание отлакировать «кристалл» шампанским было непреодолимо.
При виде Лёлика буфетчик «Стрёмы» хотел выйти из-за стойки и дать ему пинка, поскольку тот всегда старался расплатиться зонтиками, а зонтики в этом заведении повышенной комфортности принципиально не брали, однако тот, к полному изумлению буфетчика, извлек настоящие бумажные деньги и заказал две бутылки пузырящегося вина «Надежда». Момент огромного, взахлеб, глотка счастливо приближался, но так и не наступил. Не успел Олег (оказывается, не Владимир!) Владимирович открутить проволоку, как заметил в углу террасы свою матушку Серафиму Игнатьевну, которая, полностью неглижируя свой почтенный возраст, восседала там величественно с новым отчимом Т.-Н. Гачиком Шальяном, который был всего на шесть лет старше своего пасынка. С ними за большим столом, составленным из трех маленьких, гуляла вся гусятинская коммерческая элита. Все они уставились на Лёлика, а отчим, не раздумывая, тут же швырнул в пасынка уже откупоренную бутылку «Надежды», поскольку во время последней встречи пообещал разбить ему голову бутылкой. Бутылка пошла, волоча за собой пенящуюся струю. Глядя снизу на ее полет, Т.-Н. понял, что траектория обязательно завершится на его голове, и успел этим предметом задрожать в ужасе. Это была спасительная для него дрожь. «Надежда» лишь чиркнула по щеке мишени и, обдав ее, то есть щеку мишени, сгустком пены, разнеслась вдребезги от соприкосновения с цементным полом террасы. Каждый из осколков этой бутылки мог породить так называемую «экзистенциальную ситуацию», однако довелось это сделать только одному. Этот избранный осколок попал под колено человеку, не имеющему никакого отношения к описанной вспышке страстей.
По странному стечению обстоятельств, на террасу как раз поднялся атлетический юноша Юра Броммель, по кличке – ну, догадайтесь – правильно – Бром. Этот чемпион Гусятинской префектуры по кикбоксингу давно уже дожидался теплых дней, чтобы перейти на шорты. Вид его обнаженных нижних конечностей производил сильное – чтобы не сказать неслабое – впечатление на пассажирок туристских круизов и дам элиты. И вот он появился в своем лучшем виде, красивый, как Ахилл с лицом Купидона. Будь на нем привычные «ливайсы», Бром отделался бы в худшем случае царапиной. В экзистенциальных обстоятельствах осколок без оговорок рассек ему подколенную артерию, как она там называется по-латыни. Мгновение – и он уже плясал на одной ноге, меж тем вторая шла вразнос, поливая посетителей кафе не худшим в округе составом крови. Приплясывая и пытаясь зажать рану, он думал тревожную думу: «Не по делу выступаю, ой, не по делу!»
Вот эта-то сцена и отвлекла двух местных активистов ТНТ – Борю Клопова и Равиля Шамашедшина, посланных организацией на встречу лидера. Круша все вокруг себя, они стали выдвигаться на помощь школьному товарищу, а гусятинская элита встретила бойцов кто с кастетом, кто с шашлычным шампуром. Еще мгновенье, и вся «Стрёма» уже билась друг с другом и фамилий не спрашивала. Милиция в расчете на щедрые контрибуции сгруппировалась вокруг поля боя.
Лёлик Телескопов-Незаконный больше никого уже не интересовал, включая его величественную, как и подобает героиням классики, мамашу. В таком случае он пошел прочь, раз никто не интересуется. С двумя бутылками «Надежды» он проследовал к пристани, где и воссоединился с группой захвата.
Рассейся, мой бедный народ!
Красавица в шиншилловой накидке поразила воображение Т.-Незаконного. Сочный бандитский рот ея распоряжался целой группой мужчин.
– Где ваша тачка? Дерьма пожиже не могли найти? Суйте Налима башкой вниз!
– Pardone, mon cher, je ne voulais pas vous vexer![9]
– Чемодан не забудьте, дурни! Так, я за руль, Славка рядом со мной! Пушки на изготовку, пацаны! Без команды не стрелять! А это еще что за лох к нам клеится?
Тут она уставилась на Телескопова-Н., а тот задрожал всей своей головою, которая не раз своей дрожью выручала его в трудных ситуациях. Вдруг он понял, кто стоит перед ним в такой испепеляющей неотразимости. Да ведь это же не кто иная, как маленькая племянница тети Гортензии Горгорышевой!
– Мариночка, крошечка, да ведь я же тебя в детский садик за ручку водил!
Грубая лесть, как всегда, сработала. Маринка махнула лоху:
– Садись!
Не хочется лишний раз смущать читателя, однако не можем не сообщить, что князья-то Дикобразовы тоже, оказывается, принадлежали к этим стрёмным местам еще с XII века, а то и раньше. В полноводных угодьях стояли их поместья, что поначалу топорщились частоколом, а потом с каждым столетием облагораживались в стиле «Sans-soucis».[10]
Здесь-то и начал их трепать сельский пролетариат, пробудившийся от спячки повиновения, здесь-то он и ощипывал своих князей, как павлинов в засранных усадьбах. Здесь-то и приспособился недорезанный род, ушел, отбросив титулы, в сердцевину очистительного процесса, в ЧК. Так и выжил, так и дотянул до нового очистительного процесса, то есть до приватизации.
Теперь последняя княжна Дикобразова, бывшая аспирантка кафедры франко-германской филологии, а ныне член правления ООО «Канал», с ревом гнала вездеход по ухабам своей родины в пока еще неизвестном автору направлении.
Гусятинские дворы давно уже кончились, гибельная пустыня лежала теперь впереди под химическими составными бесконечного северного заката. Птицы давно уже отлетели от этих мест, а может быть, и попадали на лету. Чернеющий в глубине перспективы комбинат бесповоротно пожрал все сносное. Одни сучья торчали, отражаясь в глубоких лужах дороги, да изредка какой-нибудь мутант покачивался на слабых ногах.
- Довольно, не жди, не надейся.
- Рассейся, мой бедный народ! —
вспоминали филологи. Примерно то же самое, но в других выражениях вспоминал Олег. То же самое, но совсем уже в других выражениях вспоминалось Налиму башкой вниз. Каждый километр дороги казался всему экипажу последним, но все-таки куда-то летели, падая в лужи, пробуксовывая, визжа и скрежеща. И вот наконец направление по сюжету определилось. Химическая пустыня заканчивалась, в стороне от кошмарных чертогов комбината появились белые стены и башни Свято-Семирамидского монастыря. Во время оно кремлевские тираны ссылали сюда неверных жен и слишком пылких любовниц. Маялась тут и Мария Нагая, главного русского изверга любовь и злоба. Не отставали от царей и сатрапы. Десятилетиями держали тут женщин по кельям на цепи якобы для того, чтобы замаливали свои грехи. Множество страшных былин возникло тут среди идиллического пейзажа – истории удушений, отравлений, псиной травли. Нет, все-таки недаром воздвигнут был по соседству Череповидовский комбинат: злобный дух лихолетий всегда витал над большевистскими мероприятиями.
В народе сейчас об этом средневековом «лагере смерти» говорить не любят. Единственный сюжет остался жить благодаря живописи XVIII века. Речь идет о гибели в огне княжны Дикобразовой. Якобы некий петербургский временщик, чтобы избежать гнева императрицы, подпалил келью опальной красавицы. Всем известна большая художественная картина на эту тему: полуобнаженная княжна распростерта на полу, негде укрыться от дьяволов огня, неудержимо рвущихся в камеру через раскаленную решетку окна и полыхающую дверь, и все-таки глаза девушки полны не страха, а дерзости, неукротимого вызова самодурам прошлого; в общем, сильнейший обличительный документ в адрес прогнившего строя.
Маринку Дикобразову дразнили на факультете «княжной Дикобразовой», имея в виду общеизвестную картину. Шутка считалась вполне дурацким клише в той же степени, что и неизбежное упоминание Муму при имени Герасима. Маринка грубовато, в стиле «Двенадцати коллегий», похохатывала: ну и остряки тут у нас подобрались! Никому и в голову не приходило, что однокурсница произросла как раз из тех самых Дикобразовых, что сожженной девушке она приходилась ни больше ни меньше как внучатой племянницей в седьмом колене.
Скрылся за горизонтом комбинат, и засвистели по всему пространству соловьи. Обремененные певчим племенем, свисали над почти непроезжей дорогой кусты сирени. На первой скорости шатко-валко продвигались авантюристы к стенам Свято-Семирамидского. Уже слышно было, как скрипят на последней петле повисшие ворота духовной крепости. Из угловой башни росло дерево. И здесь, оказалось, скособоченный, гипсовый стоит ублюдочек Ильич Владимир. Несколько расколотых или продавленных вывесок лепилось под ранней луной по стене главного монастырского дома. Кое-где все-таки читалось: «школа механизации», «областной коллектор» и обрывки «…черм…», «…адзо…», «…ел ацн…».
Никто не выглянул в окно на шум машины. Нигде вообще не определялось никаких признаков жизни, за исключением какого-то темного провала, откуда шло голубоватое свечение и доносился взволнованный разговор по-испански. Несмотря на разруху, в монастыре, как и повсюду, смотрели мексиканский сериал «Богатые тоже плачут». Это удерживало страну от уличных бунтов.
Маринка проехала мимо главного дома, повернула за угол, пересекла площадь перед частично обвалившимся храмом и углубилась в подобие улочки, спускающейся меж заброшенных строений к реке; очевидно, знала, куда едет. Остановились в тупике перед зияющим проломом с остатками дверной рамы и вывеской «Общежи… ед… ала». Здесь Маринка приказала разгружаться. Ребята вытащили Налима. Голова пленника болталась из стороны в сторону, пока не упала на грудь, окончательно испачкав рубашку.
– Дайте хоть выпить, сволочи, – пробормотал он. Его повлекли наверх по опасной лестнице.
Фары «Нивы» были единственным источником света в закоулке. На лестнице даже говном уже не пахло, не видно было ни кошек, ни крыс – все вымерло за годы перестройки. Оказалось, что строение сливается с крепостной стеной и выходит к реке высоким отвесом. Комната, куда вошли авантюристы – напоминаем: Мстислав, Герасим, Олег Телескопов-Незаконный, ведомые дерзновенной Маринкой Дикобразовой, – была довольно обширным каменным мешком с проломом во внешней стене, откуда открывался вид на острова и протоки Стрёмы. В пролом этот и улетели с шумом то ли птицы, то ли черти. Чей-то преувеличенный глаз глянул внутрь, подмигнул и оставил в покое.
– Вот здесь и разберемся с Налимом, – сказала Маринка. – Здесь нас ни один тээнтэшник не найдет. – Она щелкнула выключателем, неожиданно загорелся свет. В центре комнаты положили чемодан; код замка был Марине, конечно, известен: «Полтава». Откинули крышку. Как и ожидалось, на первом плане фигурировал «калашников», рядом расположились два товарища поскромнее – «макаров» и «блюмкин», к ним гарнир – пяток гранат. Под этим «хардвэа» шел слой мягкого: шелка и кашемиры, личные вещи Налима с фирменными этикетками, ну а ниже, занимая половину всей емкости, лежали пакеты с баксами – общак ТНТ.
У Мстислава разболелась голова, он не чувствовал себя ни мстителем, ни славянином.
– Ну говори, негодяй, зачем уничтожили баграмовцев? – устало спросил он.
Налим ответил маловразумительным клокотанием, но все-таки можно было что-то уразуметь: «сами напросились» или что-то в этом роде.
Маринка подошла к пролому, потянулась в лунном свете:
– Ах, Герка, Герка, ведь это же здесь, вот именно в этой келье мою прапрапрапрапрапрапратетю жгли, а теперь мы здесь с тобой, бандиты нашей родины!
Читатели, друзья, располагайте этот пролом, и лунный свет, и связанную тушу врага как вам угодно, мы же только добавим к вашей мизансцене крепко обозначенные икры на стройных ногах княжны, а также рельеф плеч, освободившихся от шиншилловой накидки.
Герасим развел руками: комментарии излишни, дикобразие момента неотразимо! Мстислав с Олегом тут же покинули помещение. Погасло тусклое электричество. Женщина, ее величество, или, так скажем, ее светлость, потянула старого друга за пояс штанов.
Олег знал, куда ехать. Элита окрестных поселков собиралась по вечерам в баре «Стреляй» возле развалин МТС. Когда они вошли, во мраке среди хрустальных шаров пела финская певичка Юлью Ласканен. Уже в который раз эта женщина нелегкой судьбы отставала тут от тургрупп, увлеченная вымирающим племенем местных блондинов. Каждое утро, отбрыкиваясь от очередного кучерявого, мадемуазель Ласканен клялась сегодня же уехать, однако каждый вечер снова появлялась в «Стреляй» и пела I’m beginning to see the light.[11]
Ей казалось, что ей за это платят, на самом же деле вокруг нее опохмелялось не менее дюжины тунеядцев.
Элита, нахлобучив на носы тяжелые надбровные дуги, нехорошо смотрела на приезжих. Кто-то уже опознал непутевого Лёлика и готовился бить. Мстислав – правая рука в кармане – разговаривал на оксфордском наречии с финкой, чей английский состоял из блюзов. Т.-Н. между тем, не считая денег, набирал из буфета литровые «абсолюты», ящик пива «Синебрюхов», увесистые сервелаты, коими можно было и обороняться, не прибегая к убийству.
– Save me regardless of whether you like me or not,[12] – неожиданно пропела сорокалетняя половая партизанка. Лёлик катанул по полу банку с калифорнийскими артишоками.
– Ложись, бомба!
Так им троим удалось в тот вечер спастись.
В келье, когда они вернулись, было тихо и пустынно, только связанное тело насвистывало, весьма близко к первоисточнику, песню Пахмутовой «Надежда, мой компас земной». Герасима и Марины в келье не было, однако их голоса были слышны поблизости, за проломом, в лунном с черемухой пространстве, в коем не последнюю роль играла струящаяся и будто не оскверненная комбинатом Вольжа.
– Avant tout dites-moi, mon cher, comment vous allez?[13] – нежным шепотом, разносящимся по округе, вопрошала княжна.
– Voila l’avantage d’etre bandit. Vous pouvez lever les yeux sur les bonnes dames de la noblesse,[14] – глуховато, но как-то гармонично, словно контрабас, отвечал ей ее друг.
– С’est bien beau ce que vous venez de dire,[15] – смеялась Дикобразова.
Мстислав выглянул из пролома. Двое сидели, свесив ноги, на выступе стены. Они были похожи на влюбленных школьников. Он позавидовал другу, наш молодой герой. При всей фальши этой ситуации Герка все-таки счастлив в эти минуты. Гулящая аристократка подарила ему классный обман. За это можно отдать ей все лимоны из бандитского чемодана. Он любит ее сейчас, наверное, не меньше, чем я свою пропавшую.
– Кто она?! – вскричали одновременно автор и читатель. Славка надменно повернул башку в нашу сторону. «Mind your own business»,[16] – проговорил он, словно мы были иностранцы.
«Это век каких-то невероятных женщин, – продолжил он свои размышления. – Они сводят нас с ума. Вся перестройка, весь антисоветский подъем возникли под влиянием этих женщин. Вот почему мы не сбежали от танков – потому что эти женщины, эти странные существа были рядом. Они ободрили мужиков, доведенных уже, казалось, до полной импотенции. «Allez-y, mon cher»,[17] – казалось, говорили они, и все в ответ вздымалось непримиримо и окончательно».
Он взял бутылку «Синебрюхова» и устроился в проломе, прислонившись спиной к монастырским вековым кирпичам. Луна смотрела теперь ему прямо в лицо, внимательно изучала. «Я перед тобой, – сказал он ей. – Да, мы связали человека и забрали у него награбленные деньги. Но не убьем, не беспокойся». В дальнем от него углу кельи в темноте копошились незаконный сын литгероя поколения наших родителей со сногсшибательной финкой того же поколения. Самозабвенно там клокотали «абсолюткой». И хохотали. Блаженство всегда приходит неожиданно. И иссыхает так же.
Мстислав за свои 27 лет, похоже, немало повидал. Уже промелькнула фраза насчет тюрьмы, но за что он сидел, когда и как долго, мы пока не знаем. Что говорить – нам пока неизвестна даже его фамилия. Таковы странности начальной фазы. Вдруг проскакивает упоминание пропавшей любви. Кто она, когда она, куда она? Может быть, ее похитили и продали за рубеж?
Пока что мы не можем этого типа расспросить подробно, мы почему-то чувствуем себя скованно с ним, нам не с руки «развивать» его именно здесь, в разрушенном монастыре, после совершенного акта захвата в келье, где двести лет назад сгорела романтическая княжна и где только что ее семижды отдаленная племянница рукояткой «блюмкина» смирила обработанного ею хахаля Налима, чтобы перейти уже в сферы французских чувств. Нам хочется лишь сказать, что пока еще этот Мстислав вовсе не такой, каким хочет казаться, не крутой, хотя и не всмятку, и что этой ночью он втянут в диалог со спутником нашей планеты.
«Ты, Луна, быть может, кажешься себе вечной, – обращается он к ночному светилу. – Ничто не ново под луной, так говорят здешние мудрецы, и из этого вроде бы вытекает, что ты была и будешь всегда. Последняя человеческая смерть, однако, может завершить и тебя, Луна. Со смертью последнего глаза пропадешь и ты, Луна. Что будет с тобой за пределами нашего зрения, безмолвная? Существует ли какой-нибудь твой знак в беззнаковом царстве? На какой URL ты отвечаешь? Не чванься, Луна, мы так с тобой малы даже и перед лицом объективных галактик! Что же говорить о тех обстоятельствах, в которых и галактики теряют свое молоко? Вдруг оказывается, что и они, необозримые, так же малы, как и велики – так же, как и мы с тобой, о Луна». Так обращается он к ней, и Луна как идеальный участник диалога отвечает молчанием.
Он вынимает из кармана мобильный телефончик, отобранный у Налима, и звонит в штаб ТНТ.
– Привет из «Баграма», комса! Завтра можете забрать своего вождя в Гусе под памятником Ленину. – После этого спрыгивает на пол и кричит: – Подъем! Завязывайте с вашим трахнутым сексом, ребята! Собирайте баксы! Первая глава окончена, действие продолжается!
Наутро две сестры-побирушки, тетя Гортензия и тетя Калерия, с удивлением увидели в центре города своего отдаленного племянника Федюшу Окоемова. Он был привязан к ноге Ильича и, кажется, чувствовал себя вполне сносно, учитывая тот факт, что памятник имел почти прямое отношение к его родословной.
Часть II
Кстати о человечестве
Я снял с принтера первую часть и, не перечитывая, сразу вошел во вторую, чтобы «фиксануть себе брекфест», говоря по-эмигрантски. Пока заваривал чай и подогревал краюху хлеба, смотрел в окно на поведение птиц и маленьких животных. Сущая свистопляска. С тех пор как подвесили кормушки, у дома стало порхать множество здешней крылатой братии: все эти финчи, роббины, ориолы и кардиналы; иной раз залетает мэгпай, а то вдруг из зеленых глубин близкого леса, словно воздушный разведчик, пожалует хупу. В данный момент на перилах дека сидит неизвестный принц: густо-оранжевый плюмаж, серебристое жабо, черный торчком хвост, ни дать ни взять елизаветинский вельможа. Вудпеккер, что ли?
Все они, кажется, уже обожрались моим зерном. Во всяком случае, не поднимают, как раньше, шухера, когда налетают белки. Просто сидят вокруг и смотрят, как те раскачиваются, чаще всего головенками вниз, на подвешенных птичьих кормушках, просто ждут, когда грызуны накушаются; полное спокойствие – всем, мол, хватит. Беличье раскачивание кормушек между тем способствует обильному высыпанию зерна, а внизу это благодатное явление природы приветствуют чипманки и разные прочие стремительные чаффинчи.
Так создается общество вэлфэра, идеальная утопия, невиданный коммунизм. Однако, что однако? Дурная профессия не позволяет и тут не спрогнозировать какую-нибудь сложную конфликтную ситуацию. В последнее время я стал замечать, что эти создания начали утрачивать свою подвижность, а ведь бесконечная стремительная подвижность как бы заложена в самом смысле их существования. То и дело можно увидеть, как отяжелевшая задней частью белка сидит без движения на столбике забора. Даже бурундучок, слывущий самым молниеносным животным в мире, а теперь опупевший от полной сытости, застывает на крышке вентилятора и подолгу там пребывает, создавая впечатление то ли перочинного ножика, то ли древнего философа. Беспрерывный поиск пищи составлял суть его существования, а теперь, набив себе брыла, он, видно, задумался о чем-то более фундаментальном.
Вот тут-то и слопает его плотоядная лисица. Тут-то и завяжется конфликт, способный нарушить всю экологию нашего края. Ведь мой дом не одинок в смысле птичьих кормушек. Весь поселок – а рядом десятки других таких же поселков – дает безобидным жителям леса возможность не заботиться о пропитании, а стало быть, открывает и новые перспективы хищникам. Представим себе, что лиса обожралась задумавшимися бурундуками, вот она и сама отяготилась лишними мыслями. Оленю теперь ничего не стоит забить ее своими копытами. Ворон, погуляв по лисе, перестает выполнять свои обязанности санитара леса. У ястреба стало слишком много доступной живинки. Задумавшись о постороннем, он может прекратить свой вечный парящий розыск, упадет и разобьется. Излишние количества трупного яда приведут в конце концов к какому-то патологическому сдвигу – скажем, к возникновению мутантного вида муравьев и к бессмысленному покорению ими всего леса. Вот муравьи-то и начнут осаду человеческих жилищ.
Попивая чай и откусывая понемногу от ломтя подсушенного хлеба, я навязывал себе эти глубокомысленные соображения в духе нашего Центра по анализу и решению конфликтных ситуаций. Мне нужно было отвлечься от первой главы и перестать думать о странной компании персонажей, которая там подбирается. Надо подольше покопошиться во второй, в этом пустом доме «старого иностранного профессора», как меня тут называют.
Снизу поднялся мой единственный сожитель, крупный кот Онегин, как всегда величественный; рыжий хвост трубой. Прыгнул на кухонный стол, презрительно понюхал чайник, после чего стал смотреть на копошение птиц и зверьков. Глаза его то расширялись, то суживались. Вот кто тут мог бы вмешаться в экоцепь, если бы не пристрастился к филе-миньонам. Впрочем, он мог бы завести роман с лисой, и тогда она бы спаслась от копыт оленя. В принципе этот кот, которому я полностью доверяю, мог бы появиться еще в первой главе. Он мог бы, скажем, оказаться хозяином заброшенного монастыря. Тогда бы там все повернулось другим боком, запахло бы паленой булгаковщиной. В специальном журнале написали б: «Стас Ваксино постоянно устраивает сомнительные переклички. Живя в чрезвычайно дальнем зарубежье, он назойливо тревожит контекст нашей литературы».
Нет-нет, Онегин и сам не пойдет в первую главу. Он отвык от могущественных запахов родины. Рожденный на Арбате, он в трехмесячном возрасте перелетел океан в кармане моего пальто, дважды туда написав. Из этой мокрой теплой норы он вылез уже американцем. Отпечатанный на принтере текст он считает окончательным и очень не любит, когда я начинаю чиркать там пером. Выпускает когти, дергает края бумаги. Фыркает, как фыркал когда-то мой первый сын Дельфин, глядя на папины творческие муки. «Что ты все пишешь, пишешь?» – спрашивал четырехлетний мальчик. «Деньги нужны, Дельфин, вот и пишу», – оправдывался я. «Так зачем же тогда зачеркиваешь?» – удивлялся малец.
Надо отвлечься от первой части. Просто забыть, что она существует. Делать вид, что роман не начат. Нет никакой уверенности, что именно с этими людьми надо начинать книгу – с этой говенной, ошалевшей от денег молодежью. В чем их достоинства? В том лишь, что они родились на тридцать лет позже нас? Джаггернаута все-таки развалили отцы, а эти лишь растаскивают остатки. Однако припомни первичные импульсы. Что тебя снова втянуло в многолетнюю авантюру, если не желание найти каких-то гипотетических героев девяностых годов? Вздор, вздор все эти временные деления, десятилетия и даже столетия – чистейшая условность. В литературе давно уже воцарилось клише выделять поколения и приписывать им всякие новые качества, между тем как род человеческий просто идет волна за волной.
Продумывая эту нигилистическую мысль, я застыл с недопитым чаем, а потом пришел к полной ее противоположности: нет, все-таки существует какая-то странная цельность и манящая ностальгия в этих наших временных отрывках и в завораживающих попытках очертить все эти так называемые поколения.
Ну хорошо, вспомни профессиональные навыки. Неделю не надо подходить к первой части. Не думай о вступлении в эпос-хвать-его-за-нос, позволь себе неправильное ударение. Лучший способ завалить роман – это развить в себе страсть к маранию. Этот жанр все-таки хорош своим несовершенством.
Ну хорошо, завтрак завершается, краюха баварского хлеба почти изглодана. Помню, приехав в Америку 18 лет назад, все наше семейство стало увлекаться этими пресловутыми hearty breakfast’ами: огромный стакан свежевыжатого сока, стопка поджаренного бекона, тосты, яйца в разных видах, свиные сосисочки, ячменные блинчики с патокой, здоровенные кружки кофе со сливками. Годы прошли, семейство разбежалось, все меньше хочется жрать. Завтраки сведены к черствой булке и чашке чая – правда, крепкого ткого, британского, бодрящего. Странное дело – от кофе воротит, чай возвращает в актив.
Кстати, о человечестве. Чем оно занято поутрянке? Пора включать коммуникации. На 101,0 все еще идет «неделя биг-бэндов»: трубы, кларнеты и саксы трубят ритмы юности – «У меня есть девчонка в Каламазу». На 119,1 оперная ария «Ах, никогда я так не жаждал жизни» сменяется рекламой кладбища «Лучезарная память», которое только что обогатилось новыми, в готическом стиле воротами. 909,5 в духе нынешней ветреной и холодной весны с ее слабо зеленеющей прозрачностью отдаленных рощ передает клавесинный плеск Боккерини. Оставив этот концерт фоном, включаю CNN. Там, среди боснийских или косовских гор, неторопливо передвигается вооруженная молодежь, «поколение девяностых»: темные очки, флак-жилеты, татуированные конечности. Интересно, что никто не надевает касок. Надо, чтобы по телевизору были видны причесочки или повязки-банданы. Среди множества очевидных причин современных конфликтов есть одна подспудная: нарциссизм. Боевики влюблены в свой молодой пол с изрыгающими огонь стволами. У многих конфликтов есть сексуальный подтекст. Недаром в Чечне и в Сребренице отмечались нередкие случаи кастрации пленных.
В принципе тех ребят, что появились в первой части, нетрудно представить в отрядах повстанцев, в каких-то свободолюбивых и мстительных бандах. Все-таки нужно как-то отделить тех от этих, ведь они вроде бы не такие. Ну хотя бы эти, вдруг выпрыгнувшие ниоткуда прямо в первую главу Мстислав, Герасим, Марина, – у них все-таки глаза не пустые, в них читается грусть, как у всех человекоподобных – посмотрите на горилл. Главное, нужно разобраться в их прошлом, хотя бы упомянуть их семьи, отцов там всяких и матерей. Конечно, я и сам вроде как бы отец этим гомункулюсам, но все-таки они нуждаются в биографии. А еще главнее, надо о них забыть хотя бы на несколько дней. У меня ведь, между прочим, еще семестр не кончился. Курсовые работы нарастают на столе, как тещины блины. У меня была такая третья теща, русофобка Мэрилу. «Это ридикюльно, – кипятилась она, – почему русские приписывают блины себе?! Блин – это древнейшая пища всех народов!» Она затевала блины и пекла их до полного отпада, чтобы посрамить Россию. «Ридикьюлоус, ридикьюлоус», – шипела она, как сковородка, а гора все росла и росла.
Одинокий Стас Ваксино
Я включаю автоответчик и сразу же слышу голос Эйба Шумейкера, своего коллеги по Центру изучения и решения конфликтных ситуаций. «Давай встретимся на ланч перед Вибиге, идет? Мне нужно с тобой говорить. Позвони мне обратно. О’кей?» Эйб предпочитает говорить со мной по-русски. У него почти нет акцента. Десять лет назад его, конечно, принимали за эстонца, но он всегда стремился там сойти за своего еврея. Очень часто так и получалось, пока он вдруг не употреблял какой-нибудь совершенно несусветный прямой перевод. Однажды весь московский бар в изумлении повернулся к нему, когда он заказал «одно стекло вина».
Гош, получается довольно забитый день! Утренний класс, обсуждение двенадцати курсовых работ плюс слайды супрематизма. Проверка e-mail, телефоны, заказ книг на осень. Потом ланч с Шумейкером. Догадываюсь о теме срочной конфиденциальной беседы. О чем бы мы ни говорили, будь это Босния, Кавказ, Восточный Тимор или раннее христианство, – все сводится в конечном счете к одному: как жить ему, одинокому ипохондрику? Засим последует традиционная четверговая дискуссия у нашей директрисы Вибиге Олссон. И здесь все мировые конфликты приводят к самому животрепещущему – к выборам нового провоста. Завершается день в аэропорту, встреча сестер Остроуховых. Значит, до этого надо будет заехать на шопинг в «Свежие Поля»: прокормить трех прожорливых дам не так-то просто.
Разгорается понемногу весна – она, кажется, опять принесет конец моему одиночеству. Не исключено, что вслед за прилетом сестер начнется новое нашествие соотечественников. Десять лет назад, после смерти моей любимой Кимберли, я остался один в этом большущем доме, что задними окнами смотрит в дремучий лес, а фасадом обращен в сторону стеклянных террас «коридора высокой технологии». Ненадолго здесь появилась вздорная Марджи со своей мамочкой, русофобкой Мэрилу, но потом они отправились погостить в Орегон и не вернулись. Я снова остался один, если не считать редких и всегда неожиданных промельков Прозрачного. Я впал тогда в элегическое настроение и утешал себя строчками Анненского про «одиночества прекрасные плоды». Плодов действительно собралось немало – чем еще заняться старику под шум титанических деревьев, если не плодоношением, – однако некому было оценить их прекрасность.
Между тем в Советском Союзе начали приоткрываться шлюзы, и вскоре хлынуло. Друзья звонили день-деньской и извещали о прибытии. Нет, они не напрашивались в гости, они другого и не представляли. Для каждого советского тогда поездка в Америку казалась всемирно-историческим событием. «Вообрази! Я! Еду! В Америку! Ведь меня же никогда никуда! Не пускали (или не посылали, ухмыльнется тут какой-нибудь Фоманевера)! И представь, у кого я остановлюсь, – у Стасика! (Фоманевера делает вид, что не понимает, о ком идет речь, – у Власика?) У Стаса Ваксино, кричит счастливец, того самого, ведь мы с ним когда-то немало ведь водки-то! (Да много ли, думает Фоманевера, но потом сдается: слишком неподделен энтузиазм.)
В апогее этого открытия Америки дом был заполнен под крышу. Народ располагался не только в спальнях, но и в гостиной, и в столовой, где у американцев, в общем-то, не принято располагаться. В какой-то момент даже в гараже пришлось поставить две койки. Подвал вообще стал шумным общежитием. Каждый раз, возвращаясь из университета, я гадал, сколько персон соберется к ужину, и каждый раз ошибался. Иногда было меньше: кто-то неожиданно отлучался, но чаще больше, потому что гости приглашали своих гостей: ведь Стас не откажет, он будет только в восторге, ведь он здесь истосковался без московского-то духа – ну без этой нашей своеобычинки.
Как-то раз я подъехал около двух ночи, когда все огни были погашены. Перешагнув порог, я увидел, что в anteroom, ну, как это по-нашему – в прихожей, что ли, – кто-то сопит на двух сдвинутых креслах. С удивленьем я опознал чету Славостелькиных, они мирно спали валетом.
Из подвала доносился плач ребенка – это, кажется, внучка Марата Абдулова. Наверху, в одной из ванных комнат, что-то ритмично поскрипывало; не обращайте вниманья, маэстро. В гостиной, открыв большую пасть, напевал какой-то вокализ во сне скульптор, который привез в дар Вашингтону бронзовую скульптуру «Пушкин в возрасте Державина». Все диваны здесь были заняты: Марк, Руслан, Ася Дмитриевна, Изя Незабудкин, двое десятилетних детей, Збышек Ржевич (проездом из Варшавы в Мельбурн)… Все четыре спальни, разумеется, были заняты. Меня давно уже оттеснили в кабинет, то есть туда, где я, собственно говоря, и проводил все время, когда был в одиночестве. Двигаясь осторожно, чтобы ненароком на кого-нибудь не наступить, я поднимался по лестнице. В кабинете ждал меня сюрприз. На моем ложе тявкал во сне «поющий и рисующий поэт» Леон Межумышлин. Вчера у соседей Мак-Маевских он всех достал своим псевдопостмодернистским кваканьем с русопятскими завываниями. В завершение «акции» он преподнес хозяевам, людям исключительного благородства, портреты каких-то волосисто-слизистых ублюдков и объяснил, что это их метафизические сути. Затем собрал со всех по двадцатке и испарился. И вот, оказывается, приземлился на моем единственном ложе…
Я стоял посреди кабинета. Луч псевдовечной луны освещал дергающийся кадык псевдопоэта. Почему-то я чувствовал себя глубоко оскорбленным. Это, конечно, сестры О засунули сюда Межумышлина, эти сучки. Совсем зарапортовались в своем амикошонстве. Засунуть в мою единственную койку такого приживалу и бездаря – это уж слишком. Никто в окружении не понимает, что пользуется дурацким гостеприимством большого писателя, крупного деятеля просвещения, незаурядного конфликтолога и просто пожилого человека. Для всех я какой-то полуанекдотический «Стас», которого можно выжить из его собственного дома.
Забрав из кладовки что-то чудом оставшееся из одеял и подушек, я вышел на дек, раскрыл там зонт, чтобы защититься от потоков псевдоромантики, и растянулся на досках. Пусть идиотки увидят, как ночует в своем доме б.п., к.д.п., н.к. и просто п.ч.!
Утром в суете и страшном гвалте – слышали, что Ельцин сказал, что Горбачев сказал, что Хасбулатов придумал? – никто и не заметил моего манифеста. Позднее я узнал, что Межумышлин жаловался в Москве, что Ваксино выгнал его на дек и он там спал на голых досках.
Читатель, конечно, скажет: а на фига вы, маэстро, так распахнули свой дом, что вас грело в вашем хаотическом гостеприимстве – тщеславие, желание показать себя американским благодетелем; может быть, вы ждали благодарности от вновь обретенных соотечественников? Смешно, советский человек не любит произносить слово «спасибо» – для него это сущая мука. Этимологически это слово для него пустое место. Как-то следовало повести себя более рационально, Стас Ваксино, в вашем-то возрасте.
Вы прав, читатель. А может быть, и ошибаешься. Я не знаю. Качу все на сестер, этих трех парок Чехова. Именно они, раз появившись, завели манеру приглашать в дом всякого, кто позвонит, «из наших».
«Ваксино, – говорили они, – а как же иначе? Люди хотят тебя видеть, хотят приобщиться. Ведь каждый дрожит: а вдруг большевики опомнятся и закроют границу?» Такая логика была мне абсолютно понятна, должен признаться. Уж не говорю о том, что внимание действительно льстило. Как-то ободряло – ведь еще недавно большинство этих друзей побоялось бы и приблизиться к «врагу народа».
Как сейчас вижу наши шумные завтраки. Народ спускается на кухню, расползается по комнатам и лестницам, иные с тарелками и кружками кофе выходят в сад, усаживаются вокруг Пушкина (скульптуру город не принял, она и по сей день стоит у меня в саду), все галдят о России, никто ничего не спрашивает об Америке, а я спускаюсь к ним как благодетельный сюзерен и стараюсь не обращать на себя внимания.
С отъездом сестер поток гостей сократился. Вообще, за последние годы российский путешественник изменился. Сейчас приезжают с долларами, останавливаются в гостиницах, часто находят тут работу и запросто сливаются с эмиграцией. В последнее время, проходя по пустым комнатам, я нередко не без теплоты вспоминаю прежние дни. Вот был табор! И, как положено в таборе, гитара, конечно, процветала. Всегда находился какой-нибудь бард, если не сам Булат. О великие наши барды!
Впрочем, одиночество нас не гнетет – ни меня, ни Онегина. Слишком много дел, чтобы заняться одиночеством. Думаю, что не открою секрета, сказав, что у сочинителя, особенно принадлежащего к направлению Ваксино, всегда найдется, с кем пообщаться, будь это персонаж или читатель. Онегин тоже занят. Когда я пишу, он лежит на столе, тихонько поет песнь очага. Уезжая, я выпускаю его в сад, откуда он часто переходит в лес. Нет никаких причин за него волноваться – в округе никто не осмелится заострить коготь на такого кота. Сам он тоже ни на кого не нападает, потому что перманентно сыт. Попугать, конечно, может. Часами бродит по поселку и по кромке леса, что-то ищет, чего-то ждет. Кошки все вокруг кастрированы, а он, наверное, жаждет романтики. Не исключаю, что когда-нибудь он все-таки уделает лису. Вернувшегося папу Онегин тщательно обнюхивает и все узнает, что было за день: сигарета, стакан каберне, чикен-сэлад с крутонами.
Ну хватит, экспозиция нашего второго (если не первого) плана затянулась, хотя почти ни слова еще не было сказано об огромных деревьях леса и заселенных пространств, о среднеатлантическом величии ветвей и листвы. К ним мы еще вернемся, господа, а пока что я сажусь в свой старый jug и отправляюсь в университет Пинкертон – Боже, благослови его студентов и преподавательский состав!
Пинкертон
Наш основоположник был вовсе не сыщиком, а наоборот – что значит наоборот? – ну, основоположником, просветителем XVIII века. Все здесь проникнуто этим Пинкертоном. Сначала едешь по парквею Пинкертона, потом проезжаешь городок Пинкертон с его хорошо известной Галереей Пинкертона, вслед за чем въезжаешь уже на кампус нашего университета, где роятся студенты в розовых майках с надписью «Go Pink!»[18] и где стоит статуя самого мистера Пинкертона. Так было в Ленинграде с Лениным – с той лишь разницей, что большевик ничего не пожертвовал городу, а лишь скрывался там от полиции, чтобы впоследствии узурпировать власть и его название. Наш кумир не похож на оголтелого с броневика у вокзала. Он стоит без пьедестала посреди выложенной плиткой площади, в чулках, в туфлях с пряжками, в паричке. В руке он держит книжку, а не смятый кепарь, а наклон его тела демонстрирует склонность скорее к менуэту, чем к бешенству. Тяжеловатое в нижней части лицо снабжено сверху благожелательным, общепросветительным выражением глаз. Непредвзятый созерцатель, конечно, заметит сходство с Виктором Степановичем Черномырдиным. Что касается второй его руки, то она лежит на столике рядом с томами Локка, Хьюма и Руссо, до которых мы с Виктором Степановичем вряд ли когда-нибудь доберемся. Великолепная работа по металлу?
Эйб Шумейкер перехватил меня возле мистера Пинкертона, и мы отправились на ланч в преподавательский клуб. Когда с ним рядом идешь, видишь, что это детина едва ли не баскетбольного роста. А вот издали он иногда производит впечатление обыкновенного университетского доходяги: впалая грудь, сутулые плечи, неизменный твидовый пиджачишко, мешковатые и коротковатые штанцы, всегда обременен книжной кладью. Ко всему этому отличается еще странной походкой с периодическими как бы приседаниями. Как у всех ипохондриков, постоянные метаморфозы происходят у него с цветом лица и выражением глаз: то вдруг разрумянится, засверкает, словно тридцатилетний мальчишка, то весь потухнет, посереет, будто на пенсию пора.
В общем-то, ему уже слегка за пятьдесят, но он только год назад получил звание «полного профессора». В ЦИРКСе (так мы с ним по-русски сокращаем название нашего департамента) Шумейкера ценят как трудоголика, полиглота и очень серьезного политолога, однако он не принадлежит к числу лиц, о которых говорят на кампусе. Мы с ним считаем себя друзьями, хотя это совсем не та дружба, что культивируется в Москве и в которую непременным атрибутом входят многочасовые сидения на кухне с водкой и обсуждением жизненных драм. Здесь у нас все основано на сдержанности, тут пока еще, во всяком случае в университетах, царит цивилизация understatement’а – не знаю, как перевести – недоговоренности, что ли. Будучи друзьями, мы с Эйбом почти не встречаемся вне кампуса, только иногда, очень редко, ездим в Д.С. на игры NBA. У меня нет ни малейшего представления о его семейной ситуации, но по его заношенным рубашкам можно судить, что она не из блестящих. В свою очередь, он ничего не знает о моем одиночестве, перемежаемом описанными выше столпотворениями.