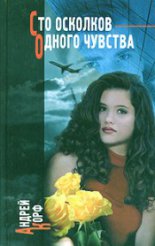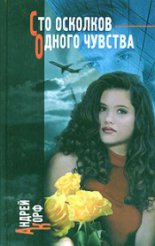«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского Сборник статей
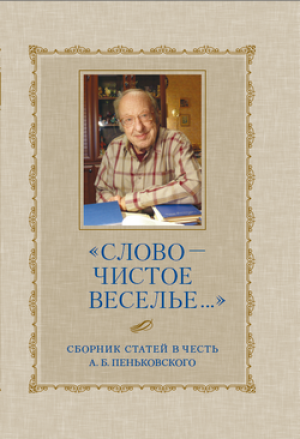
В первом отрывке повествователь, рассказывая о своем знакомстве с Онегиным («Условий света свергнув бремя, / Как он, отстав от суеты, / С ним подружился я в то время» — 1-XLV), говорит об «игре страстей», вёдомых и ему, и герою, о «погасшем» «жаре сердца», упоминает в следующей строфе о какой-то «змие воспоминаний» и о «раскаянье», «грызущих» душу Онегина; весьма сомнительно, что эти страсти, жар сердца, воспоминания и раскаянье могли относиться к любовным победам Онегина над «кокетками записными» и «красотками молодыми» с помощью тех утонченных приемов, о которых столь подробно было поведано читателю ранее – в строфах X–XII («Как рано мог он лицемерить, (…) Как он умел казаться новым, (…) Как рано мог уж он тревожить / Сердца кокеток записных»), Следующая XLVII строфа – начало описания петербургской белой ночи, столь пленившего в свое время Плетнева, – относит повествователя и героя «к началу жизни молодой»: они вспоминают «прежних лет романы» и «прежнюю любовь».[20]
Во втором отрывке речь снова идет о «страстях», занимавших «умы пустынников моих»: в беседах с Ленским Онегин, «ушедший от их мятежной власти», говорит о них «с невольным вздохом сожаленья» (2-XVI1); при этом он, «в любви считаясь инвалидом», внимательно и серьезно слушает любовную исповедь Ленского – «страстей чужих язык мятежный». Из всего контекста ясно, что Онегин слушает рассказ о том, что некогда пережил сам.
По-видимому, наиболее значительное свидетельство глубокой ранней любви Онегина дает третий из упомянутых отрывков – начало четвертой главы. Не касаясь выпущенных Пушкиным шести начальных строф, необычайно важных в интересующем нас отношении и существенно подтверждающих версию автора «Нины», остановлюсь лишь на тех, которые оставлены в тексте романа. Строфу VIII, излагающую мысли и повествователя, и Онегина (следующая строфа начинается так: «Так точно думал мой Евгений»), следует привести целиком (о ней уже шла речь выше в «лексикографической» части статьи):
Кому не скучно лицемерить, / Различно повторять одно; / Стараться важно в том уверить, / В чем все уверены давно; / Всё те же слышать возраженья; / Уничтожать предрассужденья, / Которых не было и нет / У девочки в тринадцать лет! / Кого не утомят угрозы, / Моленья, клятвы, мнимый страх, / Записки на шести листах, / Обманы, сплетни, кольца, слезы, / Надзоры тёток, матерей, / И дружба тяжкая мужей!
Загадочная «девочка в тринадцать лет», кажется, до А. Б. Пеньковского не привлекала внимания комментаторов. Автор «Нины» предлагает такое истолкование (с. 140/155—156): у тринадцатилетней девочки нет тех «предрассуждений», которые были присущи героине трудного юношеского романа Онегина и которые ему пришлось преодолевать и уничтожать. Я склонен согласиться с таким истолкованием, кому-то оно может показаться спорным, однако это все же какая-то попытка предложить объяснение места, оставшегося вне поля внимания других исследователей. Далее в этой строфе перечисляются обычные «атрибуты» романа– адюльтера, в котором героиня пытается всеми способами удержать любовника, родные видят неблагополучие, а мужу-рогоносцу оно неведомо: моленья, клятвы, записки, обманы…, кольца…, дружба тяжкая мужей. Кольца в данном случае следует понимать в предикатном смысле – как «обмен кольцами» (см. описание этого слова выше): героиня пыталась обменом кольцами скрепить союз с возлюбленным или оставить себе память о нем, а ему – о ней. Можно представить, как все это тяготило (если не бесило) Онегина.
В следующей IX строфе снова говорится о «необузданных страстях», жертвой которых «в первой юности» был Онегин, а через строфу – в XI – упоминается «чувствий пыл старинный», ненадолго овладевший Онегиным после получения письма Татьяны. И в «исповеди»-«проповеди» Татьяне Онегин говорит о «волненье» «давно умолкнувших чувств» (строфа XII), о своем «прежнем идеале» (XIII) и о том, что он «не обновит души» своей (XVI).
Четвертый отрывок относится к последней восьмой главе. На следующее утро после встречи с Татьяной на рауте Онегин получает письмо от князя N с приглашением на вечер, и повествователь вопрошает: «Что шевельнулось в глубине / Души холодной и ленивой? / Досада? суетность? иль вновь / Забота юности – любовь?» (8-ХХІ). Думается, вполне возможна интерпретация последнего фрагмента не в обобщенном смысле, а в частном – как любви Онегина в юности.
Однако ключевой для нашей темы в восьмой главе является XXXVI строфа (о которой тоже уже шла речь):
И что ж? Глаза его читали, / А мысли были далеко; / Мечты, желания, печали / Теснились в душу глубоко. / Он меж печатными строками / Читал духовными глазами / Другие строки. В них-то он / Был совершенно углублён. / То были тайные преданья / Сердечной, темной старины. / Ни с чем не связанные сны. / Угрозы, толки, предсказанья. / Иль длинной сказки вздор живой, / Иль письма девы молодой.
Четыре строки в этой строфе – с 9-й по 12-ю – сходствуют с первым катреном V строфы пятой главы:
Татьяна верила преданьям / Простонародной старины. / И снам, и карточным гаданьям, / И предсказаниям луны.
Лексический и синтаксический параллелизм этих двух отрывков удивителен и знаменателен, и он вполне может навести читателей и исследователей на прямое народно-фольклорное истолкование обсуждаемой строфы, в соответствии с которым Онегин приобщается в своем кабинетном заточении к миру фольклорной старины и народной поэзии, духовно перерождается, становится ближе к глубинным национальным корням (таково было мнение Г. А. Гуковского, а вслед за ним – Ю. М. Лотмана, Ю. Н. Чумакова, Н. Д. Тамарченко и др.). Однако, как показано в «Нине» (с. 105–107/117—120), ничто в романе этого не подтверждает: Онегин чужд миру «народной поэзии, простоты и наивности». Если же осмысливать слова преданье, старина, сон, сказка в данной строфе так, как предлагает Пеньковский и как это было воспроизведено выше, – читатель может посмотреть на его осмысления, приводимые в настоящей статье, – тогда можно предположить, что в этом отрывке речь идет о сумеречном сознании Онегина, читающем «строки „сказки– повести“ о его собственной жизни, которую он – одновременно и автор, и читатель, и герой – теперь, подвергая суду и переоценке, воспринимает как нечто мелкое, пустое и ничтожное – как «вздор»» (с. 113/125). И письма девы молодой естественно отнести не к Татьяне, написавшей только одно письмо Онегину (и поэтому множественное число в применении к нему здесь неуместно), а к давней героине его петербургского романа – замужней дамы (вспомним записки на шести листах из VIII строфы четвертой главы). Слово дева в поэтическом языке Пушкинского времени было вполне применимо к замужней женщине – это тоже обширно иллюстрируется А. Б. Пеньковским.
Соглашаясь с истолкованием XXXVI строфы восьмой главы, предложенным автором «Нины», я все же хотел бы подчеркнуть значимость лексико-синтаксической переклички двух приведенных отрывков, которой в «Нине» не уделено должного внимания. Думается, эта перекличка не случайна, она нуждается в осмыслении: почему о Татьяне в пятой главе и об Онегине в восьмой автор говорит одними и теми же словами, пусть и осмысляемыми по-разному? Может быть, это своего рода «сюжетная рифма», но если так, то – в отличие от рассматриваемых в «Нине» «сюжетных рифм» романа – она понимается в плане противопоставления (а не в плане сходства). Здесь мы сталкиваемся еще с одной из загадок «Евгения Онегина».
Итак, очерченная выше сюжетная канва из четырех отрывков романа в стихах, мне кажется, весьма красноречива. Если не соглашаться с версией юношеского романа Онегина с замужней дамой, тогда нужно думать о каких-либо других объяснениях этих загадочных фрагментов, которые представляют собой только отдельные выступающие вершины подводного сюжетного хребта «Онегина» (этот удачный образ принадлежит автору «Нины»), А если учитывать активно привлекаемые А. Б. Пеньковским черновые варианты, отброшенные строфы и строки, объем свидетельств в пользу данной версии станет значительнее: начальные строфы четвертой главы, не допущенные автором в окончательный текст, подробно анализируемые в «Нине» (с. 102/114 и сл., где акцентируются исключительно важные варианты: «Я отрок был и мною правил / Ваш хитрый слабый милый пол» – и особенно существенный для версии автора «Нины»: «В 15 лет уж мною правил…» – с. 125/139); первоначальный вариант XVII строфы второй главы, находящейся во втором фрагменте намеченной выше сюжетной канвы («Но вырывались иногда / Из уст его такие звуки, / Такой глубокий чудный стон, / Что Ленскому казался он / Приметой незатихшей муки» – с. 94/105); записи онегинского альбома…
Читатель, надеюсь, смог убедиться в обилии тонких наблюдений у автора и его проникновении в семантические глубины Пушкинского романа. Приведу еще один пример такого рода. Зоркость исследователя я хотел бы продемонстрировать на примере анализа двух строф, относящихся к именинному балу в пятой главе. Автор отмечает противоречивость в описании состояния Татьяны после появления Онегина (строфа XXX): «Едва ли высшая степень бледности ("утренней луны бледней") и "трепет гонимой лани" совмещаются с "пышущим бурно жаром"» (с. 264/295), и это противоречие «обнаруживает смешение двух наблюдательских позиций и точек зрения: сочувствующего Пушкина (может быть, точнее сказать – повествователя) и пристрастно судящего, почти издевающегося Онегина» (с. 263/295). Возможно, причина внутреннего бешенства Онегина состоит в том, что он увидел и во всей обстановке именинного бала, и в поведении близкой к обмороку Татьяны, и в шутовском куплете Трике пародию на те петербургские балы, на которых были свои «траги-нервические явления» и свои «стихи».[21] – Четырьмя строфами ниже мы наблюдаем – отмечает автор «Нины» – какие-то нелепые «захлебывающиеся и застревающие во рту» (с. 266/298), чередующиеся вопросительные частицы и разделительные союзы:
Пошли приветы, поздравлены; / Татьяна всех благодарит. / Когда же дело до Евгенья / Дошло, то девы томный вид, / Ее смущение, усталость / В его душе родили жалость. / Он молча поклонился ей, / Но как-то взор его очей / Был чудно нежен. Оттого ли, / Что он и вправду тронут был, / Иль он, кокетствуя, шалил, / Невольно ль! иль из доброй воли, / Но взор сей нежность изъявил; / Он сердце Тани оживил (5-ХХХІІ").
Еще до знакомства с «Ниной» я отрицательно оценивал поэтическое качество этой строфы, и она казалась мне странной в окружении свободного повествования поэта-мастера. Как-то кургузо усечено красивое имя героя в позиции рифмы в третьей строке; искусственно выглядит сочетание родили жалость; мелодичные плавные аллитерации (показанные полужирным шрифтом) выглядят совершенно ненужным украшением; в 12-й строке вопросительная частица ль (перед восклицательным знаком, совершенно напрасно убираемым в современных изданиях «Онегина»[22]) паразитирует в соседстве союза иль; громоздок синтаксис завершающего строфу периода – «Оттого ли… но…». Тот, кто согласится с недоумением А. Б. Пеньковского (и автора настоящей работы) по поводу несовершенства этих стихов, должен оценить и предположение автора «Нины»: внешне поэт предоставляет читателю догадываться о причинах нежности «взора очей» героя, а «дефекты» стиха выдают его истинный мотив – притворство (автор «Нины» напоминает нам об Онегине из первой главы: «Как томно был он молчалив, (…) Как взор его был быстр и нежен» — 1-Х).
Богатство материала, представленного в «Нине» – как в основном тексте, так и в обширных примечаниях, – производит большое впечатление. Среди отступлений особенно выразительны антропонимические экскурсы. Читатель погружается в далеко ушедшую от нас жизнь современников Пушкина, в их дела, заботы, быт, привычки, языковые игры, в ход журнально-газетной литературы. Подчас обилие цитат, привлекаемых автором для подтверждения той или иной мысли, может быть, превышает разумный уровень. У меня, случалось, возникал при чтении «Нины» вопрос: не переходит ли увлеченный автор иногда определенную грань в обосновании своих построений? Как уже говорилось, эмоциональный тонус «Нины» необычайно высок, и я вполне могу понять некоторых коллег-филологов, отмечавших эмоционально-интеллектуальное давление со стороны автора «Нины», своего рода заклинания. Книга, вероятно, выиграла бы, если бы автор внес в нее больше спокойной аргументации и убрал эмоциональные всплески.
В заключении автор «Нины» говорит о том, что язык Пушкинского времени столь существенно отличается от современного русского языка, что его следует признать по существу другим языком, очень близким к нашему, но все же другим (с. 472/580). В данном случае я вынужден заявить о своем решительном несогласии с этим тезисом автора «Нины».
Здесь уместно задать вопрос: в каких случаях мы говорим о двух идиомах[23] как о принадлежащих к одному языку, а в каких – как о представителях разных языков? Мне представляется, что строго научных критериев здесь нет и быть не может, ибо принадлежность к одному языку устанавливается в общем и целом интуитивно – на основе ощущения степени понятности: насколько у носителей одного идиома есть ощущение понятности речи или текстов, порождаемых представителями другого. Если различия между идиомами не переходят через некоторый нестрогий порог (по-видимому, не поддающийся формализации) и если сами их носители соглашаются с единством их языка, мы имеем дело с одним языком, в ином случае – с разными. При таком согласии носителей языка различия между идиомами вовсе не отменяются; часть таких различий может фиксироваться сознанием говорящих, а часть может находиться за порогом языкового сознания. Путешествуя по России, мы в очень многих местах услышим речь или прочитаем тексты, существенно отличающиеся – в семантическом, синтаксическом, морфологическом или фонетическом отношении – от нашей языковой практики, однако с уверенностью признаем их принадлежащими к единому русскому языку.
В отношении языка Пушкинской поры имеет место именно такое положение вещей: у нас есть полное ощущение его понятности и близости нашему языковому сознанию. Верно, что иногда – даже нередко – это ощущение нас подводит, и мы не видим некоторых нюансов, совершенно явных для читателей Пушкинского времени. Многое изменилось, однако если поставить мысленный эксперимент и переместить среднего современного россиянина на полтора-два века назад, вряд ли можно усомниться, что он легко установит языковой контакт с предками– соотечественниками. Если все же настаивать на том, что литературный язык Пушкинской поры и современный литературный язык – это разные языки, тогда нужно пересмотреть очень многое в нашем обыденном представлении о тождестве языка. По моим представлениям, язык, скажем, Андрея Платонова отличается от современного общелитературного языка едва ли не в большей степени, чем язык Пушкина и многих его современников.
Мне представляется, что не следует отказываться, как к этому призывает А. Б. Пеньковский в заключительном разделе книги (с. 472/580), от традиционного понимания современного русского литературного языка в соответствии с формулой «от Пушкина до наших дней». На мой взгляд, это хорошая и справедливая формула: при всех существенных изменениях современный русский литературный язык таков, каков он есть, именно благодаря уникальной языкотворческой деятельности «первенствующего поэта русского» (из дневниковой записи А. Н. Вульфа 1827 г.). И мне думается, что современные толковые словари русского языка должны были бы в большей мере отражать смысловые особенности языка русской старины, в том числе и те, которые обнаружены А. Б. Пеньковским (как в опубликованных работах, так и в его публичных выступлениях). Язык, взятый в синхронном состоянии, сохраняет историческую память на всех уровнях; он не является монолитным, не отделен преградами от своих предшествующих состояний.[24] Многие значения слов, представляющиеся архаическими, устаревшими ит. п., могут в определенных контекстах актуализироваться, всплывать на поверхность, причем так, что носители языка не замечают ни налета архаики, ни языковой игры. Так, по поводу многих примеров, отмеченных выше в «лексикографической» части данной статьи, я полностью согласен с А. Б. Пеньковским: современному языку чужды упомянутые выше «архаические» значения таких слов, как преданье «воспоминание», сказка, повесть «поток жизненных событий, хранящийся в чьей-либо памяти», «тоскливые» значения слов скука, зевота, лень… Однако не во всех случаях дело обстоит с такой полной очевидностью. Скажем, слово старина в значении «давно прошедшее для кого-либо время» присутствует, думается, и в современном языке: вполне нормально, например, такое высказывание — Какая же это старина! – в применении к воспоминаниям о давнем для собеседников прошлом или при взгляде на фотографию, относящуюся к давнему для них времени. Не кажутся мне особенно архаичными и такие фразы: В старину я неплохо играл в шахматы. Посидели, старину вспомнили; Зачем старину ворошить? Ясно, что это значение занимает в слове СТАРИНА не такое место, как полтора-два столетия назад, – сейчас оно маргинально и несколько архаизировано (в современных словарях оно должно было бы помечаться каким-то особым образом, чего нет, например, в Малом академическом словаре).
Помимо «Нины», А. Б. Пеньковский опубликовал и другие интересные этюды, посвященные «загадкам пушкинского текста и словаря» [Пеньковский 19996; 1999в; 1999 г; 2000], в которых замечательно продемонстрированы лексические значения и культурный ореол целого ряда слов; часть таких этюдов вошла в книгу [Пеньковский 2005].[25] В некоторых его публичных выступлениях подробно рассматривались лексические расхождения между Пушкинским и современным языком, не отмеченные в публикациях. В частности, он сделал ценные наблюдения и обобщения, касающиеся «большей масштабности» (точнее – более широкого диапазона применимости) в Пушкинское время целого пласта русских слов, которые могли применяться к ситуациям и малого, и большого масштаба, и к любым промежуточным в соответствующем диапазоне. Одно из таких слов — старина, но, как следует из замечаний непосредственно выше, для современного языка, по-видимому, не чужд его «малый масштаб» – применимость к событиям одной человеческой жизни. Во многих же случаях с Пеньковским трудно не согласиться. Слово гостить раньше могло обозначать «малый масштаб» пребывания в гостях — Он два часа у нас гостил, – а сейчас такая фраза звучит несколько необычно: нужно провести в гостях достаточно много времени – как правило, хоть раз переночевать, – чтобы можно было обозначить соответствующую ситуацию глаголом гостить. Или слово восвояси, в современном языке значащее примерно «к себе домой – откуда-то достаточно издалека», а в Пушкинское время, согласно предъявленному Пеньковским материалу, могущее относиться и к перемещению в место постоянного пребывания из близкой точки (тогда можно было сказать Князь ушел восвояси и в случае ухода князя в кабинет или спальню из гостиной). Или слово повсеместно, ныне предполагающее достаточно обширную сферу распространения чего-либо, а в давние времена допускающее и «малый» масштаб (сейчас странновато звучит фраза типа У нее на спине повсеместно сыпь, а в Пушкинское время – вполне нормально).
Хотелось бы надеяться, что разыскания автора «Нины» рано или поздно найдут своё воплощение в словаре, который достаточно полно отразит лексическую семантику Пушкинского времени, ее культурный ореол, ее расхождения с современным языком. О проекте и предварительных материалах такого словаря А. Б. Пеньковский рассказал в феврале 2000 г. в своем ярком докладе на IV Шмелевских чтениях, назвав его «дифференциальным словарем языка Пушкинской эпохи». Значение словаря такого рода для русской филологии и русской культуры в целом трудно переоценить.[26]
P. S. Книга А. Б. Пеньковского, его лингвистические наблюдения и его опыт объяснения некоторых неясных мест Пушкинского романа нуждаются в длительном осмыслении и освоении в нашей филологии и культуре. Требуется немалый труд и внимание, чтобы по достоинству оценить незаурядные лингвистические и историко-литературные достижения этой замечательной книги, по-настоящему разобраться в ее противоречиях, ее слишком категорическим суждениям придать статус гипотез, ее спорные построения трезво квалифицировать соответствующим образом. Здесь неуместна как безоговорочная некритическая хвала, так и огульная хула. Хотелось бы надеяться, что предложенный в данной работе разбор лишь один из первых шагов на пути осмысления «Нины». Ему предшествовали еще два отзыва на «Нину» – [Либерман 2000] и [Булкина 2000], – о которых мне хотелось бы сказать несколько слов.[27]
Оба они достаточно кратки по сравнению с настоящей статьей; отзыв А. С. Либермана ориентирован сугубо положительно, можно сказать – хвалебно, а отзыв И. С. Булкиной – отрицательно. Ограниченность объема отзывов не позволила авторам провести подробного разбора книги. В отзыве Либермана существенной критики нет, отзыв же Булкиной сосредоточен в основном на слабостях книги. Удивляет менторски снисходительный тон И. С. Булкиной по отношению к незаурядному труду, который она высокомерно называет «отнюдь не бесполезной книгой» [Булкина 2000: 383], а всё достоинство которого видит лишь в «замечательно интересных антропонимических наблюдениях» [Там же: 385] и в некоторых существенных дополнениях к «Словарю языка Пушкина». Зато критики, преимущественно необъективной и порой профессионально несостоятельной, на трех неполных журнальных страницах у Булкиной предостаточно. Коснусь некоторых ее нападок.
• Не верно, что А. Б. Пеньковский «в примечаниях впадает в полемику (…) с А. С. Немзером и А. Л. Зориным» [Булкина 2000: 383], – автор «Нины» их дополняет, см. примеч. 90 к Части первой: «А. Л. Зорин и А. С. Немзер увидели в этом ответе «очевидную» "проекцию на карамзинскую повесть" (…) Не исключая такой возможности, следует учитывать (…)» (с. 404).
• Булкина, утверждающая, что она «вовсе не травестирует исследовательский сюжет Пеньковского, а близко к тексту пересказывает главы 3.3 (…) и 3.4» [Там же: 385], на самом деле занимается именно травестированием – переиначивает упомянутые главы книги, сводит интересные размышления автора «Нины» о действительно немалой роли куплета Трике в сюжете романа к превращению Пушкина в мосье Трике, а всего романа – в его куплет.
• Глубокие лингвистические наблюдения автора в связи со словом дева (см. выше в настоящей статье) Булкина называет «лингвистическими эмпиреями», а вполне законное привлечение, помимо Пушкинских текстов, также и произведений других авторов Пушкинской поры (например, Бенедиктова) для уяснения смысла слова в Пушкинское время аттестует «свидетельство ванием за Пушкина» [Там же].
• Приписывая автору «Нины» «невероятные умозаключения, вроде того, что "Граф Нулин" и «Бал» вышли под одной обложкой потому, что оба автора "были жертвами одной общей для них Нины" (с. 342)» [Там же: 386], Булкина (впрочем, может быть, ненамеренно и незлостно) опускает скобки, охватывающие вставное предложение, которое она делает главным в своем пересказе. Вот соответствующая цитата, взятая со стр. 342 «Нины»: «(…) он (Пушкин) мысленно обращается (…) к Баратынскому, (…) будущему автору «Бала» (…). Пушкин опередил его со своей Ниной ("Бал" выйдет только через два года и под одной обложкой с "Графом Нулиным"), поскольку оба они были жертвами одной общей для них Нины и оба жили «страстями» по А. Ф. Закревской». Стало быть, следствием является не выход поэм под одной обложкой, а нечто другое – общий характер взаимоотношений поэтов.
При чтении таких «критик» мне обычно вспоминается восклицание Чаадаева «Какие они все шалуны!», воспроизводимое в главе XXXIII Части четвертой «Былого и дум» по поводу общения автора с петербургским обер-полицмейстером Кокошкиным («Кокошкин держит в руках бумагу, в достоверности которой не сомневается, на которой стоит № и число для легкой справки, в которой написано, что мне разрешается приезд в Петербург, и говорит: "А так как вы приехали без позволения, то отправляйтесь назад", и бумагу кладет в карман»).
Список литературы
Бродский 1950 —Бродский Н. Л. Евгений Онегин: роман А. С. Пушкина. М., 1950.
Булкина 2000 — Булкина II. [С.] [Рец. на кн.:] Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999 // Новое литературное обозрение. 2000. № 44.
Еськова 1999 —ЕсъковаН. А. Хорошо ли мы знаем Пушкина? М., 1999.
Зализняк 2000 — Зализняк А. А. Лингвистика по А. Т. Фоменко // История и антиистория: Критика «новой хронологии» академика А. Т. Фоменко. М., 2000.
Зализняк 2004 — Зализняк А. А. Древненовшродский диалект. 2-е изд., перераб. М., 2004.
Кобозева 2000 —КобозеваII. AI Лингвистическая семантика: Учебн. пос. М., 2000.
Кравченко 1999 — Кравченко Н. П. Семантический синкретизм в языке А. С. Пушкина // Научный и образовательный журнал (Изд. Кубанского гос. ун-та). 1999. 15/99.
Лермонтов 1935 —Лермонтов AI. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. T. IV / Ред. текста и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1935.
Лермонтов 1956 —Лермонтов AI Ю. Сочинения: В 6 т. Т. 5: Драмы / Под ред. Н. Ф. Бельчикова, Б. П. Городецкого, Б. В. Томашевского; ред.?тома – Б. П. Городецкий. М.; Л., 1956.
Либерман 2000 — Ли берм ан А. [С.] [Рец. на кн.:] Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999 // New York Review. 2000. № 217.
Лотман 1980 — Лотман Ю. AI Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1980.
Николаева 1996 —Николаева T. AI «Бусый волк» Игорь и «оборотничество» пушкинских персонажей//Русистика. Славистика. Индоевропеистика. М., 1996.
Пеньковский 1999 — Пеньковский А. Б. Об «антипоэтическом характере» Онегина, или Как читать Пушкина // Пушкин и теоретико-литературная мысль. М., 1999.
Пеньковский 1999а — Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999.
Пеньковский 19996 — Пеньковский А. Б. Загадки пушкинского текста и словаря. «Нет… ни балов, ни стихов». М., 1999.
Пеньковский 1999в — Пеньковский А. Б. Загадки пушкинского текста и словаря. 1. Квакер // Художественный текст и культура. Владимир, 1999.
Пеньковский 2000 — Пеньковский А. Б. Пушкинский текст и текст культуры. Котильон // Поэтический текст и текст культуры: Междунар. сб. науч. трудов. Владимир, 2000.
Пеньковский 2003 — Пеньковский А. Б. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003.
Пеньковский 2005 — Пеньковский А. Б. Загадки пушкинского текста и словаря: Опыт филологической герменевтики / Под ред. И. А. Пилыцикова, М. И. Шапира. М.: Языки славянских культур, 2005.
Перцов 2000а — Перг^ов Н. В. О неоднозначности в поэтическом языке // Вопр. языкознания. 2000. № 3.
Перцов 20006 — Перг^ов Н. В. Загадка начала «Евгения Онегина» //ИАН СЛЯ. Т. 59. 2000. № 3. С. 25–30.
Перцов 2001 —nepifoe Н. В. Инварианты в русском словоизменении. М., 2001.
Перцов 2008 — Перцов H. В. О соотношении письменной и устной форм поэтического языка: (К вопросу о функциональной нагруженности старого русского правописания) //Вопр. языкознания. 2008. № 2. С. 30–56. Проскурин 1999 — Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999.
Соловей 1977 — Соловей Н. Я. Из истории работы А. С. Пушкина над сюжетом «Евгения
Онегина» (Альбом Онегина) // Замысел, труд, воплощение… М., 1977. СЯП – Словарь языка Пушкина: В 4 т.: М., 1956–1961.
Тынянов 1965 — Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. Хализев 1987 —Хализев В. Е. Завершение действия «Евгения Онегина» // А. С. Пушкин.
Проблемы творчества. Калинин, 1987. Шапир 2002 — Шапир М. ЕІ. Пушкин и Баратынский: (Поэтические контексты «Медного Всадника») // К 200-летию Боратынского: Сб. мат-лов междунар. науч. конф., сост. 21–23 февраля 2000 г. (Москва—Мураново). М., 2002. Элиаде 2000 — ЭлиадеМ. Аспекты мифа / Пер. с франц. М., 2000. Эмерсон 1996 — Эмерсон К. Татьяна // Вестник МГУ Сер. 9. Филология. 1996. № 6.
Анна А. Зализняк
Об эволюции концепта отдыхать в русском языке[28]
Дорогому, Александру Борисовичу Пенъковскому
к юбилею
В своем обширном и блестящем исследовании «Загадки пушкинского текста и словаря» А. Б. Пеньковский выявил множество смысловых отличий словоупотребления той эпохи от современного – от «тонких и тончайших» (если воспользоваться выражением А. В. Исаченко) до таких, незнание которых весьма существенно искажает смысл пушкинского текста. Продолжая эту линию исследования, приведу еще один такой пример (который как раз в книге не обсуждается). Тысячи русских школьников и школьниц, читающих письмо Татьяны, понимают фразу Но так и быть! Судьбу мою / Отныне я тебе вручаю («Евгений Онегин», гл. 3, XXXI) как содержащую идиому так и быть, употребляя которую говорящий дает понять, что упомянутое действие он совершает, уступая желанию адресата. Современный читатель (в особенности молодой и филологически неискушенный, каковым является средний школьник) обычно не сомневается в том, что он правильно понимает данную фразу – несмотря на несообразность результирующего смысла: ведь Онегин к тому моменту ни о чем Татьяну не просил. Действительно, чуть более внимательное отношение к тексту заставляет в этом месте задуматься и искать причину этой видимой смысловой несогласованности, которая состоит в том, что выражение так и быть обозначает здесь вовсе не уступку желанию адресата речи, а решимость покориться судьбе (ср. Так тому и быть!).
1. Дышать и отдыхать
В статье, посвященной анализу глагола вздохнуть, А. Б. Пеньковский демонстрирует, что этот глагол имел особое, не фиксированное словарями значение «преодолеть состояние задыхания; восстановить дыхание, отдышаться»; в частности, именно это значение представлено в строках Но наконец она вздохнула / И встала со скамьи своей («Евгений Онегин», гл. 3, XLI) [Пеньковский 2005: 88–89]). Далее отмечается, что то же значение восстановления нормального дыхания имел глагол отдохнуть, ср.:
(1) Наконец Степан Петрович умолк, приподнялся, отдохнул и начал ходить по комнате [Тургенев. Два приятеля, 1853].
Данное значение не сохранилось в современном языке, и тем самым нынешний читатель либо понимает такие предложения неправильно (приписывая глаголу современное значение и в той или иной степени удивляясь его неуместности в данном контексте), либо вообще не может приписать им никакого смысла; таковы примеры (1)—(6), (8)—(11).
Между тем, глагол отдохнуть в языке XIX в. имел даже не одно, а несколько значений, впоследствии утраченных. Исследованию этого вопроса и посвящена настоящая статья.
Надо сказать, что процесс дыхания и, соответственно, описывающие его слова (образованные от основы дых-/дох-/дух-) уникальны в том отношении, что они принадлежат одновременно сферам «души» и «тела» – ср., например, структуру полисемии слова дух [Урысон 2003: 59–72]. Действительно, в языковой картине мира дыхание является важнейшей, обеспечивающей жизнь (ср. еле дышит; бездыханный = «мертвый») физиологической функцией организма, т. е. тела, – и одновременно формой репрезентации и эманацией души (связи души с дыханием многообразны и подробно описаны, здесь нет нужды на этом останавливаться). В частности, дыхание является признаком жизни именно потому, что свидетельствует о присутствии души в теле. Поэтому обозначение душевных состояний при помощи слов с основой дых-/дох-/дух- (таких как вдохновение)[29] исходно не содержит метафорического переноса «тело»"душа", характерного для большинства обозначений эмоциональных и психических состояний (ср. душа болит; жар душщ душевные раны и т. п.),[30] а апеллирует непосредственно к образу человека в языковой картине мира. Тем не менее вопрос о направлении семантической производности между значениями «отдохнуть телом» и «отдохнуть душой» представляет определенные трудности; мы вернемся к нему после обсуждения всего списка значений.
А. Б. Пеньковский выделяет у глагола отдохнуть два значения:
(І) «преодолеть состояние задыхания; восстановить дыхание, отдышаться» (это же значение имеется у вздохнуть) [Пеньковский 2005: 80];
(Іа) "восстановить душевные силы, успокоиться" [Там же: 88–89].
Оба эти значения при более детальном анализе оказываются неоднородны. Рассмотрим следующий пример из указанной работы (с. 88):
(2) Для шутки камешек лукнул / И так его зашиб, что чуть он отдохнул [И. Дмитриев. Два голубя].
Это предложение призвано иллюстрировать значение I; однако здесь, очевидно, речь идет не от том, что голубь отдышался после состояния задыхания, а о том, что он чуть не умер – причем не от удушья, а от удара. Тем самым здесь связь с дыханием состоит только в том, что дыхание есть непременное условие жизни, а прекращение дыхания означает смерть. Эту идею выражает, например, глагол издохнуть (букв, «испустить дух»), при этом его современное значение, как и значение глагола отдохнуть в примерах (2)—(6), не связано с дыханием. Таким образом, отдохнуть в приведенном примере означает что-то вроде «(снова начав дышать) вернуться к жизни (из состояния, пограничного между жизнью и смертью)»; будем называть это значением II.
Заметим, что говорить о восстановлении нормального дыхания можно в двух разных случаях: когда этому предшествует слишком интенсивное дыхание (как в случае быстрого бега или возбужденной речи – значение I) и, наоборот, задержка дыхания – как в случае обморока или другого пограничного состояния (значение II), а также страха и напряженного ожидания (значение III, см. ниже).
Приведем другие примеры реализации значения II:
(3)…с одним нахалом казаком, которого за насмешки я хватил неловко по голове нагайкою… да, к счастию, он отдохнул [M. Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские в 1612 году (1829), ruscorpora];
(4) Лжедмитрий. Мой бедный конь! (…) / Послушай, может быть, / От раны он лишь только заморился / И отдохнет. Пушкин. Куда! он издыхает. [Пушкин. Борис Годунов];
(5) Я подумал, что дедушка умер; пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как взлез на тетушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее; но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было томиться, но опять отдохнул [С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука (1858), ruscorpora].
Глагол отдохнуть в этом значении встречается также и в несов. виде (отдыхать) – но лишь в тривиальном (итеративном) значении, ср.:
(6) Итак, из всего мною сказанного следует заключить, что есть какие-нибудь другие условия, при содействии которых дохнет рыба под льдом, но что независимо от этих причин рыба оmдыхаеm, если будет увеличено сообщение воды с атмосферическим воздухом [С. Т. Аксаков. Записки об уженье рыбы].
Значение, которое толкуется А. Б. Пеньковским как «восстановить душевные силы, успокоиться», также распадается на два. Действительно, приводимые им примеры типа (7) демонстрируют значение «восстановить душевные силы», оставшееся практически неизменным (см. значение V ниже).
(7) Но угорел в чаду большого света / И отдохнуmь убрался я домой [Пушкин. Послание к Горчакову].
Однако другие примеры А. Б. Пеньковского соответствуют лишь второй части толкования («успокоиться»), и при этом его можно было бы сформулировать несколько точнее: что-то вроде «успокоиться, убедившись в том, что опасность миновала» (значение III), ср.:
(8) Целое утро провел он в волнении, чуть было не принял приезжего купца за секунданта и отдохнул только тогда, когда лакей принес ему письмо от Стельчинского [Тургенев. Затишье];
(9) Эй, смотри, сын! ей богу отделаю тебя батогом так, что до представления света будет болеть спина (…). Сказавши это, Бульба (…) поворотился на другую сторону и заснул. Андрий отдохнул [Гоголь. Тарас Бульба, ред. 1835 г.].
Здесь описывается ситуация, когда человек чего-то боится и при этом как бы «затаил дыхане», напряженно ожидая развязки. Когда он узнает, что опасность миновала, он как бы делает выдох, ср. вздох облегчения. Существует даже междометие уф-фф или фу-уу, имитирующее звук выдоха и выражающее в точности это значение («Пронесло!»). Ср.:
(10) – Фу, братец, как ты меня напугал, – проговорил Заруцкий, садясь на канапе, – насилу могу от дохнут ъ! [M. Н. Загоскин. Вечер на Хопре (1834), ruscorpora];
(11) «Ей, может быть, нравятся цветы, верховая езда, невинные развлечения, а не сам граф? Да положим даже, что тут есть немного и кокетства: разве это не простительно? другие и старше, да бог знает что делают». Он отдохнул, луч радости блеснул в душе [И. А. Гончаров. Обыкновенная история (1847), ruscorpora].
Отличие употреблений типа (8)—(11) от (7) состоит еще и в том, что в (7) глагол отдохнуть описывает предельный процесс, а в (8)—(11) – моментальное событие; к аспектуальным свойствам этого глагола мы еще вернемся.
Близкое значение представлено и в следующей группе примеров с собирательным субъектом:
(12) Дума сделала для них то же, что Василий сделал для новошродцев: возвратила им судное право. Целовальники, или присяжные, избираемые гражданами, начали судить все уголовные дела независимо от наместников, к великой досаде сих последних, лишенных тем способа беззаконствовать и наживаться. Народ отдохнул во Пскове; славил милость великого князя и добродетель бояр [H. М. Карамзин. История государства Российского: Т. 8 (1815–1820), ruscorpora];
(13) Москва была освобождена Пожарским, польское войско удалялось, король шведский думал о замирении, последняя опора Марины, Заруцкий, злодействовал в отдаленном краю России. Отечество отдохнуло и стало думать об избрании себе нового царя [Пушкин. Конспект предисловия Ф. Н. Глинки к поэме «Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой»].
2. Значения глагола отдохнуть в XIX в
Итак, для XVIII–XIX вв. у глагола отдохнуть / отдыхать[31] может быть выделен следующий набор значений (порядок их перечисления в целом соответствует ходу семантической эволюции):
I. "Восстановить дыхание, отдышаться" [пример (1), ср. также (14), (15)]:
(14) Я выпил стакан воды, сел, отдохнул и потом прочел следующее послание [О. М. Сомов. Приказ с того света (1827), ruscorpora],
(15) Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотаньем, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало: мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое волнение. Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю [Тургенев. Первая любовь].
II. «Не умереть, остаться живым» [примеры (2)—(6)].
III. "Успокоиться, убедившись в том, что опасность миновала" [моментальное неконтролируемое событие] [примеры (8)—(11)].
IV. "Вернуться к состоянию душевного покоя, которое было перед этим чем-то нарушено" [предельный процесс]. Источник нарушения покоя может быть назван и выражен именной группой с предлогом от (примеры (16)—(19)), но может и отсутствовать (пример (20)).
(16) Ты еще не отдохнул от вчерашних своих впечатлений [Ф. М. Достоевский. Слабое сердце (1848), ruscorpora],
(17) Ибо вы были свидетелями тех поражений неприятеля, от которых он доселе отдохнуmь не может, и на собранные остатки свои со умилением взирая, естьли что ко утешению находит, то сие, что имел щастие победим быть от Героев, не больше мужеством, как и человеколюбием прославленных [Платон (Левшин), архиепископ Московский и Калужский. Слово на новый 1771 год (1771), ruscorpora],
(18) У меня сжалось сердце от этих слов, – я только что отдохнул от дорожных волнений и своего первого детского горя, а тут приходилось все начинать снова [Д. И. Мамин-Сибиряк. Отрезанный ломоть (1899), ruscorpora],
(19) Везде виделись следы разрушения, нанесенного чугуном, следы убийства свинцом и железом. Достойная казнь измены! Но сердце отдохнуло от этих ужасов, когда мы обняли спасенных братий своих [А. А. Бестужев-Марлинский. Письма из Дагестана (1831), ruscorpora],
(20) Сцены нежные в особенности противны в устах этого актера; его всхлипывания просто отвратительны. Слова: «Покойной ночи, королева», тихие, грустные, вовсе не злобные, были по обыкновению поняты и переданы «курьезно». В четвертом акте я от дохнул только, слушая музыку песен Офелии, где композитор понял глубоко если не Офелию Шекспира, то, по крайней мере, момент безумия и судьбу бедной девушки! [А. А. Григорьев. «Гамлет» на одном провинциальном театре (1845), ruscorpora].
V. «Восстановить физические и/или душевные силы (прервав или прекратив вызывающую утомление деятельность); избыть усталость» [предельный процесс]. См. пример (7), а также:
(21) Уже они достигли до пределов того государства, но стали отдохнуть, царевна уснула, а проснувшись увидела Полкана мертва и подле него льва издыхающа [А. Н. Радищев. Бова (1798–1799)].
(22) Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти [Ф. М. Достоевский. Бедные люди (1846), ruscorpora].
(23) Отдохни хоть с недельку… [Василий Шукшин. Калина красная (1973), ruscorpora].
В современном русском литературном языке у глагола отдохнуть значения I, II и III исчезли;[32] значение IV модифицировалось таким образом, что оно фактически слилось со значением V, которое было у глагола отдохнуть уже в XVIII в. и сохранилось практически неизменным до сих пор (ср. примеры (21)—(23)); для современного языка оно является фактически единственным стилистически нейтральным значением данного глагола.
Кроме того, появилось производное от V новое значение VI, о котором пойдет речь в разделе 6.
3. Об эффекте ближней семантической эволюции
Значение IV требует комментариев. Оно не сохранилось в современном языке: хотя сама конструкция отдохнуть от чего-л. широко распространена, она употребляется иначе и передает другое значение глагола отдохнуть (а именно, значение V). Сейчас мы говорим отдохнуть от забот, от дел, от суеты, от шума, крика, ссор, скандалов; а также от семьи, от детей, от женщин, гостей, людей, от (какой-то) обстановки, от (какой-то) жизни, от пустых (умных) разговоров; от пьянства, от безделья; можно также отдохнуть от волнений, впечатлений, страстей, переживаний ит. п., но нельзя (по крайней мере при стандартном словоупотреблении) *отдохнуть от ссоры с женой; от волнения; от впечатления (произведенного вчерашним концертом) (или: от вчерашнего концерта), от прочитанной лекции и т. п. Между тем в XIX в. именно так и говорили – ср. примеры (16)—(19).
В некоторых случаях (а именно когда речь идет об усталости, наступившей в результате единичного действия) сейчас можно сказать отдохнуть после чего-л. (лекции, экзамена, концерта); имеется почти устойчивое сочетание отдохнуть после обеда (о котором см. ниже), ср. также отдохнуть с дороги – где, очевидно, представлено значение V. Однако, по-видимому, для современного языка все остальные перечисленные выше словосочетания также относятся к значению V, – которое предполагает факультативную валентность причины, выражаемую именной группой с предлогом от, после или с.
В современном русском языке в конструкции с предлогом от то, от чего отдыхают, – это либо длящаяся, либо повторяющаяся ситуация (которая вызывает чувство утомления, возможно, именно своей повторяемостью). Но это не может быть единичное событие, в том числе единичное переживание – а в языке XIX в. это было возможно. Так, можно было отдохнуть от неприятного впечатления, которое произвело первое действие спектакля, во время второго действия, если оно оказалось лучше (ср. пример (20)); подобное словоупотребление для современного языка не актуально.[33] И различие здесь касается не только референциального статуса объекта, но и семантики глагола отдохнуть, которая изменилась. А именно, в языке XIX в. отдохнуть от чего-л. означало «перестать находиться во власти некоторого негативного чувства или впечатления», а в современном языке это означает, приблизительно, «восстановить силы (прервав контакт с ситуацией, которая требует их расходования); быть снова полным сил», а это и есть значение V.
Утрата значения IV глаголом отдыхать – типичный пример ближней семантической эволюции, имеющей тот эффект, что говорящие ее вообще не замечают, автоматически подставляя новое значение вместо старого. Один из примеров тому – чеховское Мы отдохнем! финальная реплика пьесы «Дядя Ваня», ставшая крылатой. Буквально сказано: «в жизни будем тяжело работать, а после смерти отдохнем», что отсылает к русским поговоркам Отдохнешь, когда издохнешь. Помрешь, так отдохнешь [Даль 1994: II, 1875]. Однако, по-видимому, все же имеется в виду что-то другое (хотя бы потому, что проблема чеховских героев не в том, что они устали от тяжелой работы). Из текста предшествующего монолога следует, что отдохнуть здесь связано не с усталостью, a с унынием (антитезой для которого в христианской этике является радость), ср. увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся", (…) Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнем…). По-видимому, здесь имеется в виду значение IV в следующей его модификации: «вернуться к нормальному состоянию души, т. е. такому, когда она радуется». В современном русском языке глагол отдохнуть такого значения не имеет; приблизительно это значение выражается в русском языке сочетанием отдохнуть душой. Приведем еще некоторые примеры словоупотребления (которое отчасти было маргинальным и в XIX в.), проливающего свет на значение обсуждаемой чеховской реплики (см. также пример (20)):
(24) Какие мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали! Я отдохнул за весь холод, испытанный в моей жизни [А. И. Герцен. Кто виноват? (1841–1846), ruscorpora],
(25) Отдохнул с ними Бакунин за девятилетнее молчание и одиночество [А. И. Герцен. Былое и думы. (1866), ruscorpora],
(26) Скучая жизнию, томимый суетою, / Я жажду близ тебя, друг нежный, отдохнуть… (Пушкин. Позволь душе моей открыться пред тобою).
4. Направление семантической деривации
Остановимся теперь на проблеме направления семантической деривации, связывающей между собой перечисленные значения.
Диахронически исходным является значение I "восстановить нормальное дыхание", из которого параллельно происходят три производных значения глагола отдохнуть: значение II «[как бы снова начать дышать;] не умереть», т. е. возобновить физическую функцию дыхания как условие жизни; значение III «[как бы снова начать дышать после перерыва в дыхании, вызванного душевным напряжением (страхом);] успокоиться»; значение IV «[как бы восстановить нормальное дыхание после учащенного, вызванного душевным волнением;] восстановить душевное равновесие».[34]
Что касается значения V, то оно является производным одновременно от IV и от I. Производность V от I хорошо видна, в частности, в примере (15) из Тургенева, где отдохнул означает одновременно «снова стал нормально дышать» и «перестал чувствовать волнение». Однако близость значений V и IV не менее очевидна; здесь скорее даже возникает проблема разграничения этих двух значений, ср. выше о выражениях типа отдохнуть от волнении; отдохнуть после концерта.
Таким образом, для основного значения глагола отдохнуть (Ты устал, тебе надо отдохнуть) следует признать наличие множественной семантической деривации, т. е. вопрос о том, что первично – «отдохнуть душой» или «отдохнуть телом», – не имеет однозначного ответа. Так, А. Б. Пеньковский, с одной стороны, пишет, что значение «восстановить душевные силы, успокоиться» является «переносом в ментальную сферу» значения «отдышаться, восстановить нормальное дыхание» [Пеньковский 2005: 88–89], т. е. здесь имеет место переход «отдыхать телом» «отдыхать душой». С другой стороны, в семантической эволюции глагола отдыхать А. Б. Пеньковский усматривает трехступенчатый переход, который дает обратный результат: «отдышаться» «успокоиться, восстановить душевные силы, отдохнуть д у ш о й» [разрядка моя.—А. 3.] «восстановить физические силы, отдохнуть телом» [Пеньковский 2005: 87]. Здесь хотелось бы сделать одно уточнение. Переход от «отдышаться» к «успокоиться», как уже говорилось, изначально, по-видимому, не был метафорическим переносом; однако, независимо от генезиса актуального значения глагола отдохнуть – и, очевидно, из-за утраты его связи с идеей дыхания, о которой пойдет речь ниже, – синхронно значение «отдохнуть телом» воспринимается как исходное, прямое, а «отдохнуть душой» – как производное, переносное. Таким образом структура многозначности этого глагола выравнивается под более стандартную.
5. Словообразовательная и аспектуальная семантика
Важные сведения о значении глагола отдохнуть могут быть получены путем реконструкции его внутренней формы, т. е. определения типа словообразовательной модели с приставкой от-, реализованной в этом слове, а также уточнения семантики производящей основы. К сожалению, в книге [Кронгауз 1998] глагол отдохнуть не интерпретируется, а анализ, предлагаемый в книге [Janda 1986: 202–203] представляется неубедительным.
На наш взгляд, картина приблизительно такова. Приставка от- обозначает исходно отделение-удаление (ср. сценарий «деления», предлагаемый для приставки от- в [Пайар 1997]). Имеется группа производных значений, где эта приставка обозначает «отделение от состояния», в котором объект находился до совершения действия, названного глаголом (и это состояние оценивается как негативное), ср. отремонтировать: объект стал нормально функционирующим, тем самым отделившись от состояния неисправности; ср. также отредактировать, отшлифовать. Другой пример — оттаять: объект был заморожен, путем таяния перешел в размороженное состояние, тем самым отделившись от своего прежнего состояния замороженности.
Вариант той же модели – с постфиксом – ся, ср. отоспаться: при помощи процесса спанья как бы отделиться от состояния недосыпания; то же — отъесться (это слово означает не просто что раньше человек голодал, а теперь ест достаточно, а что теперь он потолстел и таким образом как бы отделился от предшествующего состояния, когда он был худым). Аналогично устроен и глагол отдышаться, который описывает ситуацию, когда человек интенсивно дышит и тем самым «отделяется» от состояния, когда он дышал затрудненно или не дышал вообще. Что же касается глагола отдохнуть, то здесь картина несколько иная.
Начнем с того, что в глаголе отдохнуть произошел сдвиг ударения: раньше ударение было отдохнуть. Об этом свидетельствуют, например, следующие строки из «Илиады» в переводе Н. И. Гнедича:
(27) Может быть, в брани тебя за него принимая, трояне
Бой прекратят; а данайские воины в поле отдохнут.
Ср. также цитировавшуюся выше поговорку, которая во времена Даля читалась, очевидно, Отдхнешь, когда издхнешь. Глаголу отдхнуть Даль дает такое толкование: «отдышаться, или отдыхать, отдхнуть: после обморока, удушного воздуха или утраты дыхания прийти в себя; (…) смол, выздороветь» [Дал 1994: II, 1875].
Примеры употребления глагола отдхнуть можно найти и в XX в., ср.:
(28) Ну, тут он меня измутыскал так, что у меня печенки с легкими перемешались – насилу отдох [Е. И. Замятин. Слово предоставляется товарищу Чурыгину (1922), ruscorpora].
Итак, отдохнть происходит от отдхнуть, а отдохнуть образовано от дхнуть. Обратимся теперь к этому глаголу.
Этимологические словари славянских языков однозначно указывают на то, что глаголы со значением «дышать» имели также значение "дышать тяжело / шумно, задыхаться". Так, М. Фасмер в статье «дохнть, дхнуть, вздох» приводит следующие параллели: лит. dusti «пыхтеть, задыхаться», лтш. dust «пыхтеть» [Фасмер 1996: I, 533]. Ср. также польск. tchn – «дышать», «тяжело дышать» [ЭССЯ: вып. 5, с. 177]; значение слов душный, духота. На наличие значения «задыхаться» у глагола дъхнути / дышати в древнерусском языке указывает, в частности, глагол душити («каузировать задохнуться»), исторически каузатив к дышати;[35] ср. также словенск. duiti «den Atmcn benehmen, dem Ersticken nalie bringen» [Pletersnik 1894: I, 186].
В современном русском языке имеется два омонимичных суффикса – ну. при помощи суффикса – ну1 образуются глаголы сов. вида с семельфактивным значением (ср. зевнуть, махнуть, дунуть); суффикс – ну2 содержат глаголы несов. вида со значением приобретения или наличия признака (ср. глохнуть, киснуть, мерзнуть) [Ефремова 1996: 300–301]. Суффикс – ну2 является безударным, – ну1 – чаще бывает ударным, но может быть и безударным. Соответственно, в глаголе дохнть фигурирует суффикс – ну1. а в дхнуть ну2.[36] От глагола дхнуть образовано прилагательное дохлый – букв, «задыхающийся, едва дышащий» (ср. дохлый цыпленок); ср. также задохлик «слабый, хилый, тщедушный человек».
В глаголе отдхнуть реализовано основное непространственное значение приставки от «прекратить действие, названное мотивирующим глаголом, исчерпав возможность его продолжать» (ср. [Кронгауз 1998: 172]) – и таким образом «как бы отделившись» от него, ср. отзвенеть, отцвести, отмучиться. Отдхнуть означает «перестать дохнуть», т. е. «перестать задыхаться, восстановить нормальное дыхание»; тем самым, изначальная внутренняя форма этого глагола совершенно прозрачна. С течением времени этот глагол изменил как форму, так и значение, в результате чего современный глагол отдохнть оказался вторичным образом связан с семельфактивным глаголом сов. вида дохнть, что, естественно, привело к утрате исходной внутренней формы (в частности, суффикс – ну, став ударным, был переинтерпретирован как – нуі, а сам глагол отдохнть оказался в ряду глаголов однократного способа действия, см. ниже).
Отметим еще одну интересную аспектуальную особенность глагола отдохнуть, также проливающую свет на его семантику: сочетаемость с обстоятельством длительности (полчаса, три дня, неделю и т. п.), ср. примеры (22), (23). Нормально в русском языке глаголы сов. вида с обстоятельством длительности не сочетаются, ср. * полчаса сделал уроки, прочел газету и т. п. – что и неудивительно, в силу «точечности» значения сов. вида. Исключение составляют глаголы делимитативного, пердуративного и некоторых других способов действия (полчаса погулял, проговорил (по телефону), отстоял (в очереди)), а также несколько глаголов с суффиксом – ну1: вздремнуть, всплакнуть, прикорнуть, соснуть, а также отдохнуть, см. [Всеволодова 1997: 25]. Назовем еще один такой глагол без суффикса – ну. подождать, ср. Еще полчаса подождем и поедем обратно (возможно, здесь дело в том, что глагол подождать отчасти выполняет функцию отсутствующего делимитатива *пождатъ). Причина такой нестандартной сочетаемости во всех этих случаях, по-видимому, состоит в том, что все эти глаголы непосредственно включают в свою семантическую структуру компонент «провести (таким образом) некоторое время»; относительно делимитативов и пердуративов это очевидно, ср. также толкование глагола отдохнуть в [MAC]: «провести некоторое время в отдыхе, восстановить свои силы отдыхом».
6. Дальнейшая семантическая эволюция
В целом можно сказать, что семантическая эволюция глагола отдохнуть обусловлена утратой связи с идеей дыхания. Концепт отдыха возник в русском языке на основе идеи нормального дыхания как свидетельства нормального физического и душевного состояния человека. Значение «восстановить силы путем прерывания деятельности, вызывающей усталость» (прототипически это пешее передвижение), возникшее в ходе семантической деривации не позднее XVIII в., связало концепт отдыха с предшествующей усталостью. Это значение является основным для современного русского языка: отдохнуть – это, прежде всего, «перестать чувствовать усталость». А усталость – комплексное состояние, включающее обычно как физическую, так и ментальную составляющую, в разных соотношениях.
Во второй половине XX в. семантическая эволюция поставила на первый план в понятии отдыха идею отсутствия обязанностей: отдых – это не работа (ср. проводить на заслуженный отдых, т. е. на пенсию). Право на отдых – одно из прав, провозглашенных советской Конституцией 1936 г. Понятие отдыха стало частью советского идеологического дискурса: возникло понятие дом отдыха, и даже зона отдыха, появилась категория отдыхающие,[37] возникло впоследствии иронически переосмысленное выражение культурно отдыхать.
Отдых в этом смысле не обязательно предполагает предшествующее состояние усталости и, более того, не исключает усталость как его результат: это может быть копание грядок или игра в футбол, от чего у человека пот катит градом; ср. распространенную идею, что отдых – это смена деятельности; понятие активный отдых, высказывания типа Я не понимаю, как можно часами лежать на пляже и т. п.
В результате в разговорном языке у глагола отдохнуть / отдыхать возникла новая группа значений (обозначим ее как значение VI). Основное из них – «проводить выходной день или отпуск; не работать» (ср. устойчивое сочетание отдыхать на даче); вариант: «ездить в отпуск»; именно в этом последнем значении употребляется глагол отдыхать и существительное отдых в рекламе туристических компаний, ср. также употребления типа Мы в этом году отдыхали в Болгарии; Я в прошлом году вообще не отдыхала (скорее всего, это значит «никуда не ездила», а не «не уходила в отпуск»); Я уже отдохнул значит «в этом году уже съездил в отпуск» и т. д. Слова отпуск и отдых вступают при этом в паронимическую связь (ср. летний отпуск / летний отдых; отдых на море / отпуск на море и т. п.).
Едва заметный дальнейший семантический сдвиг дает третий вариант этого значения: "проводить свободное время, получая удовольствие", ср. устойчивое сочетание хорошо отдохнули. Например:
(29) Московский же азербайджанец после слов «хорошо о m дохнул и» начинает долго и длинно перечислять список блюд и продуктов, из которых они приготовлены [Рустам Арифджанов. Москва азербайджанская // «Столица», 1997].
В отличие от нейтрального литературного значения V все варианты значения VI маркированы как разговорные или даже просторечные и частью русской интеллигенции отвергаются.[38] Причина этого неприятия состоит в том, что отдыхать в значении VI опираетя на картину мира, в которой жизнь человека распадается на два состояния: утомительную работу, когда человек делает то, что он обязан, и приятный отдых, когда человек делает то, что ему хочется. Это представление традиционно не соответствует, в частности, картине мира русского ученого, ср. популярную в 60—70-е годы шутку, что научная работа – это удовлетворение своего любопытства за государственный счет. Поэтому, например, на совершенно естественный для многих людей вопрос «Ты ездил туда работать или отдыхать?» некоторые люди затрудняются ответить – из-за отсутствия в их картине мира того фрагмента, на который опирается использованное в данном вопросе значение глагола отдыхать.
Возможна и дальнейшая семантическая деривация. Например, этим же глаголом могут окказионально обозначаться сами занятия, обеспечивающие получение удовольствия (чаще всего: вкусная еда, алкоголь и секс); таким образом, глагол отдохнуть выступает в качестве косвенной номинации [Зализняк 1990] перечисленных ситуаций. Иллюстрацией этому может служить, например, следующее поразившее С. Довлатова употребление обсуждаемого глагола:
(30) Случилось это в Пушкинских Горах. Шел я мимо почтового отделения. Слышу женский голос – барышня разговаривает по междугородному телефону:
– Клара! Ты меня слышишь?! Ехать не советую! Тут абсолютно нет мужиков! Многие девушки уезжают так и не отдохнув! [С. Довлатов. Соло на Ундервуде].[39]
Обращает на себя внимание наличие сходной структуры полисемии у глагола гулять:[40] (і) «быть свободным, не работать» (Я свой отпуск уже отгуляла; взять отгул); (іі) «пить алкогольные напитки» (Люди уже гуляют) и (ііі) «иметь внебрачные сексуальные контакты» (муж от нее гуляет; сестра гулящая, совсем пропащая).
Глагол отдыхать имеет еще одно употребление, относящееся к классу «мещанских эвфемизмов» (термин Л П. Крысина), при котором он означает «спать» (ср. Мой супруг сейчас не может подойти к телефону, он отдыхает). Слово отдыхать является конвенциональным и единственно возможным способом выразить значение «спать» в языке армейских уставов; пословица Солдат спит, служба идет могла родиться только «на гражданке», потому что в армии солдат не спит, а отдыхает. Источником такого эвфемистического сдвига является словоупотребление, широко распространенное, в частности, в литературе XIX в., при котором глагол отдыхать имеет именно такое двусмысленное значение «лежать и, возможно, спать»; особенно часто встречается сочетание отдохнуть после обеда, ср. пример (31). Эта двусмысленность могла разрешаться контекстом в пользу значения «спать», ср. пример (32). На то, что глагол отдохнуть и в XIX в. уже мог восприниматься как эвфемизм, указывают кавычки в примере (33):
(31) После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть [Пушкин. Арап Петра Великого].
(32) Юрий, который от сильного волнения души, произведенного внезапною переменою его положения, не смыкал глаз во всю прошедшую ночь, теперь отдохнул несколько часов сряду [M. Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские в 1612 году (1829), ruscorpora],
(33) Г-жа Миловидова ложилась спать тотчас после обеда – в два часа – и «отдыхала» до вечернего чаю, до семи часов [И. С. Тургенев. Клара Милич (1882), ruscorpora].
Итак, семантическая эволюция глагола отдохнуть / отдыхать за последние два века состояла в том что:
• значения I ("отдышаться"), II ("не умереть"), III ("успокоиться, узнав, что опасность миновала") были утрачены;
• значение IV "восстановить душевное равновесие" модифицировалось и слилось с V;
• значение V "избыть физическую и/или душевную усталость" на протяжении двух веков сохранилось без изменений;
• появилось значение VI "проводить свободное время с удовольствием".
Эволюция глагола отдыхать продолжается на наших глазах – ср. Жилищный кодекс отдыхает, т. е. не применяется; Лолита отдыхает, т. е. кто-то другой ее превзошел, и т. п. Это значение VII, возникшее, очевидно, в результате семантического развития идеи «не работать» в значении VI; анализ данного явления, однако, выходит за рамки настоящей статьи.[41]
Список литературы
Апресян В. К)., Апресян Ю. Д. 1993 —Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // Вопр. языкознания. 1993. № 3.
Виноградов 1994 —Виноградов В. В. История слов. М., 1994.
Всеволодова 1997 —Всеволодова М. В. Аспектуально значимые лексические и грамматические семы русского глагольного слова // Труды аспектологического семинара филол. фак-та МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. 1. М.: Изд-во МГУ, 1997.
Даль 1994 —Даль В. II. Словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1994.
Ефремова 1996 — Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. М., 1996.
Зализняк 1990 — Зализняк Анна А. Считать и думать: два вида мнения // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1990.
Кронгауз 1998 — Кронгауз М. А. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М., 1998.
Левонтина, Шмелев 1999 — Левонтина II. Б., Шмелев А. Д. На своих двоих: лексика пешего перемещения в русском языке // Логический анализ языка. Языки динамического мира. М., 1999.
MAC – Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999.
Пайар 1997 — Пайар Д. Формальное представление приставки от- // Глагольная префиксация в русском языке. М., 1997.
Пеньковский 2005 — Пеньковский А. Б. Загадки пушкинского текста и словаря. Опыт филологической герменевтики. М., 2005.
Урысон 2003 — Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира. М., 2003.
Фасмер 1986 — Фасмер. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., стер. М., 1986.
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974—,
Janda 1986 — Janda I. A semantic analysis of the Russian verbal prefixes za-, pere-, do-, and ot– H Slavistische Beitrage. Bd. 192. Munchen, 1986.
Pletersnik 1894 — PletersnikM. Slovensko-nemski slovar. Pjubljana, 1894 (reprint 1974).
А. Д. Шмелев
Врали и лжецы в русской языковой картине мира
В замечательном эссе «О „чердаках“, „вралях“ и метаязыке литературного дела („Евгений Онегин“, 4, XIX, 4–5)» [Пеньковский 2005: 115–152] были подвергнуты блистательному анализу известные пушкинские строки о «чердачном врале». В нем А. Б. Пеньковский, среди прочего, показал, что правильное чтение этих строк невозможно без учета специфики употребления слова враль в пушкинскую эпоху, когда оно могло использоваться для обозначения двух различных психологических типов: легковесного, беззаботного и безответственного болтуна, адресующегося ограниченному кругу собеседников, и бездарного, безнравственного писаки, порождающего клеветнические тексты, рассчитанные на тиражирование. Однако ни к той, ни к другой разновидности враля не подходят в качестве синонимов слова лгун и лжец (используемые для дефиниции слова враль в ряде современных толковых словарей), «неоправданно укрупняющие значение поясняемого слова, утяжеляющие его и наделяющие силой», которой оно не имело прежде и не имеет сейчас [Пеньковский 2005: 126].
Сказанное подводит нас к общей проблеме осмысления различий между членами словообразовательных гнезд с вершинами лгать и врать. Наличие в русском языке двух глаголов, обозначающих «говорение неправды», связано с некоторой противоречивостью отношения к «говорению неправды» в русской культуре, не ускользнувшей от внимания наблюдателей. С одной стороны, нередко отмечается, что русская культура чрезвычайно высоко ценит правду и предписывает говорить правду (резать правду-матку в глаза), даже если это может быть неприятно собеседнику. Этот взгляд решительно отстаивает Анна Вежбицка, указывающая на то, что русской культуре чуждо понятие «белой лжи», или «социальной лжи», предписываемой во многих ситуациях англосаксонскими социальными конвенциями. С другой стороны, целый ряд авторов (как русских, так и зарубежных), напротив, считает, что русские во многих случаях более терпимо относятся к тому, чтобы говорить неправду, нежели представители многих других культур, в частности англосаксонской. Да и сама А. Вежбицка в одной из своих работ писала о наличии в русской культуре установки на то, чтобы «извинить и оправдать ложь как неизбежную уступку жизненным обстоятельствам, несмотря на все великолепие правды», приведя в подтверждение характерную русскую пословицу: Не всякую правду жене сказывай [Вежбицкая 1999: 281].[42]
Сразу можно сказать, что глагол лгать (как и его производные) обозначает действие, безусловно предосудительное с точки зрения русской наивно-языковой этики. Лгать значит говорить неправду, зная, что это неправда, но желая, чтобы адресат речи думал, что это правда. Лгущий человек согрешает уже тем, что подсовывает адресату речи фальшивку, выдавая ложь за истину. Здесь существенно именно то, что имеет место сознательное введение в заблуждение: если люди «искренно принимают ложь за истину, то никто не признает их лжецами и не увидит в их заблуждении ничего безнравственного» (Вл. Соловьев). Кроме того, часто речевое действие, обозначаемое глаголом лгать, наносит ущерб третьим лицам, о которых лгущий человек распространяет лжесвидетельство, непосредственно нарушая тем самым девятую заповедь. Эта сторона дела отражена в производном глаголе оболгать (кого-либо).
Человек, который лжет, может быть назван лжецом или лгуном. Между этими двумя именами деятеля есть важное различие [Шмелева 1983], которое, однако, не препятствует тому, что и в том, и в другом слове ярко проявляется отрицательный оценочный компонент.
Лгун представляет собою наименование лица по свойству, т. е. по характерному действию. Иными словами, лгуном обычно называют человека, который не просто единожды солгал, но который лжет постоянно, так что верить ему ни в коем случае нельзя – ср.:… очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове (Гоголь). Понятно, что лгун часто вызывает негодование у того, кто с ним сталкивается. Ср.:…он вспомнил эту тройку лгунов из отдела специальной техники. И тёмное бешенство обожгло ему глаза (Солженицын). Если кто-то солгал один раз, это, вообще говоря, еще не делает его лгуном: «… если дитя солжет, испугайте его дурным действием, скажите, что он солгал, но не говорите, что он лгун. Вы разрушаете его нравственное доверие к себе, определяя его как лгуна…» (Герцен). Впрочем, иногда человека называют лгуном и на основании единичного акта лжи; чаще всего это выглядит как несколько стилизованный способ «заклеймить» лгущего – ср. известную цитату из «Мастера и Маргариты»: За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!
Но даже единожды солгавший человек компрометирует себя и может быть назван лжецом. Собственно, на этом и основываются различные методики «выявления лжеца»: выявить лжеца значит установить, что говоря нечто, человек лжет. Ср. замечание Андрея Битова: «убедительным тоном говорят именно лжецы», т. е. убедительный тон – свидетельство того, что говорящий лжет. А человек, солгавший дважды, оказывается дважды лжецом – ср.:…за несколько минут я дважды в его глазах предстал лжецом (Александр Бек). Иными словами, лжец может функционировать как актуальное или перфектное (результативное) имя деятеля, обозначение лица по единичному действию, и не случайно при отсылке к приведенному выше высказыванию из «Мастера и Маргариты» слово лгун часто автоматически заменяют на слово лжец – ср. пример из Национального корпуса русского языка: Кто сказал, что при Сталине строили хорошо? Да отрежут лжецу его гнусный язык! («Столица», 2 февраля 1997).
При этом существенно, что именование кого-либо лжецом также составляет весьма сильное обвинение; не случайно в церковном обиходе выражение «лжец и убийца» представляет собою иносказательное обозначение сатаны. Но и в повседневном употреблении слово лжец часто включается в сочинительные ряды, со всей очевидностью свидетельствующие, что даже однократная ложь преступна, напр.: клеветники, лжецы и всякого рода изверги (Гончаров).
Тем самым нет принципиального этического различия между лгуном (тем, кто постоянно лжет) и лжецом (тем, кто хотя бы раз солгал). Оба слова используются как клеймо нравственно порочного человека, а такие сочетания, как милый лжец (перевод названия пьесы Джерома Килти), воспринимаются по-русски как очевидный оксиморон.
Совсем иная нравственная оценка обнаруживается в глаголе врать и его производных. «По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать» (Борис Пастернак). Характерен производный глагол наврать, входящий в ряд выражений, указывающих не столько на ложь, злонамеренно выдаваемую за истину, сколько на некоторую беззаботность по части правды: наболтать, наговорить, наобещать, наплести с три короба. Глагол врать не предполагает лжесвидетельства, и поэтому от него не образуется глагол *обоврать (кого-либо). Если лжет человек всегда сознательно, то соврать он может по неосторожности, если скажет нечто, не подумав. Поэтому возможны такие обороты, как не соврать бы; боюсь соврать; чтобы не соврать; боюсь, не соврать бы. Используя эти обороты, говорящий дает понять, что хочет избегнуть легкомысленных и необдуманных высказываний, которые именно в силу своей легкомысленности и необдуманности могут отклониться от истины. Ссылаясь на свидетеля, который может подтвердить наши слова, мы иногда говорим, что такой-то не даст соврать. Разумеется, в этом обороте никак не выражено желание сказать неправду, от которой можно удержаться только в силу наличия свидетеля. Свидетель нужен для того, чтобы поправить невольную ошибку, от которой никто не застрахован. Сказав нечто, не подумав и случайно ошибившись, можно исправиться, сказав вру, напр.: Он живет на Пречистенке… вру, на Остоженке. Поэтому оборот соврать правду (как в известной фразе из «Арапа Петра Великого»: А дура-то врет, врет, да и правду соврет) парадоксален только на первый взгляд. Действительно, человек, который говорит, не заботясь об истинности своих высказываний, не застрахован от того, чтобы сказать неправду, но может сказать и правду. Человек, который пытается никогда не врать, может восприниматься как чрезмерный педант, и с этой точки зрения возможен подход, оправдывающий вранье. Разумихин в «Преступлении и наказании» говорил:…вранье всегда простить можно; вранье дело милое, потому что к правде ведет. Далее он так развивал эту мысль: Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами. Соврешь – до правды дойдеиіъ! Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз четырнадцать, а может, и сто четырнадцать, а это почетно в своем роде; ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем! Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему – ведь это почти лучше, чем правда по одному по-чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица! Правда не уйдет, а жизнь-то заколотить можно; примеры были, – и резюмировал:.. хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру, да довремся же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим…
Готовность врать, не заботясь об истине, часто оправдывается тем, что вранье оказывается интереснее правды. Ср.:…не желаю знать правду. Лучше соврите, но подыщите что-нибудь менее банальное (Леонид Юзефович). В этом случае врущий человек не преследует никаких корыстных целей, и такое вранье обычно не вызывает осуждения окружающих. Ср.: «Наиболее типичный случай вранья – это «художественное» вранье – игра воображения, вымысел, болтовня, не имеющая отношения к действительности. Такое вранье вполне невинно; в качестве цели оно преследует не личную корысть, а развлечение, потому что оно интереснее, забавнее, увлекательнее правды» [Апресян 2000: 226]. Характерны сочетания красиво врать и особенно вдохновенно врать, подчеркивающие эстетическую составляющую вранья. Такое вранье представляет собою своего рода «приправу» к правде, делающую правду менее «пресной», и для обозначения такого вранья используется специальный глагол приврать. Действие, обозначаемое глаголом приврать (ср. также выражение приукрасить действительность), в общем случае не вызывает осуждения, а иногда даже одобряется. Всякая прибаска хороша с прикраской, – говорит пословица.
Бескорыстность «художественного вранья», делающая его даже чем-то привлекательным, иногда специально подчеркивается:
Русское вранье прежде всего нелепо. Говорил человек долго и хорошо и вдруг соврал: «А у меня тетка умерла». Соврал и сам изумился: тетка мало того, что не умирала, а через полчаса придет сюда, и все это знают. И никаких выгод от теткиной смерти он получить не может, и зачем соврал – неизвестно… А то вдруг сообщит: «А меня вчера здорово побили». Тут уж совсем расчета не было врать: и не пожалеют, и еще, пожалуй, пользуясь предлогом, действительно побьют. Но он соврал и кажется даже довольным, что поверили. Я знал одного человека, который всю жизнь врал на себя; поверить ему, так большего негодяя не найти, а в действительности это был честной и добрейшей души человек. Врал он, не сообразуясь ни с временем, ни с пространством; врал даже тогда, когда истина сидела в соседней комнате и каждую минуту могла войти; врал, не щадя себя, жены, детей и друзей. Кто-то сказал раз, шутя, что он похож на бежавшего каторжника, и потом стоило большого труда удержать его от немедленной явки в полицию с повинной: так понравилась ему эта идея и так пылко он взялся за ее дальнейшую обработку… «А то уж очень пресно все, – говорил он. – Ну, что я? Банковский чиновник, так, чепуха какая-то. И жена – чепуха, и дети – чепуха, и все знакомые – такая кислятина. А когда соврешь, как будто интереснее станет». – «Да ведь уличат?» – «Так что ж из этого? Пусть уличают, так и нужно, чтобы правда торжествовала».
(Леонид Андреев)
В этом отрывке отражена парадоксальность отношения к врстъю в русской языковой картине мира. Действие, обозначаемое глаголом врать, может не быть морально предосудительным, поскольку не преследует корыстных целей: человек врет, потому что это делает жизнь интереснее. В то же время это никак не противоречит любви к правде и стремлению к тому, чтобы «правда торжествовала»; поэтому врущий человек вовсе не боится быть уличенным и может даже желать этого.
Такое отношение к вранью нашло яркое отражение в эссе «Нечто о вранье», вошедшем в «Дневник писателя» Достоевского. Приведем отрывок:
С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем не может быть нелгущеш человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно – не случалось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. Ну а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин? Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!» (…) Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества – всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказанье, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. (…) Мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным.
Здесь показательно то, что в целях «остранения» Достоевский первоначально использует глагол лгать, который делает возможным сопоставление мотивов, по которым лгут «в других нациях» и «лгут» в России. Утверждается, что «в других нациях» лгут «только одни негодяи»; поскольку лгут «из практической выгоды», т. е., как пишет Достоевский, «прямо с преступными целями»; а в России «лгут», чтобы произвести «эстетическое впечатление в слушателе», доставить ему удовольствие, приятно поразить или даже обрадовать его, для каковой деятельности и глагол лгать, содержащий резко отрицательную оценку, не очень-то подходит. И понятно, что, «с удовольствием» вспоминая произведенное «радостное впечатление», естественно употребить глагол врать (Э, как я врал!), а сказать Э, как я лгал! было бы решительно невозможно. Такое вранье не подлежит моральному осуждению, и претензии к нему могут высказывать только «правдивые тупицы», «люди бездарные». В отличие от лжеца, который подсовывает собеседнику фальшивку, выдавая ложь за истину, человек, занятый художественным враньем, действует в интересах собеседника; он стремится доставить собеседнику удовольствие и потому не особенно заботится о том, чтобы даже в мельчайших деталях педантично говорить только правду.
Характерно также выражение деликатная взаимность вранья, которую Достоевский называет «почти первым условием русского общества». Деликатность (которой в русской языковой картине мира придается особое значение) здесь состоит в том, чтобы не уличать собеседника во вранье, а напротив, самому принять участие в вольной беседе, когда никто не боится отклониться от «скучной и прозаичной» истины.
Однако если человек занимается «художественным враньем» постоянно, это может вызывать неодобрение, к таким людям, подобным Репетилову из «Горя от ума» или Ноздреву из «Мертвых душ», принято относиться скептически. Так, о Ноздреве сказано, что он, бывало,