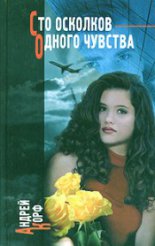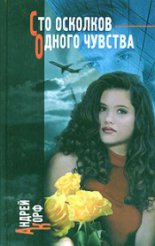«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского Сборник статей
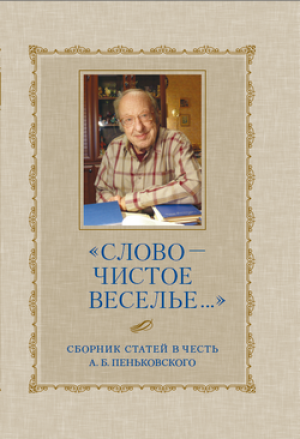
Введение
А. Ф. Журавлев
Степень качества
Профессору Александру Борисовичу Пеньковскому за восемьдесят.
Не стану всплескивать руками, мол, не верится.
Верится – ведь знаю я его уже не один десяток лет. Восьмидесятилетний его рубеж хоть и был новостью, но вычислимою, ожиданною.
Каждый раз неожиданным, вопреки времени и копящемуся опыту контактов с Александром Борисовичем – житейских, приятельских или же ученых, академических, – оказывается он сам.
Человека, не знающего Пеньковского, могут удивить уже некоторые рубежные вехи в его интеллектуальной биографии. Студентом (сначала авиационного института в Казани) он становится необычно рано, в 16 лет: последние три класса средней школы он ужал в один год. При таком старте естественно предположить быстрый карьерный рост в науке. Но нет, кандидатская диссертация (по фонетике брянских говоров) защищена им была поздно – только в 40 лет. Но зато официальный оппонент Варвара Георгиевна Орлова, авторитетнейший и строгий судия, отдавая должное исключительной добросовестности и требовательности соискателя к самому себе, оценила ее соответствующей по уровню докторскому сочинению. Нынче кандидатская диссертация рассматривается как квалификационная работа, едва ли не как письменный экзамен, и мы привыкли к стремительной инфляции суперлативов, а тогда (1967) такой высокой оценки могло заслужить только выдающееся по своим научным достоинствам разыскание.
Пеньковский – замечательный вузовский преподаватель, блистательный лектор. Этот талант Александра Борисовича я мог оценить, несколько лет подряд исполняя обязанности председателя государственной экзаменационной комиссии на филологическом факультете Владимирского педагогического института (теперь университета). Заглянув в соседнюю аудиторию, где Пеньковский давал заочникам предзачетную консультацию, заслушивался разинув рот. Лингвистические вещи, относящиеся к педвузовскому безусловному тривиуму и которые я с некоторым самомнением считал скучноватыми и понятными как облупленное яйцо, представали вдруг в новом свете, с неочевидными связями и вовсе не такими тривиальными, как казалось еще полчаса назад. Я не знаю, записывались ли студентами институтские лекции Александра Борисовича на магнитофон или диктофон (теперь эта практичная манера повсюду в большом ходу), но думаю, что если бы такие записи нашлись, их, перенеся на бумагу, можно издавать в неправленом виде: настолько хороша и логически безупречно выстроена устная, лекторская речь Пеньковского. Его доклады на конференциях и симпозиумах собирают ценителей виртуозного красноречия и великолепной логики.
Пеньковский – превосходный исследователь. Александр Борисович написал, наверное, меньше, чем мог бы: перечень его трудов включает около полутора сотен названий. Это сейчас, оставив преподавательскую деятельность (и развязав себе руки компьютером, что тоже немаловажно), он наконец расписался и выпустил за семь лет, с 1999 по 2005 год, три книги (одна из которых – двумя изданиями), а прежде педагогическая каторга отнимала пропасть сил и времени, не говоря уже о шести годах, проведенных в общей сложности на полях страны родной (ежегодная преподавательская повинность надзора за студентами на сельхозработах). Писать приходилось выкраивая немногие свободные вечера, в лучшем случае каникулярные недели. Но ведь вовсе, мы знаем, не длиною списка публикаций измеряется значимость ученого.
Уже по самой принадлежности в прошлом к преподавателям педагогического учреждения Александру Борисовичу приходилось иметь дело буквально со всем циклом лингвистической русистики – от диалектологии и исторической грамматики до анализа поэтической речи и современной коммуникации. Наверное, и эта отчасти вынужденная экстенсивность не могла не сказаться благотворно на качестве наблюдений и идей Пеньковского, которые, при любой конкретности разбираемой задачи, всегда вписаны в объемный контекст более общих интересов и фундаментальных установок. Они не замыкаются в узких схемах, а замешены на умении улавливать перекличку далеких проблем, видеть единство в разном и, наоборот, неповторимость каждой составляющей в однородном ряду фактов и явлений. Диалектология, история языка, современный литературный язык, теория нормы; фонетика, фонология, орфоэпия; морфология, синтаксис, грамматическая семантика, теория текста, пунктуация; лексика и лексическая семантика, терминология, фразеология, ономастика (антропонимия), теоретическая лексикография; язык фольклора, язык художественной литературы; герменевтика, литературоведение (прежде всего пушкинистика), культурология… – вряд ли этот список областей русской филологии, к которым прикасался своим пером Александр Борисович, можно найти исчерпывающим.
Перечислять интеллектуальные достижения крупного исследователя, не только беглым очерком, но и в подробном изложении, – дело не очень благодарное: всегда есть опасность что-то упустить, какую-то мысль недооценить, о чем-то для автора существенно важном, но не развившемся в пространный текст, не вспомнить. Десять лет назад попытку – в перечислительной манере – очертить круг основных идей Пеньковского и научных прорывов, им осуществленных, предпринял проф. Владимир Иванович Фурашов в сборнике «Филология» (Владимир, 1998), посвященном Александру Борисовичу. Увы, вступительной статьи в половину печатного листа для этого оказалось явно недостаточно. Более или менее полно представить конструктивные идеи, убедительные теоретические построения, открытия, находки, существенные уточнения, сделанные или намеченные в трудах Пеньковского, можно лишь внимательно прокомментировав чуть ли не все его публикации. Каждая его статья, не говоря о книгах, несет в себе острый момент научной оригинальности: это может быть выдвижение совершенно нового предмета для исследования (скажем, семантической «категории чуждости» в русском языке или семантической «категории масштаба», описываемой в его последних работах) либо предложение принципиально нового взгляда на предмет, понимание которого, казалось бы, пересмотру уже не подлежит (типология переходных говоров, фонологическая интерпретация фонетических долгот гласных, степени качества прилагательных, семантика наречий как особой языковой подсистемы, интерпретация системы сочинительных союзов, генезис безличных предложений, функциональная системность русской пунктуации, «сверхтропеический» статус собственных имен в художественном тексте… – продолжать можно долго). Многие посеянные им идеи могли бы стать основой особенных научных направлений.
Пеньковский – необыкновенный читатель. Александр Борисович прочитал, с карандашом в руках, постоянно делая выписки, кажется, всю русскую литературу девятнадцатого столетия и его окрестностей. Не только всю так называемую классику, от Державина и Карамзина до Чехова и, прости господи, Боборыкина, но и чуть не всю мемуаристику, «толстую» журналистику, политические, исторические, эстетические сочинения, изданную частную переписку заметных людей и проч. и уж во всяком случае всё без исключений, что было издано в пушкинскую эпоху. Будучи при этом, замечу, лингвистом – не литературоведом и не историком идеологических эволюций России, а именно лингвистом, исследователем языка. Вооруженный какой-то необычной лингвистической оптикой, умея вчитываться в бесконечно вроде бы знакомые строки, он предъявляет нам другого Пушкина – заставляя понимать его иначе, показывая текстуальные и смысловые бездны, о которых мы не подозревали, рисуя его положение в истории литературы и его роль в истории литературного русского языка в неожиданном, спорном, но от этого еще более интересном ракурсе.
В новейшем пушкиноведении А. Б. Пеньковский стал основоположником целого направления – лингвистической (или филологической) герменевтики, то есть такого подхода к текстам художественной литературы, при котором лингвистические данные используются не для построения истории языка и даже не для изучения языка писателя, а для истолкования «темных мест», которыми, как выясняется, изобилуют классические произведения. Опираясь на обширный, тщательно собранный языковой материал, Пеньковский показывает, как следует понимать тот или иной пушкинский фрагмент и откуда происходят ошибки интерпретации, свойственные нашим современникам. Вот здесь-то и пригождаются экстраординарные способности Пеньковского-лингвиста, которого отличает необычайная чуткость к малейшим, обычно не замечаемым расхождениям между нашими языковыми нормами и нормами пушкинской эпохи, к принципиальным, но не улавливаемым большинством читателей (в том числе читателей-профессионалов) категориальным различиям между нашим языком и языком Пушкина.
Пеньковский – увлекательный собеседник: умный, тонкий, с редчайшим чувством юмора, с непредсказуемыми ассоциациями и репликами «по поводу», деликатный по отношению к иному мнению, умеющий слушать и слышать. Это подтвердят все, кому доводилось вступать с ним в разговор. Я с огромным удовольствием вспоминаю долгие наши беседы – в прокуренном ли купе ночного вагона, везущего нас в Тамбов, на конференцию по грамматической семантике; на пахнущей ли тыквами и сухими травами «пеньковской» кухне, под довольное урчание дородного кота Мироши, который уткнулся в колени Александра Борисовича; во время ли прогулок по зеленому Козлову Валу во Владимире; по млеющим ли от нежного сентябрьского зноя улочкам Ужгорода… Но тут речь, кажется, начинает приобретать личные интонации, и я умолкаю.
Лежащий перед читателем сборник – дань уважения его авторов к Александру Борисовичу Пеньковскому, замечательному ученому, талантливому учителю и притягивающему к себе человеку.
А. А. Шунейко (.Комсомольск-на-Амуре)
Просветительский пафос в упаковке мажорной шутки. Речевой портрет А. Б. Пеньковского, созданный его учениками-филологами
Живое обаяние неповторимой и милой в своей дивной индивидуальности речи Александра Борисовича Пеньковского известно всем, кто с ним знаком. А знакомых много. И их количество (что важно в рамках темы) определяется не только научным авторитетом, глубиной аналитических прозрений, впечатляющим объемом сделанного и позитивными человеческими качествами, но и характером самой речи Александра Борисовича, которая притягивает и запоминается, создает вокруг себя особое коммуникативное пространство, мягко, но властно подчиняющее себе каждого, кто с ним соприкасается или оказывается в него вовлечен.
Чтобы объективировать настоящий портрет, я (форма автономинации продиктована сказанной однажды А. Б. фразой «до мы надо дорасти») решил не ограничиваться собственными эскизными набросками и обратился к людям из круга живого общения А. Б. с вопросами о приоритетных сторонах его речи. В ответ получил достаточно большую совокупность оценок речи (в терминологии Б. С. Шварцкопфа) и сконструировал из них инвариантные идеостилевые характеристики (в терминологии В. П. Григорьева), снабдив их прагматическими комментариями и выявив доминанту (она в заглавии).
Семантика (тематика) и синтагматика речи
С точки зрения широты или узости (А. Б. любит называть обязательно оба члена оппозиции, в чем реализуется его, столь редкое теперь, стремление к буквальной точности) количества затрагиваемых в процессе разговора тем существует два типа собеседников (повествователей): монотематические и политематические. Первые в любой ситуации неофициального бытового (и не только) общения всегда стремятся инициировать какую-либо одну тему или свести любой разговор к ней (о рыбалке, о машинах или о детях, о покупках). Таких людей настолько много, что языковое сознание выработало для них специальную характеристику: у кого что болит, тот о том и говорит. Вторые практически никогда одной темой не ограничиваются, одна тема ими не переносится из ситуации в ситуацию. Например, в размышлениях о поэтике бытового поведения В. М. Живов довольно четко сформулировал доминантные темы разговоров двух значительных филологов: Ю. М. Лотман повествовал преимущественно о военных годах, Л. Я. Гинзбург – о человеческих слабостях. Очевидно, что Ю. М. Лотман говорил не только о войне, а Л. Я. Гинзбург – не только о слабостях, но именно это, по авторитетному свидетельству, были для них предпочтительные темы разговора, следовательно, их можно отнести к числу монотематических повествователей.
В речи А. Б. аналогичного семантического центра (или повествовательной доминанты) выявить нельзя. Это существенный признак, раскрывающий особенности организации языкового материала, за которыми особенности языкового сознания. Практика многолетнего (благодарного и часто восторженного) общения с А. Б. не позволяет определить единой тематической сферы, любимого предмета разговора. У А. Б. доминирующая тема попросту отсутствует, он повествователь политематический, в речи которого представлена совокупность равнозначно важных по частотности упоминаний, степени заинтересованности и иным параметрам
Кстати отмечу, чтобы портрет помещался пусть и в пунктирно намеченной, но все же галерее, что, скажем, Б. С. Шварцкопф, В. П. Григорьев и Н. А. Кожевникова тоже, безусловно, относились к числу политематических повествователей с частично сходными и существенно разнящимися с А. Б. темами, но также без единой главной.
Бытовая речь А. Б. – веер (калейдоскоп или пасьянс) тем, равномерно и прихотливо соединяющихся между собой и раскрывающихся в зависимости от самых разных коммуникативных причин. Дробить их можно с различной степенью детализации, а на наиболее абстрактном уровне определить так: ситуации из жизни, гастрономические и застольные дела, в глубины истории, филология (и две факультативные – дача и поездки за рубеж). В реальном повествовании эти темы оказываются во взаимодействии и часто чередуются по принципу семантической соположенности.
Про жизнь свою и близких людей А. Б. (в этом он очень похож на Б. С. Шварцкопфа и В. П. Григорьева) говорит постоянно. Как правило, в центре повествования не сегодняшний день и не ближайшее прошлое, а уже некий отстоявшийся опыт. Это жизнь, ставшая историей или запечатленная в ней; это реальная история через действия ее участников. С тем же постоянством, с каким, например. Н. А. Кожевникова обращалась к двум темам – истории Института русского языка в лицах и архитектуре Москвы в персоналиях, А. Б. воспроизводит разнообразные случаи из жизни. Эти случаи всегда информационно полноценны, в них есть много поучительного, обязательно смешного и часто таинственного.
Они устойчиво совмещают в себе несколько модальных планов, так что в зависимости от интонации акцентируется какой-нибудь один. А все остальные его поддерживают. Все эти бытовые зарисовки погружают в эпоху и дают живое ощущение времени. Таких замечательных и ориентированных на бытовой колорит рассказов множество, например: О том, как на послевоенном рынке его учили выбирать и покупать махорку. О студенте из первого выпуска, который так и не понял, почему он должен называть меня на Вы. О родственнике, ученом из академического института, и ведре вареной картошки. О старой цыганке с когтистой лапой совы на иссохшей груди, о том, что она ему посулила и как это сбылось. Об общении с продавцами в магазинах.
Во всех этих рассказах делается неявный, но обязательный акцент на подробности, которые усиливают достоверность, а перечисление деталей и воссоздание общего антуража при частных вставках погружают собеседника в воспроизводимую среду. В силу этого рассказы приобретают особый вид документированных исторических свидетельств, которые одновременно поражают своей достоверностью и привлекают отсутствием научной сухости и лобовой фактографичности. Они, будучи по природе документальными, напоминают сценарии игрового кино, где визуализация жеста и копирования играют очень существенную роль. Собеседник становится зрителем, на время погружающимся в описываемую среду.
Внешне все эти рассказы ориентированы на украшение речи, поддержание разговора или концентрацию внимания собеседника; они имеют вид легких иллюстраций, вставленных между делом (среди прочего). Но при этом наделены очень высокой мерой поучительности, которая оказывается чрезвычайно разнородной. Это и поучительность факта, и собственно нравственная поучительность, которой А. Б. не чужд, и поучительность языкового материала. С одинаковым успехом примеривая различные языковые маски, рассказчик дает собеседнику объемное представление о широте и разнообразии речевых впечатлений, погружает его в стихию речи в ее самых различных (в том числе и экзотических) проявлениях.
Совокупность рассказов можно сравнить с усовершенствованной фонохрестоматией, куда собраны (где бережно сохранены) показательные формы индивидуальной речи; знакомство с ней развивает набор речевых представлений и навыков собеседника. Возникает впечатление, что живая русская речь, сказанная когда-то в иной среде, продолжает свою трансляцию, звучит не слабым эхом, а проходит сквозь время в своей первозданной четкости и колоритности. Языки сельской базарной площади и городского магазина, университетской аудитории и академического коридора, шумной улицы и тихой деревенской избы обретают в огласовке А. Б. вид структурированного как гипертекст полилога.
Очевидно, что для создания такого полилога недостаточно одной хорошей языковой памяти. Необходим еще постоянный интерес к речевым формам, совмещенный с целостным представлением о речевой стихии, то есть качества, которыми А. Б. наделен в полной мере.
При этом такие рассказы предполагают еще один эффект: диктуют собеседнику особый тип восприятия рассказчика – приподнимают фигуру самого автора как соучастника или живого участника, как человека с очень богатым и значительным жизненным опытом, мудрого в житейском смысле, много повидавшего и живо воспринявшего события. Опыт истории ассимилируется с опытом человека, в результате трансформирующегося в лицо историческое.
Думаю, если бы у А. Б. было желание, эти рассказы вполне можно издать отдельной книгой.
Кулинарные темы, как правило, локализуются застольными и дачными беседами. Интересно в этой связи, что А. Б., считая себя кухонным человеком, любит подчеркивать творческий характер работы на кухне, где для приготовления блюд нужны вдохновение и озарение не в меньшей мере, чем в науке. Это также одно из проявлений его неформатности.
Примеры реализации темы: Рецепт знаменитой сосновой настойки, в основе которой слои свежих сосновых побегов и сахара, с описаниями ее цвета. Рассказы о том, как приготовить французский луковый суп или фаршированную рыбу. Рассуждения о том, что овощное ассорти необходимо закатывать так, чтобы можно было поставить на стол прямо в банке и все это выглядело красиво. Экскурсы в проблему качества самогона. Восхваление варенья из жимолости и из ранета. Общие размышления о том, что мужчина должен уметь готовить сам. Нормативные указания – нельзя пить коньяк как водку и т. д.
В этих рассказах голос А. Б. не совмещается с речевыми масками и демонстрирует повествователя напрямую. Поэтому очень интересно, что в них доминируют слова из семантических полей цвета, запаха и качества. Соединяясь между собой, они создают особые вербализованные кушанья. Не только возбуждающие аппетит, но и насыщающие.
Примечательно в этой связи, что одна из слушательниц лекций А. Б., никогда не сталкивавшаяся с ним в быту (и далекая от гастрономических изысков), так оценила его публичную речь, оговорив, что восприятие базируется на двух метафорических рядах:
Первая метафора – гастрономическая. А. Б. говорил со вкусом: неспешно, обстоятельно, с удовольствием. Он наслаждался, смаковал слова, приправлял их самыми неожиданными контекстами, извлекал из них самые изысканные семантические ноты. Добавлю к этому, что слушать А. Б. было очень вкусно и питательно. А. Б. был щедр, он всех приглашал к пиршественному лекционному столу, надеясь, что публика сможет оценить по достоинству красоту и тонкий вкус подаваемых блюд.
Конкретный тематический план перешел в модальность речи, наложился на несвязанное с ним повествование, воплотился в ее смысловой и интонационной плоти, создал эффект пиршественного наслаждения. Вероятно, это возможно только в том случае, когда сам процесс речи начинает восприниматься как наслаждение. Осуществляется перенос семантики в паралингвистические сферы или конкретная семантика замещается таким способом ее воплощения, ассоциативный план которого оказывается тесно с ней связан. Эта любопытная трансформация возможна только в случае смены сегментного способа выражения на суперсегментный.
Исторические экскурсы, то есть обращения не к личной, а к общей истории, в речи А. Б. формально реализуются в двух типах сообщений: свидетельства из мемуарной литературы и исторические анекдоты. Мемуарная литература – едва ли не самый любимый круг чтения А. Б. (для сравнения – Б. С. Шварцкопф больше всего любил приключения и детективы); есть здесь предпочтительные авторы, в основном конца XVIII – начала XIX века, например А. Т. Болотов.
Такие сообщения, как правило, носят актуальный характер и связаны с более широкой темой какого-либо разговора. Благодаря упоминаниям исторических фактов, лиц и событий, проявленных через исторические анекдоты или мемуарные свидетельства, рассказчик актуализирует различные времена (как правило, российской истории), выступая как составная часть их всех, уверенно ориентирующийся в них субъект. К российской истории прибавляется библейская.
Примеры реализации темы: анекдоты времен царствования Екатерины II и Александра I, случаи из жизни московских купцов, история цензуры, жизнь литераторов, анекдоты про М. Светлова и т. д.
Обращения к сюжетам этого тематического плана могут выполнять еще две специфические функции: собственно просветительскую и ориентационную. Озвучивая поучительные страницы истории, А. Б. расширяет круг знаний собеседника. В тех же случаях (что бывает нечасто), когда этот круг соизмерим с объемом знаний самого А. Б., упоминания выступают в качестве метединства уровня компетентности или единиц некоего общего языка, знаменующего сходные характеристики в способе мировидения и восприятия реальности.
Если рассказы из жизни создают облик мудрого и знающего в житейском смысле человека, то анекдоты добавляют к этому образу эрудицию и общие знания компетентного ученого. В результате возникает многогранная фигура, совмещающая в себе бытовую мудрость с мудростью исторической.
Филологические размышления (А. Б., как и В. П. Григорьев, не приветствует формального подразделения единого филологического знания на лингвистику и литературоведение) – также одна из доминирующих тем, не локализованная пространственными или временными условиями. Они включают в себя оценки ученых и идей, концепций и взглядов, фактов и способов их подачи, интерпретаций и мнений, сложившихся стереотипов и новаций в самом широком диапазоне, отражающем характер научных поисков и смежные с ним области.
В разговоре о филологии преобладает стремление поделиться не только фактическими знаниями, но и собственными наблюдениями. Щедрость активного и постоянного собирателя материала – одна из характеристик А. Б., делающая его своеобразным культурным антонимом скупого рыцаря. В арсенал обязательных умений университетского преподавателя входит способность (далеко не у всех присутствующая) придумывать новые исследовательские темы. По тому, какие именно темы наставник дает своим ученикам, без труда можно определить его квалификацию: степень разнообразия и мера оригинальности – прямой показатель его исследовательских потенций и широты взгляда. В этом смысле А. Б. – явление уникальное, и не только потому, что предлагаемые им темы всегда интересны, но и потому, что это предложение он осуществляет не только в рамках формальных образовательных процедур (когда необходимо по должности), но и вне их.
Он и в свои уже достаточно высокие годы сохраняет живость умного восторженного юноши, который говорит: посмотри, как это интересно. Пространство языка перед его глазами (на его слух) выступает как область, требующая исследования по необходимости своего существования. И А. Б. в это исследование стремится вовлечь как можно больше народу. Он не просто умеет изредка замечать, а постоянно видит то, что нуждается в исследовании. Думаю, что при желании можно даже сформулировать какой-либо коэффициент генерирования идей. У А. Б. показатель этого коэффициента будет самым высоким; отмечу, что высоким коэффициентом генерирования идей отличались также В. П. Григорьев и Б. С. Шварцкопф, у последнего были даже специальные тетради, куда он записывал только темы.
В динамичном и непрерывном порождении новых тем проявляется соединение широты аналитического взгляда, перспективной направленности и щедрости говорящего. Кроме того, здесь можно увидеть особое отношение к проблеме или к теме как самостоятельному объекту. Озвучивание ее перед другим – это, конечно же, испытание ее на прочность, а кроме того, это стремление дать ей жизнь, выпустить ее в коммуникативное пространство, придать импульс потенциальной разработки. Тема воспринимается как нечто, что обязательно должно иметь развитие, требует внешнего выхода, реализации. Однажды А. Б. сказал: было бы очень интересно посмотреть, как стиль автора, которым в данный момент занят исследователь, влияет на стиль его статей.
С филологией совмещаются и жизнелюбивые, «опасные темы» раблезианского толка. В частности, это проявляется в анализе семантики, этимологии, морфологии, характера употребления и культурного статуса мата. Тут мысль А. Б. летала от индоевропейской древности до лексикона соседней пивной с изяществом барковской строки. Но такие темы поднимаются только с близкими людьми. В публичные выступления и лекции А. Б. нередко проникают анекдоты. Например, в лекции о типах склонения А. Б. приводил следующий анекдот: «Император – солдату: "Где поезд?". Солдат: "В депе" Император: "Дурак, депо не склоняется". Солдат: "Перед Вашим Императорским Величеством всё склоняется!"» Запомнили анекдот на всю жизнь.
Само по себе совмещение различных тематических планов характерно для образцовых ораторов (например, представлено в публичной речи Н. Д. Арутюновой и Г. А. Золотовой). Но у А. Б. нарушение границ выразилось еще и в возникновении некоторого промежуточного лекционного жанра – рассказа, который ни к бытовой речи, ни к научной отнести нельзя. Так, три блестящие лекции А. Б.: 1. Как студенту верно организовать свою учебу, вести конспекты и готовиться к практическим; 2. Как студенту готовиться к экзаменам, о типах и пользе шпаргалок; 3. Установочная лекция перед диалектологической практикой с воспроизведением диалектной речи и правил разговора с сельскими жителями.
Соединение тем в реальном разговоре на уровне повседневной речи демонстрирует расширение границ восприятия филологии, представленное в монографиях А. Б. о Пушкине. Получается, что как речевая форма может быть оценена адекватно только с учетом очень большого количества взаимосвязанных параметров, так и конкретный факт реальной жизни может получить верную оценку, только если для его описания привлечен широкий контекст. В синтагматическом отношении между повседневной и научной речью наблюдается полный изоморфизм.
Способ репрезентации и взаимодействие тем прямо указывает на то, что А. Б. является носителем уходящей речевой традиции – культуры устного повествования. Неспешный рассказ в его исполнении – рефлекс коммуникативной среды, в которой устная форма передачи информации равноправно соседствовала с письменной. В изменившемся информационном мире такие островки устной культуры очень ценны и интересны не только как факт истории, но и как реальные коммуникативные формы, постепенно исчезающие из коммуникативного пространства.
Эти формы имеют свою особую поэтику устного рассказа, базирующуюся на очень мобильном соединении различных средств, в своей совокупности ориентированных на реализацию эффективного воздействия в самых различных ситуациях. Поэтика динамически реализуемого смыслового ядра в них предопределяет высокую степень адаптивности, обеспечивающей устойчивость основного смыслового комплекса.
Единицы речи
По формальной коммуникативной установке (или, условно говоря, цели высказывания) в речи А. Б. преимущественное положение занимают прямые констатации и шутки (тоже констатации, но иного типа). Именно они, будучи часто отстраненными, исполняют роли наставлений, побуждений, требований, вопросов, просьб. Формальное единство при функциональном разнообразии порождает различные коммуникативные эффекты. Оказывается, что то и другое, не будучи внешне непосредственно ориентировано на воздействие, достаточно сильно влияет на собеседника. В их преобладании, помимо прочего, проявляется привычка человека, которого «и так слушают» и которому, по этой причине, нет необходимости затрачивать дополнительные усилия для организации и активизации контакта с собеседником, который отдает себе отчет в значительности и силе своей речи и важности предметов разговоров.
Прямые констатации актуализируют самые различные сегменты реальности. Например, его характеристика одной из информанток: « У нее государственный ум, она могла бы руководить министерством» не только непосредственно оценивает этого человека, но и содержит в себе ряд скрытых побуждений, обращенных к собеседнику – «будь наблюдателен и помни о том, что социальный статус человека часто не связан с его интеллектуальным статусом».
Активное использование готовых речевых форм – цитат из различных источников с явным преобладанием библейских и фразеологических оборотов придает речи и конкретным высказываниям эффект контекстной вовлеченности в высокие сферы. Повышается ее аргументационная и убедительная сила и одновременно формируется фон восприятия сказанного не как сиюминутного замечания, а как глубоко осмысленного утверждения, убедительно коррелирующего с бесспорно авторитетными речевыми формами. При этом сами цитаты часто воспроизводятся иронически, что продуцирует многозначность интерпретивного плана.
Очень интересной и ярко индивидуальной особенностью является использование перечислительных синонимических рядов фразеологизмов, акцентирующих внимание на оценке факта, делающих эту оценку непреложной: ни два ни полтора; ни рыба ни мясо; ни в городе Богдан, ни в селе Селифан…
А. Б. любит воспроизводить факты без комментариев с одной интонационной оценкой. Фразу секретаря обкома, который, прослушав в порядке партийного контроля его лекцию по церковнославянскому языку, выразил неудовольствие по поводу того, что студенты работают с текстами из Священного Писания, А. Б. передавал без комментария: «А почему бы Вам не перевести на церковнославянский "Манифест Коммунистической партии"»? В таком способе репрезентации можно увидеть одно из многочисленных проявлений корректности А. Б. и разными средствами проявляемого им уважения к собеседнику. Опуская оценку, А. Б. говорит: я тебя достаточно уважаю и считаю достаточно умным, чтобы объяснять тебе эти вещи.
Обращает на себя внимание частотно представленное в речи А. Б. стремление к различным типам переноминации или необщепринятой номинации объектов, в том числе к индивидуальным вторичным номинациям. Например: разговорные номинации окружающих реалий (что в неменьшей мере было характерно и для речи Б. С. Шварцкопфа). Пердизиум – "места в автобусе, на которых пассажиры находятся лицом к остальным". Оценка мужа одной из собеседниц: «Мы с вами одной породы – шутконосы» и т. д. В этих и подобных случаях можно увидеть связь с общим интересом А. Б. к именам собственным и свойственное ему стремление к переструктурированию мира, обращения окружающего пространства в пространство личное, воспринимаемое не через призму принятого всеми кода, а через индивидуальную призму. Так, автор этих строк в речи А. Б. – фчс, то есть «факультативный член семьи».
У А. Б. присутствует умение озвучивать устойчивые выражения так, в таком контексте, что они становятся компактными и очень ёмкими маркерами актуальных жизненных ситуаций, по сути своей превращаются в градуировку некой абсолютной оценочной шкалы. При этом изначальное озвучивание не сопровождается комментарием, но в силу интонационной экспрессии все становится понятно. Например: Благодаря или вопреки – «указывая на формальную или внешнюю связь между фактами, всегда следует помнить о том, в каких содержательных отношениях они находятся» (в разговоре о том, что Тарковский большинство своих фильмов снял в СССР). Не надо ломиться в открытую дверь – «прежде чем формулировать некое сильное теоретическое утверждение, выясни, не существует ли оно уже в иных огласовках» (в разговоре о статусе нейтральных компонентов синонимических рядов). Наличие отсутствия – «факт формального и/или содержательного отсутствия чего-либо в каком-либо контексте может быть более значимым, чем присутствующие единицы» (при разговоре об официальной информации).
Особое место среди таких формул занимает презумпция художественности – «при восприятии любого художественного текста априори необходимо исходить из представления о том, что любой его компонент является эстетически значимым, противоположное нуждается в специальных доказательствах». Повтор этой максимы оказывается устойчиво связан с общей ориентацией на высокие демократические ценности и часто сопровождался указанием на то, что это так же, как презумпция невиновности в демократических странах. Во всех этих формулах обращает на себя внимание соединение собственно филологического и идеологического смыслов, их двунаправленная ориентация на языковые и внеязыковые проблемы, умение суммарно представить в них сконцентрированный универсальный опыт.
Сильный эффект межличностного взаимодействия продуцируется не за счет того, что А. Б. тянет к себе собеседника за уши императивами с семантикой "слушай, а вот я тебе сейчас нечто важное скажу", а посредством того, что просто говорит важное. Он не притягивает или внешне подчиняет, а вовлекает. Показательна в этом отношении еще одна метафора:
Вторая метафора – водная. Речь А. Б. лилась не бурным мутным потоком, а текла ровно, сдержанно, так, что поверхность воды кажется ровной и гладкой, в то время как мощное подводное течение подхватывает тебя и куда-то неумолимо увлекает. И лишь в конце лекции, оглянувшись, обнаруживаешь себя в абсолютно прозрачной, чистой и глубокой заводи, сквозь толщу прохладной воды которой ясно прорисовывается роскошный рисунок речного дна.
Границы между собственно констатациями и шутками в речи А. Б. часто оказываются размытыми. Предлагая запомнить название улицы, на которой он поселился в Москве, – имени литовского поэта Донелайтиса, – он это имя озвучил таким образом: «Да не лайтеся и не ругайтеся». Изображая обиду обывателя по поводу издавна существовавшего в нашем обществе социального неравенства, любил цитировать персонажа повести Пильняка, разлагавшего на самостоятельные семантические единицы составляющие слов коммутаторы и аккумуляторы.
«Кому – таторы, а кому – ляторы». Крепкое мужское ругательство приобретало ихтиологический код: «Минтай на хек, бельдюга!» и мн. др. Шутки самого А. Б. или актуализируемые им тут же проникали в окружающее коммуникативное пространство и циркулировали в нем подобно тому, как это происходило со ставшими уже классическими фразами Ф. Г. Раневской.
Ироническое восприятие фактов и постоянное обращение к шутке тесно связано с языковой игрой, наличие которой справедливо воспринимается в качестве одной из особенностей речи интеллигенции (Л. П. Крысин и др.). А. Б. мастер и страстный пропагандист знаменитой игры «Почему не говорят…», справедливо полагающий, что ее использование – стимул к развитию языковой компетентности. Эта языковая игра актуализирует и развивает речевые навыки, расширяет, вырабатывает нетрадиционный взгляд на языковые формы, тренирует в этом смысле навык к анализу, воспитывает способность увидеть формы с новой точки зрения. А смена точки зрения продуцирует новые взгляды и выводы.
Одна из функционально значимых единиц речи А. Б. – пауза (вернее, разнотипные паузы). Не случайно многие его слушатели обратили внимание на способность А. Б. паузировать речевые отрезки так, что посредством молчания осуществлялось приращение новых смыслов. Оценки демонстрируют, что семантика осмысленного молчания запоминается носителем языка не меньше, чем семантика речи, если за этим молчанием скрывается не зевота или лихорадочные поиски подходящего слова, а живая полноценная мысль.
А еще А. Б. умеет держать паузу – совершенно по технике Станиславского;
Молчание. Дает время осмыслить сказанное, и создается ощущение, что он в этот момент развивает какую-то логическую цепочку, выбирает главное;
По-моему, пауза, умение держать паузу – самое запоминающееся в речи А. Б.
Конечно, семантика этих пауз во многом определяется контекстом окружающей речи, но они и самостоятельно (да еще при поддержке знаменитого взгляда А. Б.) способны сказать многое.
Еще одной полноценной самостоятельной и функционально значимой единицей речи А. Б. можно считать клуб дыма. Лет двадцать тому назад по степени приверженности к табакокурению с А. Б. в филологической среде мог соперничать разве что В. П. Григорьев (заглазно называемый Дымокур Петрович). Длительность разговора с ними можно было с большой степенью точности измерять количеством выкуренного. При этом в разговоре с А. Б., кроме непосредственных участников, функциональностью полноправного компонента коммуникативной ситуации наделялась еще и пепельница. Ситуация: после очередного запрета на курение в институтах А. Б. стоит в коридоре и курит, мимо проходит ректор и неуклюже пытается сделать ему замечание. «А у меня есть пепельница», – следует беспроигрышный ответ А. Б., сопровождаемый тем, что эта самая бумажная пепельница подносится некурящему ректору со всем ее содержимым прямо под нос.
В семиотическом аспекте очень интересно восприятие процесса курения в пространстве тоталитарного государства, где курение подчас становилось одним из способов не простой самоидентификации, а демонстрации отношения к режиму. Это отдельный, но важный для темы сюжет, потому что, даже если не выходить за рамки лингвистики, совершенно очевидно, что речевое поведение курящего человека существенно отличается от речевого поведения некурящего: сигарета диктует свою жестикуляцию и мимику, а манера курить оказывается тесно переплетена с манерой говорить. Поэтому воспринимать клуб дыма как единицу речи можно только на грани шутки и серьезной констатации. Так, для А. Б. затяжка и клуб дыма непосредственно связаны с его мхатовской паузой – могли заполнять ее или использоваться для ее создания. Равно как изготовление пепельницы из бумаги (отличный вариант) в ситуации разговора на подоконнике становилось осмысленным поводом к темам или новой паузе. А манера именовать иностранные сигареты их переведенным на русский язык названием – одной из собственно лексических характеристик.
То есть клуб дыма буквально тянет за собой иные характерологические особенности речи: ее мерную паузированность или специфический ритм, особенности и движение взгляда (и мимики), присутствие характерных консонантных призвуков, наличие постоянного (про запас) повода отвлечься или переключиться, меру ее интимности и т. п. И все это можно воспринимать как полноценные речевые характеристики, тем более что собеседники обращают на них внимание:
И всегда лукавая интонация, и глаза с прищуром, и глубокая затяжка сигареты, и многозначительный выдох клуба дыма, и поощрение: «Ну что ж, доказывай, авось что-нибудь получится»;
Во время курения внешне проявлялось различное внутреннее состояние: иногда он был отстраненным, погруженным в себя, а иногда замечал меня, тогда его взгляд становился веселым и лукавым.
Общие характеристики формы речи
Даже при фактической спонтанности речь А. Б. практически всегда последовательно выстроена: причины и следствия, аргументация и выводы, главное и второстепенное всегда четко увязаны и совмещены с логичностью и развернутостью, помещенными в достаточно строгую композиционную форму. Вместе с А. Б. говорит навык и филологическая традиция, говорят любимые авторы. Но эта выстроенность не производит впечатления схематичной заданности и искусственности. В общей характеристике речи парадоксально сочетаются две стихии – ее внутренняя ориентация на книжность и ее внешнее восприятие в качестве живой, динамичной, естественной и очень свободной в своих вариациях:
Весенняя гроза с громом и молнией. И вообще, казалось, что он занимает большое пространство, не оставляя вокруг себя свободного места.
В то же время речь А. Б. – «гроза» без резких порывов ветра и сломанных сучьев. Речь характеризует медлительная мерность и корректная паузированность в сочетании с отсутствием внешних эффектов и достаточно скупой (сдержанной) жестикуляцией, представленной, главным образом, жестами вовлечения или обволакивания.
Несуетливая речь. Каждый элемент значим. Нет эффектных интонаций и жестов, игры голоса. Но речь завораживает именно важностью, содержательностью мысли.
Темп речи практически никогда не убыстряется. Но может замедляться на наиболее важных вещах.
Нелишним представляется отметить, что эти характеристики исходят, в первую очередь, именно из содержательных особенностей. Мы сталкиваемся с достаточно редкими случаями, когда восприятие продуцируется семантикой, основано на ней. Здесь же форма отодвигается на второй план (как в художественном тексте высокого уровня). И полное отсутствие внешних признаков традиционно понимаемого трибуна с его обязательной эффектно-броской манерой подачи, с расстановкой акцентов всем телом на практике продуцирует образ задушевного мудрого собеседника, оказывающего гораздо большее воздействие на внимательных слушателей.
Во время публичного выступления А. Б. говорит
как поэт-философ, любуясь произнесенной фразой, как бы пробуя ее на вкус. Часто обращается в пространство, ни к кому конкретно, говорит обобщенно.
При межличностном общении, напротив, концентрирует внимание на собеседнике выразительным взглядом:
Во время речи он часто разводил руками, наклонял голову, всматривался в лицо собеседника, скрещивал руки на груди.
В обоих случаях присутствует общий налет академической отстраненности. Она не только не вызывает отторжение у собеседника, но служит опосредующим звеном, связующей скрепой, обеспечивающей единство ситуации и пробуждающей уважительный интерес, который влечет за собой концентрацию внимания.
Речь А. Б. совмещает в себе доступность и нетривиальность. Однажды он иронически оценил одного своего постоянного собеседника: словечка в простоте не скажет, подразумевая под этим устойчивое и не всегда безуспешное внимание того к внешней форме своей речи. Сам он более всего боится тривиальности, безвкусной нейтральной нормы, но ему это никогда и не грозило.
Ироничность А. Б. отмечают все собеседники в качестве одной из доминирующих черт. Важно, что это не ироничность всезнания или холодного скепсиса, а ироничность сомнения, размышления и поиска. Ирония А. Б. приоткрывает нам сферы языкового сознания, в которых адекватное понимание себя совмещено с твердым знанием условности используемого метода и с тем, что все в конечном счете разовьется своим чередом: и у тебя будет. Любопытно в этой связи то, что А. Б. человек не модный, в частности он никогда не был приверженцем столь популярной в филологической среде скоротечной научной моды. Он строгий и последовательный эволюционист.
А. Б. любит совместить соленую шутку и тонкую ироничность так, чтобы в результате получилось образование, предполагающее одновременно несколько прочтений. Это и испытание собеседника на сообразительность, и прямое следствие того, что он часто говорит о вещах, не предполагающих однозначных решений. То есть это ирония и шутка в своих классических вариантах, известные как юмор сотрудников института Нильса Бора.
Все эти особенности представлены в бытовой и в публичной научной речи, за исключением того что в публичной ироничности гораздо меньше и она никогда не распространяется на факты и на выводы. Область языковых фактов для А. Б. вообще приближена к сакральной и даже сопровождена специальным ритуалом (резание карточек). Языковой факт – это божество, предельно уважительное отношение к которому со стороны А. Б. воздает ему сторицей. Так, по поводу ведения научной дискуссии:
Но это было всегда изысканно-корректно, в высшей степени достойно. Высший пилотаж научной дискуссии, искусства диалога.
А. Б. – один из немногих ученых, которым аплодируют на научных конференциях, отмечая одновременно и исследовательский вклад и форму.
Отдельный интерес представляет собой то, каким образом общие характеристики речи А. Б. соотносятся с наблюдениями лингвистов над особенностями речи интеллигенции. Остановимся на нескольких сюжетах.
По мнению Л. П. Крысина и Т. М. Николаевой, речь интеллигенции отличается настороженностью к языковым новшествам и консерватизмом.
Речевой консерватизм характеризует и речь А. Б., но в реальной практике эта общая особенность приобретает индивидуальные черты, проявленные в том, что применительно к А. Б. можно говорить только об относительном консерватизме. Он, безусловно, реализуется в том, что речь по темам и по образцам имеет доминирующую ретроспективную ориентацию. С этим, в частности, связано практически полное отсутствие в речи А. Б. жаргона, что также считается одной из характеристик речи интеллигенции (об этом писали Е. А. Земская, О. П. Ермакова и др.).
В то же время консерватизм – только общая база, некая высокая пьедестальная традиция, на которой развиваются и действуют объекты, от канона далекие.
Консерватизм воплощен в основе, но не в подходе, то есть традиционные модели постоянно получают новое индивидуальное воплощение. В результате продуцируется «традиционное новаторство» или воплощается очень мобильная (живая) традиция. Отторгается же (как правило, через ироническое переосмысление) сиюминутная речевая мода, то, что В. Г. Костомаров называет речевым вкусом эпохи. Но с этим отторжением соседствуют новации в соответствии с высокими образцами. В силу этого сама традиция испытывается на прочность и ей обеспечивается новационная трансляция.
Характерное для интеллигенции умение переключаться в процессе общения с одного речевого регистра на другой, отмеченное Л П. Крысиным, представлено в речи А. Б. с мастерской последовательностью и осуществляется без каких– либо видимых усилий, демонстрируя предельно широкую ориентацию в языковых формах и одновременно показывая знание специфики различных коммуникативных ситуаций. Однажды во время одной из диалектологических экспедиций А. Б. буквально двумя фразами не только привел в чувство двух изрядно подвыпивших аборигенов, которые излишне активно интересовались студентками, но и вызвал у этих аборигенов законное уважение. Такое же уважение он вызывал у старообрядцев, когда на вопрос: «А по-нашему читать можешь?», – читал и цитировал их книги. Анекдотичным примером такого выражения может служить ситуация, когда буфетчица в Домодедово приняла А. Б. за Евгения Евстигнеева.
По утверждению Ю. Н. Караулова и Л. П. Крысина, для речевого общения характерен высокий удельный вес прецедентных текстов. Выше показано, что речь А. Б. в этом отношении не является исключением, но, при этом, демонстрирует две яркие особенности. 1) Л П. Крысин отмечает, что речь интеллигенции наполнена, в первую очередь, прецедентными текстами из арсенала культуры, а речь простого народа – прецедентными ситуациями. В речи А. Б. это противопоставление снято – в ней в равной мере присутствует и то и другое, реализуя некоторую универсальную позицию говорящего. В таком соединении, опять же, можно видеть способность А. Б. переключаться, говорить со всеми и ранжировать характер своего речевого поведения. Так, для А. Б. одним из предметов личной гордости является умение говорить с продавцами и быть понятым ими (Б. С. Шварцкопф рассказывал, что В. В. Виноградов с продавцами кулинарии на Арбатской площади говорить не умел). 2) Фоновая функция таких текстов в речи А. Б. замещается тем, что они часто становятся центрами повествования. В чем проявляется его ориентация на постоянное восприятие себя и своей речи в контексте, восприятие ее не как сиюминутной (направленной только на здесь и сейчас), а как более значительной. Продуцируется речь в пространстве истории вне социальных и образовательных срезов, полноценно демонстрирующая адаптивные возможности говорящего.
Все это создает подчеркнутую мягкость и корректность в соединении с ощутимым коммуникативным напором, поддерживаемым осознанием собственной правоты и предопределяет многие прагматические характеристики.
Прагматика речи (особенности коммуникативного поведения)
Близкий друг А. Б. – Б. С. Шварцкопф не один раз повторял: в речи воздействует то, что отклоняется от нормы. Вся речь А. Б. – сплошное отклонение, концентрирующее на себе внимание, но при этом такое, что оно поражает, восхищает, цепляется за память, но не отталкивает. Виртуозное владение речевыми формами и их деформации, раскрывающие прагматическую силу единиц, создают эффект ненавязчивого воздействия через шутку и юмор.
А. Б. умеет целенаправленно организовывать коммуникативное пространство для людей, с которыми он контактирует, и в личностном плане, и в плане их взаимодействия с другими людьми. Например, организует знакомства их и включения в разговор именно с такими людьми, беседа с которыми будет полезной в высоком смысле этого слова.
Сам же он при реализации контакта или при его организации демонстрирует постоянную расположенность к общению, отсутствие коммуникативной преграды в любой ситуации и реализует стратегию контактного взаимодействия. Он всегда продуцирует открытую речь – не «между нами», не «на ушко», а прямо и открыто, то есть ведет себя как человек, которому нечего и не перед кем скрывать. При этом открытую речь часто сопровождает эффект рождения мысли, установка на выявление, а не на начетничество. Отметим, что эта установка парадоксально связана с доминированием в речи констатаций.
Связанные с координацией с собеседником вопросы находятся в сфере размышлений А. Б., например один из его рассказов воспроизводит разговор директора академического института с рабочими. Уже отмеченное выше умение ранжировать свою речь в функциональном плане очевидно предполагает способность координировать свое поведение в зависимости от типа собеседника. Способы координации располагаются между двумя противоположными точками: абсолютное дистанцирование (разговор с пьедестала) и полная подстройка (принятие манеры собеседника). А. Б. всегда находится в центре, ему одинаково чуждо и первое и второе. Он подстраивается дистанцируясь и дистанцируется подстраиваясь.
Он не навязывает, а предлагает тип совместного коммуникативного поведения, который оказывается комфортным и приемлемым для обеих сторон. А уже вслед за этим в рамках и тональности разговора на равных организует речь так, что в ней главенствующим является именно предмет разговора, а не характеристики собеседников. То есть он умеет отстранить личные амбиции, такое понятное многим людям желание быть первым, а сконцентрироваться на сути речи. Здесь и происходит органичное втягивание в предмет разговора:
Мыслил вслух, втягивал в процесс размышлений.
А все это подкрепляется тем, что мера его личностной заинтересованности передается собеседнику, заражает его и ко многому собеседника обязывает. Она не оставляет ему выбора или возможности уклониться. Собеседник буквально оказывается в мягком плену предложенных обстоятельств. И не может выйти из этого плена и потому что он приятен, и потому что он полезен, и потому что нет причин выходить, а сам выход может обернуться проигрышем для собеседника.
Создание особого кооперативного или конвенционального (внешне равноправного) взаимодействия, в рамках которого главным определяющим фактором оказывается нечто большее, чем реальные собеседники (мысль, идея, поступок, чувство, в принципе, – любой обсуждаемый вопрос), – редкое искусство, которым А. Б. владеет в совершенстве. И умеет его передавать не через формальный метод, а через конкретный пример, через сам процесс, разговор, в длительности которого осуществляется трансляция не только предметного, но и коммуникативного (методологического и практического) знания. Поэтому разговоры с А. Б. для любого собеседника практически всегда значительнее традиционно понимаемых бесед даже с очень осведомленным человеком. Именно этим во многом определяется магия речи А. Б. Не затрачивая видимых усилий для того, чтобы приподнять собеседника до своего уровня, и, одновременно, не играя с ним в поддавки (не приседая), он говорит: давай поразмыслим над тем, что важнее нас. И это важное обязывает ко многому, во всяком случае гарантирует благодарную реакцию собеседника.
Аналогичный эффект наблюдается и в лекционной практике.
Думается, что речь А. Б. обращена к идеальному адресату. Он предполагает в слушателе способность полного понимания, и потому лекционный монолог в его исполнении звучит как диалог с равным и интересным ему собеседником. А посему самооценка моя во время лекций А. Б. стремительно повышалась, и лишь некоторое время спустя, когда чары рассеивались, и я выходила из-под власти обаяния речи А. Б., приходило грустное осознание своего несовершенства;
Обращаясь ко всей студенческой аудитории, он видел в ней именно собеседника. Мы ему были интересны как собеседники, пусть и пассивные, жадно поглощавшие всё, о чем он говорил;
Когда я слушала его, то мне казалось, что он предугадывает мои мысли, но выстраивает их логично и оформляет красиво.
Думаю, что в данном случае речь идет не столько о предугадывании, сколько о внушении, о специфической способности говорить так, что собеседник сказанное другим воспринимает как свое. Для реализации подобного эффекта нужно обладать не только большой мерой убедительности, но и способностью органично проникнуть в языковое сознание собеседника, не разрушив его целостности.
В разговоре А. Б. постоянно стремится к уменьшению или сокращению дистанции при осуществлении коммуникативного контакта. Об этом говорят варианты продолжения предложенного разным людям начала фразы: «Собеседник для него…» «человек, причем уважаемый»; «зеркало, в котором он ищет отражение своих мыслей». Но при этом коммуникативная дистанция остается: «В разговоре с ним я чувствую себя, словно…» «одновременно как уважаемый коллега и послушная ученица»; «казалась себе иногда абсолютной дурой, а иногда по Левидову: "Как это мы с Толстым!"»; «естественно, как ученица». Сохраняющуюся дистанцию продуцирует рефлексия собеседника, соотношение характера речевого поведения А. Б. со своим собственным и выводы на этой базе.
При этом А. Б. всегда беспокоит, как и в каком качестве его воспринимают. Заботит не в том смысле, в каком выпендрежника беспокоит, произведено ли на публику необходимое впечатление, или женщину беспокоит, произведет ли должный эффект ее новый наряд. Беспокойство А. Б. – это беспокойство быть понятным и доступным, это беспокойство не за себя, а за сообщаемую мысль, за интеллектуальный или эмоциональный посыл и за собеседника. Всё по формуле Честертона: «Сам я никогда не относился всерьез к себе, но я всегда всерьез относился к своим мнениям».
Коммуникативная установка, устойчиво реализуемая А. Б., в целевом плане характеризуется исключительно перспективной направленностью. Речь ориентирована на здесь и сейчас только как на базу для того, что будет там и потом. Это особым образом реализованная в речи позиция, в соответствии с которой то, что говорится сейчас, будет иметь значение в грядущем и значение самой речи, её эффективность определится наличием или отсутствием некоторого, не обязательно вербализуемого, результата в будущем. Такая особая темпоральная установка на будущее проявляется самыми различными способами: от прямых указаний до прогнозирования некоторых необходимых действий для достижения результата. Примеров того и другого множество. Шутливое замечание во время лекции: «Шумите, шумите, у меня впереди вечность». Размышления о том, какие поколения будут воспитывать нынешние студенты, неоднократно озвученная им и Б. С. Шварцкопфом принципиальная перспективная нравственная установка: передашь другому.
Если я спрашивала о чем-то во время консультаций по диплому, то никогда не давал готовый ответ, говорил: «Ищи, думай». И находила, и думала. Даже если возникали какие-нибудь сомнительные или просто завиральные идеи, никогда не было снисходительно-высокомерной оценки, резкой отповеди.
Собеседник (студент) для него был не пустым сосудом, который он наполнял (причем до положенного программой уровня), а, скорее, растением, ростком, за которым нужен уход, внимание, забота, который нужно удобрять, а там, глядишь, и толк будет.
Эта перспективная темпоральная направленность в совокупности с ретроспективными темами создает особое коммуникативное поле растянутого времени. Получается динамичное актуальное «всегда». В нем находится А. Б., и в него же он незаметно комфортно помещает собеседника, продуцируя у него тем самым подсознательное понимание того, что жизнь не исчерпывается и не ограничивается «здесь и сейчас» (они второстепенны), и стремление соответствовать высокому доверию собеседника. В содержательном плане все это совмещено с проявлениями модальной полярности.
Все перечисленные характеристики в комплексе создают легкую значительность или значительную легкость, соединение основательного и подкрепленного имплицитно присутствующим объемом информации пафоса с шуткой. А. Б. умудряется умело балансировать на грани двух взаимоисключающих модальных планов (пафосного и ироничного), актуализируя их наиболее выигрышные стороны для компоновки некоего нового единства. Его речь – живой анализ мира и языка, ориентированный на собеседника, с актуализацией значимых категорий в их естественном речевом преломлении. Он умудряется осуществлять симультанную биполярную концентрацию: на предмете речи и ее форме, с одной стороны, и на собеседнике – с другой. Каждый думающий лингвист знает, насколько сложно это сделать. А. Б. это удается. И да способствуют ему Высшие силы в продлении его благородного служения.
I
Слово и смысл
Н. В. Перцов. Размышление о лексической семантике пушкинской поры и об одном ее «культурном мифе»
(над книгой А. Б. Пеньковского «Нина…»)[1]
Настоящая работа представляет собой исправленный текст статьи, в основном писавшейся восемь лет назад, осенью 2000-го и в начале 2001 года. Я предложил её тогда в «Вопросы языкознания», и хотя внутренние рецензии на работу были положительны, редколлегия сочла её не соответствующей тематике, освещавшейся в журнале. С тех пор работа покоилась в электронном виде, кочуя от одного моего компьютера к другому. Приношу читателям и юбиляру свои извинения за то, что я был не в силах по-настоящему учесть в новом тексте то, что произошло в отечественной филологии за прошедшие восемь лет – в частности, новые незаурядные достижения А. Б. Пеньковского на ниве изучения языка Пушкинской эпохи, а среди них – второе издание «Нины…» [Пеньковский 2003] и книгу [Пеньковский 2005]. [Второе издание, правда, присутствует здесь в виде постраничных ссылок, оформляемых в виде выражений «с. т/т), где с. – сокращение для слова «страница(-ы)», m – номер(-а) страниц(-ы) по первому изданию, а и – по второму; так же даются ссылки на примечания. ] Я всё же надеюсь, что основное содержание этой работы не утратило актуальности.
Еще одно предварительное замечание относится к режиму воспроизведения текстов, созданных в старом правописании. Я являюсь решительным сторонником аутентичности при таком воспроизведении в работах, обращенных к филологам (а не к массовому читателю): правописание несет значимую, функциональную нагрузку, оно не является чем-то посторонним, внешним для текста (вроде упаковки для товара), как утверждают иные филологи. (Этой проблеме посвящена моя статья [Перцов 2008]). Так следовало бы давать цитаты и в настоящей работе в случае доступности соответствующих источников, не боясь расхождений со случаями их недоступности. Не сделал я этого не только из-за нехватки времени: меня смущало смешение разных режимов воспроизведения текстов при моем собственном их цитировании и при вхождении их в цитаты из «Нины…». Поэтому в предлагаемой работе мне пришлось смириться с обычным режимом цитирования старых текстов в современном правописании, распространенным в нашей филологии и, с моей точки зрения, непринципиальным и некорректным в филологическом исследовании.
Наконец, последнее предуведомление. Я позволяю себе одну орфографическую вольность, отвечающую моему орфографическому вкусу: именно, отступая от принятого правила, я пишу относительные прилагательные, производные от личных собственных имен, всегда с прописной буквы — Пушкинский, Лермонтовский и т. п. (оставляя, разумеется, в цитатах написание источника).
Декабрь 2008 г.
На исходе прошлого столетия, в конце юбилейного Пушкинского года, на книжных прилавках Москвы появилась книга А. Б. Пеньковского с необыкновенно интригующим названием – «Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении» [Пеньковский 1999а] (далее – просто «Нина»). Небольшой тираж книги (1000 экземпляров) был раскуплен в течение трех-четырех месяцев, что нечасто бывает с филологическими изданиями. Таким образом, интерес к книге был очевиден; очевидно было и то, что она вызывала у читателей в высшей степени неоднозначное отношение. Через четыре года в том же издательстве «Индрик» вышло второе издание [Пеньковский 2003], превосходящее по объему первое более чем на семь авторских листов (на 119 страниц).
Книга А. Б. Пеньковского, состоящая из двух неравных частей (соотносящихся приблизительно в пропорции 1: 4), повествует о двух великих произведениях русской литературы – Лермонтовском «Маскараде» и Пушкинском «Евгении Онегине».[2] Среди имен, в них встречающихся, есть имя Нина. В «Маскараде» Нина – имя главного действующего лица. Вес этого имени в «Онегине» иной; во франкоязычном и русскоязычном облике оно встречается в двух местах, и оба раза это беглые упоминания: в пятой главе «Трике (…) смело – вместо belle Nina – / Поставил belle Tatiana» (строфа XXVII), в восьмой главе «(…) Она (Татьяна) сидела у стола / С блестящей Ниной Воронскою, / Сей Клеопатрою Невы; / И верно б согласились вы, / Что Нина мраморной красою / Затмить соседку не могла, / Хоть ослепительна была» (строфа XVI). Концепция А. Б. Пеньковского состоит в том, что за именем Нина стоит могущественный женский образ. Процитирую слова автора из заключительного раздела книги (с. 475/583), вынесенные также в качестве текстовой заставки перед титульным листом:
Решение загадки этого имени (…) сделало возможным открытие и реконструкцию сложившегося в русском культурном сознании на рубеже веков и сохранявшего власть над умами до середины XIX века «мифа о Нине». (…) Нина этого мифа – роковая женщина, которая, соединяя в себе рай и ад, небо и землю, ангела и демона, Мадонну и Содом, живет высокими, сжигающими ее страстями. Она богиня любви и служительница в собственном храме, «жертвенник, жертва и палач» одновременно. Неся гибель своим избранникам, эта новая Клеопатра готова погибнуть и сама.
Предупреждая возможное неправильное понимание и рискуя навлечь на себя недовольство некоторых читателей, я хотел бы сразу сказать, что считаю эту книгу значительным и ярким событием в филологической науке. Я думаю, что значение этого труда будет в должной мере оценено очень нескоро, что многие исследователи и люди, профессионально далекие от филологии, но испытывающие понятный интерес к Золотому веку русской литературы, воспримут это мое заявление как сильное преувеличение. Мне довелось столкнуться с резко отрицательным мнением о «Нине»; другие коллеги, находя в ней большие достоинства, в общении со мной отмечали ошибки и эмоциональное давление автора на читателя, захваченность автора собственной концепцией, фантастичность и недостаточную обоснованность некоторых его построений, категоричность ряда утверждений и отсутствие в ряде случаев необходимых показателей предположительной модальности, резкость по отношению к оппонентам, покойным и ныне здравствующим. Нередко я вынужден был соглашаться со справедливостью подобного рода упреков (о чем мне еще придется говорить). И все же общая оценка научного сочинения должна акцентировать не частные неудачи (как это нередко делается в нашей критике; см., в частности, постскриптум к настоящей работе), а тот вклад, который оно вносит в науку и культуру. В настоящей работе основное внимание я обращу не на слабости, а на достоинства «Нины», ибо в случае обсуждаемого труда этот вклад, как я постараюсь показать, весьма значителен.
В чем же он состоит? На мой взгляд, в выявлении семантических глубин языка Золотого века русской литературы. Это главное достижение А. Б. Пеньковского. Он демонстрирует существенные различия в семантике русской лексики Пушкинского и нынешнего времени, после чего становится ясно, сколь часто современный читатель, будучи заворожен прелестью поэтического повествования, впадая в иллюзию его полной понятности, скользит по строкам, «как дамы (…) по лаковым доскам», и не воспринимает те смыслы, которые имел в виду автор и которые были очевидны многим его современникам. Именно с лексико-семантических штудий, богато представленных в книге А. Б. Пеньковского, а не с разбора его концепции «мифа о Нине», мне – филологу-лингвисту – хотелось бы начать разбор этой книги.
Мы легко воспринимаем литературный язык Пушкинской поры. Для современного читателя нет заметных, осознаваемых затруднений при понимании не только выдающейся в отношении внешней прозрачности Пушкинской речи, но и вообще любых художественных или публицистических текстов Пушкинского времени. С некоторым не слишком серьезным преувеличением можно сказать, что мы осознаем сложности такого понимания не больше, чем сложности восприятия старой орфографии: в обоих случаях сохраняется весьма стойкое ощущение близости и понятности как языковой, так и графической системы. «Что-то слышится родное» многим современным читателям в старинном русском слоге, и порой мы его непринужденно присваиваем, не видя различий между нынешней поверхностной интерпретацией того или иного отрывка и тем содержанием, которое вложил в свои слова наш далекий предок. А. Б. Пеньковский обстоятельно и глубоко вскрывает семантическую специфику лексики Пушкинской поры. Обратимся к конкретным примерам лексико-семантического анализа слов, семантика или культурный ореол которых в определенных контекстах, как убедительно показывает автор книги, расходится с современным языком. «Нина» изобилует такими примерами.[3] Я представлю их в виде сжатых нестрогих описаний – с цитатами из «Нины», примерами или комментариями.[4]
СТРАСТИ. Это слово в ряде употреблений выступает не «как стандартная форма множественного числа к страсть «сильное напряженное, но не (обязательно) любовное чувство»» (с. 97/108), а как «специализированное любовное значение слова страсти» (с. 98/109), т. е. как plurale taiitum – обозначение «рокового, не внемлющего голосу разума и преступающего все границы (…) чувства к одному объекту, соединенное с душевными терзаниями, болью сердца (…)» (с. 100/112). «Страстей игру мы знали оба» (1-XLV). «Но чаще занимали страсти / Умы пустынников моих» (2-ХVІІ).
Следующие шесть слов – из концовки XXXVI строфы восьмой главы «Онегина»: «То были тайные преданья / Сердечной, темной старины, / Ни с чем не связанные сны, / Угрозы, толки, предсказанья, / Иль длинной сказки вздор живой, / Иль письма девы молодой».[5] Анализируя приводимые ниже абрисы словарных статей, читатель, можно надеяться, убедится, насколько превратно может быть проинтерпретирован этот отрывок современным языковым сознанием (что нередко наблюдалось в литературе).
ПРЕДАНЬЕ: в данном контексте «воспоминание» (с. 110/123, 416/481—482), а отнюдь не «устный рассказ, история…». «Приди; огнем волшебного рассказа / Сердечные преданья оживи» («19 октября», 1825). «Прилежно в памяти храня / Измен печальные преданья, / Ты без участья и вниманья / Уныло слушаешь меня» («Когда в объятия мои…», 1830).
ТЕМНЫЙ: «скрытый, тайный» – а не только «тяжелый, тяжкий, мрачный» (с. 110/ 122–123).
СТАРИНА: «прошедшее для кого-нибудь время, былое» (с. 109) [СЯП, т. IV: 346] – а не «старинные обычаи, нравы, привычки» (с. 108–109/121—122).[6]
СОН: «создание воображения» [СЯП, т. IV: 283], «поток бессодержательных, бессвязных, текучих мыслеобразов, беспорядочно сменяющих друг друга и чередующихся с живыми картинами, которые встают перед внутренним взором Онегина» (с. 111/124). Ясно, что Пушкин здесь имеет в виду не сон в его основном значении («физиологическое состояние покоя и отдыха…»), а нечто другое. В Пушкинскую эпоху слово сон начинает употребляться как франц. rve «сновидение; мечта, греза» и приоборетает его двузначность (указание И. А. Пилыцикова); приведенное несколько вольное истолкование А. Б. Пеньковского можно рассматривать как развертывание его второго смысла («мечта, греза»).
СКАЗКА, а также ПОВЕСТЬ: «поток жизненных событий, хранящийся в чьей-либо памяти» – а не какие-либо другие значения этих слов (с. 112–114/125—127); в примечании 32/44 (с. 416–417/482—483) приводятся цитаты из Вяземского, К. Павловой, Пушкина, Лермонтова, убедительно иллюстрирующие такое словоупотребление, а также упоминаются употребления слова роман с тем же регулярным переносом и образ «книги жизни», восходящий к «Апокалипсису»; даются цитаты из Лермонтова и А. Григорьева с близкими образами — страницы прошлого, свиток прошлого и др.
ДЕВА: "молодая прекрасная женщина (в том числе замужняя)" (с. 136/151 и сл., 424/494). Этюд, посвященный слову дева, носит проблемный характер, и здесь мне не избежать обширного цитирования (с. 138/153):
(…) семантическая структура слова дева, как и у других таксономических терминов, обслуживающих поло-возрастную сферу (девочка, девушка, мальчик, юноша, отрок, женщина, мужчина…), представляет собой комплекс или пучок семантических признаков-компонентов, каждый из которых – один или в той или иной связке – может при определенных условиях, выдвигаясь на передний план, подавлять и погружать в тень все или некоторые другие. Так, в слове женщина в зависимости от контекста может актуализироваться только «пол», заслоняющий все остальные возможные признаки, включая и возраст, (…) или «пол + возраст» {женщины и дети), или, например, «пол + обусловленные им (…) те или иные типичные сущностные признаки „женскости“». Так, отвечая Вяземскому на его сомнения по поводу письма Татьяны, Пушкин писал: «… если, впрочем, смысл и не вполне точен, то тем более истины в письме; письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!» (…)/ Таким же образом в слове дева в пушкинскую эпоху на передний план либо выдвигались компоненты «пол» + «девственность» (…), либо, как это характерно для поэтического языка, все компоненты его значения, кроме «пола» и «возраста», оттеснялись на периферию, причем «женскость» была претворена в «женственность», а поэтические коннотации введены in media res семантической структуры и предстают нашему сознанию как «красота», «прекрасное», «прелесть», «очарование».
Эта цитата возвращает нас к плодотворным понятиям Ю. Н. Тынянова – лексическому единству и колеблющимся семантическим признакам слова [Тынянов 1965: 78 сл., 87 сл., 114 сл. ], – основательно забытым современной отечественной лексической семантикой, преимущественно занимающейся жестким членением слова-вокабулы на отдельные значения-лексемы и мало заботящейся об отражении их единства в рамках целого. В соответствии с семантической концепцией Тынянова слово предстает не только как совокупность отдельных лексических значений, но и как набор семантических признаков, из которых одни необходимы, актуализируются при любом употреблении слова, а другие могут выступать на передний план или, наоборот, подавляться. Так, если взять обсуждаемое слово дева, для него – в духе анализа А. Б. Пеньковского – можно выделить следующие признаки: «женский пол», «молодой возраст (условно – от 15 до 25 лет)», «незамужняя», «девственность», «красота». Первый признак необходим, а остальные четыре могут – в зависимости от языкового или ситуационного контекста употребления слова – актуализироваться или отсутствовать. Удивительным образом даже такой, казалось бы, неоспоримый признак, как «молодой возраст», может вытесняться контекстом; приведу пример такого вытеснения.
«Старец-колдун» в конце первой песни «Руслана и Людмилы», рассказывая Руслану о своей последней встрече с Наиной – «старушкой дряхлой» и «седой», – называет ее девой:
(…) «Скажи, давно ль, оставя свет, / Расстался я с душой и с милой? / Давно ли?..» – «Ровно сорок лет, – / Был девы роковой ответ: – / Сегодня семьдесят мне било (…)».[7]
А вскоре это наименование повторяет и сама колдунья, крича вослед убегающему финну: «О, недостойный! / Ты возмутил мой век спокойный, / Невинной девы ясны дни!» Тем самым, становится ясно, что, с одной стороны, здесь вытеснен признак «молодой возраст», а с другой – удержан признак «девственность» (в конце своей гневной тирады Наина усиливает упреки, называя беглеца «изменником», «извергом» и «девичьим вором»).
Таким образом, речь идет не о стандартном представлении слова в виде совокупности лексических значений, с возможной их иерархизацией, а о выделении в слове обязательных и факультативных компонентов. В некотором смысле существует единое слово дева, а различия между его частными употреблениями, имеющими разное содержание, описываются не в виде разных словарных значений, как это практикуется в обычных словарях и в большинстве семантических исследований, а посредством указания разных наборов актуализируемых семантических компонентов.
Я отдаю себе отчет в том, что в данном случае, возможно, выхожу за рамки реальных теоретических установок автора обсуждаемой книги, однако предлагаемые им примеры анализа лексических значений находятся в русле именно такого – инвариантного – подхода к описанию лексической семантики, за которым, как мне представляется, будущее.[8]
Что касается употребления слова предсказанье в данной строфе («Угрозы, толки, предсказанья…»), А. Б. Пеньковский усматривает в нем реализацию особого значения, «колеблющегося между „предположением“ и „угрозой“», которое иллюстрируется только одной цитатой, а этого все-таки мало. Вот соответствующая цитата из Вяземского (с. 418/484, примеч. 36/51 к с. 119/132; курсив автора «Нины…»): «Разумеется, Москва, не пропустила этого (интереса императора Александра к княжне Наталии Оболенской. – 77. 77.) мимо глаз и толков своих. Однажды домашние говорили о том при княгине-матери и шутя делали разные предположения. «Прежде этого задушу я ее своими руками», – сказала римская матрона, которая о Риме никакого понятия не имела. Нечего и говорить, что царское волокитство и все шуточные предсказания никакого следа по себе не оставили». В этой цитате предсказание можно понять и в обычном проспективном значении (~ «предвидение») – как квазисиноним ранее употребленного слова предположение. Поэтому мне пришлось не без сожаления отказаться от включения слова предсказанье в перечень лексических расхождений между современным языком и языком Пушкинского времени.
Два следующих слова относятся к одной из ключевых для концепции А. Б. Пеньковского строф – к VII строфе четвертой главы романа в стихах, с ее загадочными и по-настоящему до Пеньковского не прокомментированными строками: «(…) Уничтожать предрассужденья, / Которых не было и нет / У девочки в тринадцать лет! / Кого не утомят угрозы, / Моленья, клятвы, мнимый страх, / Записки на шести листах, / Обманы, сплетни, кольца, слезы, / Надзоры теток, матерей / И дружба тяжкая муже».
КОЛЬЦА: «символически значимые, инициативные или ответные (…), акты дарения / получения в дар и отдаривания кольца (…)» (с. 132/147); здесь существенно не предметное, а «акционально-процессуальное» осмысление данного слова в данном контексте.
ТЕТКИ: «не только лица из прямого родства и свойства, но и просто причастные к жизни той или иной семьи» (с. 128/142). Это осмысление обильно иллюстрируется (с. 128–129/141—143) цитатами из писем Пушкина, А. Я. Булгакова, из воспоминаний М. Каменской, из повести М. С. Жуковой, из Н. Ф. Павлова, из «Княгини Литовской» Лермонтова, из «Записок» И. И. Гладилова.
Важное лексико-семантическое достижение книги – выявление «микропласта» русской лексики Пушкинского времени, объединенного смыслом «тоска»; в этот пласт, кроме «непосредственных» слов тоска и его производных и слова хандра, входят скука, зевота, зевать, лень, желчь. А. Б. Пеньковский, как мне представляется, серьезно поколебал (для меня – попросту развеял) научный миф о скучающем бездельнике, порочном и циничном демоне Онегине;[9] он выявил, что именно мотив тоски, а отнюдь не скуки в современном понимании этого слова, является доминантой психологического облика главного героя.[10] Данному мотиву и его лексико-семантическому освещению посвящена пространная вторая глава Части второй (около 80 страниц).
СКУКА. Значение «тоска», свойственное в Пушкинское время этому слову и однокоренным, рассматривается и обильно иллюстрируется в книге на нескольких десятках страниц. Испытывая в данном случае своего рода embarras de richesses (затруднение от избытка) и колеблясь в выборе цитаты, я поэтому предпочитаю просто отослать читателя к тексту «Нины». Дается тонкий сопоставительный семантический анализ сходств и различий в семантике скуки, тоски и хандры, причем речь идет не о четких разграничениях между разными словами, а о тенденциях (с. 187–199/211—224).
Не могу удержаться от дополнения богатейшего иллюстративного материала по «скуке-тоске» еще одной цитатой – начальной строфой Пушкинского поэтического ответа митрополиту Филарету – со скх" кой, выдвинутой в сильную позицию рифмы: «В часы забав иль праздной скуки, / Бывало, лире я моей / Вверял изнеженные звуки / Безумства, лени и страстей». Далее в третьей строфе строка «Я лил потоки слез нежданных» говорит отнюдь не о скуке (в современном понимании), а, разумеется, о чем-то гораздо более тяжком и томительном. Но главное свидетельство того, что здесь подразумевается именно тоска, – это повод написания стихотворения; напомню, что его вызвал стихотворный отклик митрополита на одно из самых пессимистичных Пушкинских стихотворений «Дар напрасный, дар случайный…», в конце которого появляется тоска: «И томит меня тоскою / Однозвучный жизни шум».
ЗЕВОТА. «(…) слово зевота в пушкинскую эпоху представляет собой комплекс семантических вариантов, связанных цепочкой контекстуально выявляемых метонимических сдвигов и метафорических переносов: «зевота» – «зевота, вызываемая скукой» – «скука, сопровождаемая зевотой» – «скука» – «скука / тоска» – «тоска»» (с. 224/250—251). Здесь тоже, как и в случае скуки, подтверждающих комментариев и цитат – множество; из них особенно впечатляет анализ фрагмента из 4-й песни «Руслана и Людмилы»: «(…) Скрываясь по ночам, она! Минутного искала сна – / Но только проливала слезы, / Звала супруга и покой, / Томилась грустью и зевотой (…)» (курсив, разумеется, Пеньковского), а через несколько строк тоска названа прямо: «С своей обычною тоскою / До новой ночи, здесь и там, / Она бродила по садам (…)». Замечу, что употребление слова зевота в процитированном фрагменте из «Руслана и Людмилы» можно трактовать как совмещение в одной словоформе двух значений – отмеченного автором «Нины» эмоционального («тоска») и привычного нам «физиологического»: ведь сказано же сразу после этого употребления – «И редко, редко пред зарей, / Склонясь ко древу головой, / Дремала тонкою дремотой». Ясно, что Людмила очень мало спала в садах Черномора, а в этом случае зевота (в обычном значении) – совершенно нормальное явление.
ЗЕВАТЬ. Это слово обнаруживает аналогичную цепочку вариантов значений, как и зевота. Значение «тосковать» у глагола зевать иллюстрируется – на с. 226/253 и далее – цитатой из Вяземского, играющего всеми значениями этого слова, а также фрагментом пушкинской «Сцены из Фауста» («И всяк зевает и живет – / И всех вас гроб, зевая, ждет. / Зевай и ты»), словоупотреблениями в «Онегине» («Безмолвно буду я зевать /По былом воспоминать» – 1-ХІХ", «За ним и Оленька зевала, / Глазами Ленского искала» — 6-Т, «Онегин дома заперся, / Зевая, за перо взялся, / Хотел писать, но труд упорный / Ему был тошен; ничего / Не вышло из пера его» — 1-XLIIT, «Прочтя печальное посланье, / Онегин тотчас на свиданье / Стремглав по почте поскакал / И уж заранее зевал, / Приготовляясь, денег ради, / На вздохи, скуку и обман» — 1-LII).
Замечание. Хотя после прочтения «Нины» мое отношение к Онегину (и ранее неплохое) стало существенно лучше, я не могу согласиться с некоторыми преувеличениями А. Б. Пеньковского. Так, в случае попыток приобщения Онегина к ремеслу писателя я не усматриваю в них того «усердия» и «упорства», которое видит автор «Нины» (с. 156/175). Верно, что краткое прилагательное тошен следует понимать не как «противный», а как «тоскливо отчуждаемый» (с. 155/174), что Онегина нельзя назвать полностью чуждым поэзии (см. ниже описание слов тошный и антипоэтический). Однако «усердие» и «упорство» Онегина в попытках овладеть знанием стихотворной техники автор «Нины» связывает в основном со строками «Не мог он ямба от хорея, / Как мы ни бились, отличить» (1-VII), причем уверенно относит это мы к повествователю и герою – в «дуально-кооперативном» значении. А это не может быть решающим аргументом: мы здесь может быть отнесено и к повествователю вместе с другими онегинскими знакомцами (например, с Кавериным). До VII строфы первой главы местоимения мы и наш появляются только в двух предшествующих строфах («Мы все учились понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь; / Так воспитаньем, слава Богу, / У нас немудрено блеснуть» — 1–1", «Но дней минувших анекдоты, / От Ромула до наших дней / Хранил он в памяти своей» — 1–17), и оба раза это не дуально– кооперативные МЫ и НАШ. Безусловное дуально-кооперативное мы – в осмыслении «повествователь и Онегин» – во всем романе появляется только в строфах XLV, XLVII и LI первой главы, повествующих о знакомстве повествователя с героем, их прогулках в белые ночи и их разлуке «на долгий срок», т. е. о времени, значительно более позднем, нежели пора первого светского опыта Онегина, к которой относится VII строфа. Поэтические занятия повествователя с Онегиным происходили позже попыток последнего овладеть писательским ремеслом, о которых говорится в XLIII строфе, а ведь после нее сразу следует: «И снова, преданный безделью…» Не вижу оснований усматривать здесь какое-то особое старание, рвение или настойчивость со стороны героя: таким он бывал только в любовных делах.
ЛЕНЬ: «поэтический псевдоним скуки как части и следствия, представляющих целое и причину – тоску» (с. 211/237), «состояние вялости, апатии и безразличия ко всему, что вне, но не от самодовольного и глухого эгоизма, (…) а от полной поглощенности внутренней болью души и вызванного этим тоскливого отчуждения от мира» (с. 212/237—238). Иллюстрации: «Я таю, жертва злой отравы: / Покой бежит меня; нет власти над собой, / И тягостная лень душою овладела» («Война», 1821). «Теперь я должен перед вами зело извиняться за долгое молчание, – Непонятная, неотразимая, неизъяснимая лень мною овладела, это еще лучшее оправдание» (из письма к М. П. Погодину от 17 декабря 1827; разрядка А. Б. Пеньковского). «(…) Что было для него измлада / И труд, и мука, и отрада, / Что занимало целый день / Его тоскующую лень, – / Была наука страсти нежной (…)» (1-VІІІ). «И вот: по родственным обедам / Развозят Таню каждый день / Представить бабушкам и дедам / Ее рассеянную лень» ( 7-XLIV).
ТОШНЫЙ: «наводящий, вызывающий тоску»; в краткой форме тошен – «тоскливо отчуждаемый» (с. 178/201). «Я в самом тошном расположении духа по отъезде жены и смерти Байрона. Без нее пусто мне в домашнем мире, а без него в литературном. После смерти Наполеона никакая смерть так глубоко в душу мою не врезывалась, как его (…)» (из письма Вяземского к Д. В. Дашкову от 2 ноября 1824 г.). «(…) Хотел писать, но труд упорный / Ему был тошен (…)» (1-XLIII).
ЖЕЛЧЬ. «(…) Слово желчь связывалось в сознании Пушкина и его современников не столько со злостью, сколько (и, вероятно, прежде всего) с тоской и вызываемым ею тоскливым раздражением» (с. 320/363). Одной из показательных для такого осмысления служит известная цитата из письма Пушкину к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г.: «(…) я на досуге пишу новую поэму, „Евгений Онегин“, где захлебываюсь желчью». Другие иллюстрации – из Ф. В. Растопчина, Д. Н. Блудова, А. Я. Булгакова, В. Ф. Одоевского, Лермонтова, из отзыва критика «Библиотеки для чтения» о стихотворении Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу…». Указывается также слово черножелчие (с его вариантом черножелчность), которое использовалось в ту пору, – калька греческой меланхолии «черная желчь» (с. 320–323/363—367).
МЕЧТЫ: «размышления» (с. 182/206). «(…) Мечтам невольная преданность, / Неподражательная странность / И резкий, охлажденный ум» (1-XLV). Сюда можно присоединить строку «Я предаюсь моим мечтам» из стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных…».
АНТИПОЭТИЧЕСКИЙ: «не годящийся в герои поэтического произведения», а не «враждебный духу поэзии» (с. 184/208). «Станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского пленника (…)» (из предисловия Пушкина к первому изданию первой главы романа). «Именно в этом значении употребляли слова антипоэтический, антипоэтичность и авторы пушкинского круга. Так, П. А. Вяземский, говоря о политической поэзии во Франции, возражает против определения политики как предмета «антипоэтического» и объясняет, что «можно высекать искры поэтического огня из вещества не поэтического» (…)» (с. 184/208).
КВАКЕР. «В пушкинском кругу и в пушкинскую эпоху квакер – иронически– шутливая характеристика англоманов и прежде всего тех, кто подчеркивал свои англофильские пристрастия в одежде и вообще во внешнем облике, что вообще воспринималось как чудачество. Таков был, например, знакомец Пушкина, высоко ценимый им П. И. Полетика, «милый чудак», как называл его Жуковский (…): «Полетика сумасшествует и все тот же квакер» (…)» (с. 208/233). Здесь же автор «Нины» дает еще цитаты из Вяземского и Вигеля, иллюстрирующие применение слова квакер – именно в таком смысле – к их русским знакомым, отнюдь не членам религиозной христианской общины.
ДЛЯ. В стихах «И я лишен того: для вас / Тащусь повсюду наудачу» (из письма Онегина в восьмой главе) «оборот «для вас» имеет (…) не объектно-целевое, так называемое «бенефактивное» («в ваших интересах») значение (…), а значение рефлексивно-целевое: «чтобы вас увидеть / встретить», которое в современном языке сохраняется лишь в конструкциях с неличными именами (ср. для удовольствия, для радости, для выздоровления и т. п.) (…)» (с. 220/246). Следует сказать, что в данном случае семантика предложно-падежного сочетания для вас, возможно, носит более сложный характер: это некое соединение рефлексивной цели и причины – «семантический синкретизм» [Кравченко 1999], см. следующую цитату [Там же: 51]: «Выбор отрицательно окрашенного глагола указывает на нежелательность действия. Форма ДЛЯ ВАС явно употреблена для обозначения причины. (…) Ср. также у Лермонтова: „…Я для тебя потеряла все на свете“, „Но Вас наградит та, для которой Вы рискуете жизнью“ („Герой нашего времени“). Во всех приведенных случаях на месте предлога ДЛЯ в современной речи употребляется предлог ИЗ-ЗА». Я полагаю, что осмысления А. Б. Пеньковского и Н. П. Кравченко в данном случае не альтернативны: диффузные рефлексивно-целевое и причинное осмысление сочетания для вас вполне могли совмещаться в одном употреблении (ср. многозначность французского pour «для, ради; из-за», имеющего как целевое, так и причинное значение).
БЕЛОУСЫЙ. В цитате из Пушкинского «Монаха» – «Монах на все взирал смятенным оком. (…) / И вдруг, в душе почувствовав кураж / И набекрень, взъярясь, клобук надвинув, / В зеленый лес, как белоусый паж, / Как легкий конь, за девкою погнался» — белоусый имеет не прямое значение «с белыми усами», а означает «с юношеским белым пухом над губой» (с. 456/548).
Следует сказать, что лексико-семантический анализ Пеньковского вовсе не отменяет известных нам значений русских слов: слова страсть, преданье, сказка, тетка, скука, зевота, лень, мечта и другие – из числа рассмотренных выше – имели в Пушкинское время и те значения, в которых понимаем и употребляем их мы.[11] У Пеньковского речь идет только о том, что в определенных контекстах многие привычные слова выступали в значениях, не характерных для современного состояния нашего языка. А это означает, что рядовой читатель может понять соответствующие контексты превратно. Как можно было убедиться по приведенным выше описаниям лексических значений, автор «Нины» подтверждает это многочисленными примерами из художественных текстов, публицистики, писем, дневников Пушкинского времени; иногда обилие таких примеров читателя подавляет, причем в некоторых случаях контекст не позволяет точно установить значение соответствующего слова.
Разборы Пеньковского выявляют феномен многопланности Пушкинского слова, «без учета которой адекватное понимание Пушкинских текстов оказывается невозможным» (с. 221/247). Об этом автор говорит в примечании 72/103: «Расплывчатость, текучесть, зыбкость, широта и неопределенность значений слова (…) – яркая, унаследованная от предшествующего состояния русского литературного языка, изживаемая, но не изжитая особенность семантики слова в языке Пушкина и всей пушкинской эпохи» (с. 429/506).
В ряде случаев мы видим совмещение в Пушкинском тексте разных значений одного и того же слова. Останавливает внимание предположение (с. 343/388) об одновременном совмещении двух значений слова прелесть («обаяние, очарование» и «бесовский соблазн») в строках «Что ж? Тайну прелесть находила /Ив самом ужасе она» (5-?ІІ). Еще один яркий пример – концовка VIII строфы восьмой главы «Онегина»: «(…) Иль просто будет добрый малой, / Как вы да я, как целый свет? / По крайней мере мой совет: / Отстать от моды обветшалой. / Довольно он морочил свет… / – Знаком он вам? – И да и нет». Предоставлю слово автору «Нины»:
(…) для Пушкина и для многих его современников выражение «добрый малой», помимо своего прямого – положительно-оценочного – значения (…) имело еще и другое, сложившееся на базе иронически-пренебрежительного употребления в театральной и критико-публицистической сфере (…), – отрицательно-оценочное значение. (…) Таким образом, фраза «Иль просто будет добрый малой…» была задумана как двупланная (…) и на восприятие ее и осознание ее как двупланной рассчитывала. А чтобы дать дополнительный стимул читателю и подтолкнуть его к правильному пониманию, в соседних строках той же строфы – в качестве ключа – была организована рифма свети «мир» – свети, «светское общество» (…), играющая разными значениями одного слова (с. 210/235—236).
Следующий пример – наблюдение об одновременной соотнесенности анафорического местоимения с двумя антецедентами в строках «Она его не будет видеть; / Она должна в нем ненавидеть / Убийцу брата своего» — 7-XIV (с. 315–316/356—357): Ленский мыслится и как брат Татьяне («по сестре, мужем которой он должен был стать»), и как брат Онегину («чьим братом – „другом“ он был или должен был быть»).[12]
Подобного рода наблюдения над «двупланностью» поэтического текста очень важны: они выявляют одну из главных особенностей поэтической речи – ее принципиальную открытость для новых интерпретаций. Пушкинский текст – при полной внешней понятности и прозрачности – скрывает в глубине смысловую многослойность. Автору «Нины» во многих случаях эту многослойность удается выявлять.
Однако иногда А. Б. Пеньковский неоправданно категоричен. Верные и тонкие наблюдения могут соседствовать с излишне жесткой интерпретацией того или иного контекста. Так, можно согласиться с его отнесением местоимения мы к автору и его Музе в строках наречения главной героини в XXIV строфе второй главы: «Ее сестра звалась Татьяна… / Впервые именем таким / Страницы нежные романа / Мы своевольно освятим» (с. 82–84/92—94).[13] Ту же референтную отнесенность во втором издании [Пеньковский 2003: 464–467] автор – вслед за Ю. И. Айхенвальдом (и вместе с Н. А. Еськовой [1999: 28]) – усматривает в неполной II строфе восьмой главы: «И свет ее <Музу> с улыбкой встретил; / Успех нас первый окрылил; / Старик Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил»; при этом он энергично и детально полемизирует с фрагментом моей работы [Перцов 20006: 80], где отстаивается возможность более широкой референтной области для местоимения в данном случае, включающей, помимо поэта и его Музы, еще и друзей-лицеистов. Должен сказать, что полемическая аргументация А. Б. Пеньковского меня не убедила, и со своей стороны я скажу новые слова в пояснение моего восприятия обсуждаемого Пушкинского катрена.
В самом деле, лицеисты (а не только Муза) тоже присутствуют в предтексте этого катрена (правда, неявно): их «наводит» и упоминание Лицея в первой строке I строфы, и словоформы детские и нашей: «Муза (…) воспела детские веселья и славу нашей старины»; притяжательное местоимение относится здесь ко всем россиянам, а значит и к лицеистам; а слава нашей старины была воспета Пушкинской Музой впервые в стихотворении «Воспоминания в Царском Селе» 1814 г., прочтенном на экзамене 8 января 1815 г – в присутствии «света», «с улыбкой её встретившего», и Державина. (До этого очень немногие из «света» знали поэтов-лицеистов; Пушкин печатал свои стихи без подписи.) В отброшенных начальных строфах лицеисты упоминаются явно: «Когда в забвеньи перед классом / Порой терял я взор и слух (…)»; «(…) младые други / В освобожденные досуги / Любили слушать голос мой. / Они, пристрастною душой / Ревнуя к братскому союзу, / Мне первый поднесли венец, / Чтоб им украсил их певец / Свою застенчивую Музу». Разве не мог поэтический триумф юного Пушкина на экзамене «окрылить» не только его вместе с Музой, но и друзей-лицеистов?
В «лицейском» стихотворении «19 октября» (1825) Пушкин братски уравнивает свою Музу и муз других поэтов-лицеистов: «Друзья мои, прекрасен наш союз! (…) Срастался он под сенью дружных муз»; «С младенчества две музы к нам летали, / И сладок был их лаской наш удел» (о себе и Дельвиге); «Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было, / Мой брат родной по Музе, по судьбам?» (обращение к Кюхельбекеру); «Благослови, ликующая Муза, / Благослови: да здравствует Лицей!». Болдинской осенью 1830 г., через несколько недель после завершения «Онегина», в незавершенном послании к Дельвигу («Мы рождены, мой брат названый…») Пушкин повторяет те же мотивы, что в начале восьмой главы: «Явилися мы рано оба / На ипподром, а не на торг, / Вблизи Державинского гроба, / И шумный встретил нас восторг»; местоимение нас здесь относится к двум лицеистам – Пушкину и Дельвигу, последние же две строки контаминируют приведенный катрен неполной строфы восьмой главы. Через год, обращаясь в другом лицейском стихотворении к «покойнику Дельвигу», Пушкин называет его «товарищем песен молодых».
Завершает полемику со мной А. Б. Пеньковский [2005: 467] весьма энергичным и категорическим образом: «Местоимение «нас» (…) может и должно читаться поэтому одним-единственным образом: «Музу и меня» (не «меня и Музу»!)». Я же оставляю за собой право воспринимать референтую область этого местоимения расширительно: «…и еще, возможно, кого-то из друзей-лицеистов». В общем контексте первых двух строф восьмой главы я не вижу жестких запретов на широкую интерпретацию местоимения нас второй строфы – «автор + Муза + лицеисты (или лицейские поэты: Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский)»; не вижу в данном случае оснований для столь жесткого референтного ригоризма. Увы, никто не догадался спросить Пушкина о том, кого он подразумевал под местоимением 1-го лица множественного числа в начале восьмой главы «Онегина», а если и спросил – не оставил нам его ответа…
Как бы то ни было, хочется надеяться, что приведенные выше осмысления привычных слов дают ясное представление о том, насколько их современное инерционное понимание в соответствующих контекстах расходится с реальным содержанием, которое подразумевал поэт.
Теперь обратимся к основной концепции автора книги. Она состоит в следующем. В Пушкинское время существовал литературный образ роковой женщины-вамп, который автор называет «мифом».[14] Этот образ наиболее рельефно подан в поэме Баратынского «Бал» (1828); он отражен в подтексте двух великих произведений той эпохи – «Евгении Онегине» Пушкина и «Маскараде» Лермонтова. Основное имя носительницы этого образа — Нина. И в героине «Маскарада», и в Пушкинской Татьяне, по мысли А. Б. Пеньковского, скрыты некоторые черты «мифологической» Нины.[15]
В «Маскараде» ключевым местом для концепции А. Б. Пеньковского является единственная реплика одного из лиц пьесы, не включенных в список персонажей, – Петкова:[16] «Настасья Павловна споет нам что-нибудь!» (д. III, сцена I, выход 3); эту просьбу, обращенную к Нине Арбениной, подхватывает одна из дам: «Ах, в самом деле, спой же, Нина, спой» (в другой редакции пьесы – пятиактном «Арбенине» – главная героиня также один раз именуется по-другому – в реплике Казарина: «Когда Арбенин был в деревне, / Вы ездили к Настасье Алексевне / По вечерам и по утрам» [Лермонтов 1956: 544]). Суть объяснения двуименности Арбениной, предложенного А. Б. Пеньковским, сводится к следующему. Эти два имени — Настасья и Ннна – составляют контрастную пару: первое, сниженное, простонародное, провинциальное, было дано героине при крещении; второе, высокое, романтическое, светское, было навязано ей Арбениным после замужества (с. 29/35—36, 53/62, 74/84). Это объяснение мотивируется обширным интереснейшим материалом по двуименности в России XVIII–XIX веков. Автору этих строк неизвестны другие опыты столь подробного объяснения двуименности главной героини пьесы Лермонтова. По мысли А. Б. Пеньковского, гибель Арбениной предопределило навязанное ей имя героини культурного мифа, она – «пассивная жертва» этого мифа (с. 72/82). Автор «Нины» решительно отвергает другую версию двуименности Арбениной: «(…) Нина, очевидно, не настоящее имя героини, а уменьшительное, принятое в интимном общении» [Лермонтов 1956: 749].[17]
Объяснение автора «Нины» мне представляется более плодотворным и интересным, чем только что процитированная трактовка, но все же я не могу принять характеристику этого объяснения как «утверждения, основывающегося на прочном фундаменте доказательств» (с. 52/61). И дело здесь заключается вовсе не в слабости аргументационных построений в первой части «Нины» по поводу источника двуименности Арбениной, а в особом статусе понятия «доказательство» в эмпирических науках, тем более в науках гуманитарного цикла. По моим представлениям, только относительно математических дисциплин можно говорить о доказательстве в строгом смысле; что же касается эмпирических наук, для них можно лишь констатировать ту или иную степень обоснованности предлагаемых утверждений. Поскольку данная проблема представляется очень важной и методологически принципиальной для филологии, я позволю себе привести обширную цитату из статьи А. А. Зализняка [2000: 21]:
У гуманитария же вообще нет возможности что-либо доказать в абсолютном смысле этого слова. Если слово «доказать» и применяется иногда в гуманитарных науках, то лишь в несколько ином, более слабом смысле, чем в математике. Строгого определения для этого «доказательства в слабом смысле», по-видимому, дать невозможно. Практически имеется в виду, что предложенная гипотеза, во-первых, полностью согласуется со всей совокупностью уже известных фактов, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, во-вторых, является почему-либо безусловно предпочтительной из всех прочих мыслимых гипотез, удовлетворяющих первому требованию.
В отличие от математического доказательства «доказательство в слабом смысле» может и рухнуть, если откроются новые факты или будет выяснено, что автор не учел каких-то принципиально мыслимых возможностей.
По поводу данной цитаты замечу, что понятие «доказательство в слабом смысле», думается, отнюдь не ограничено гуманитарной областью, а распространяется вообще на все эмпирические науки.
Исследуя некоторые не получившие ранее удовлетворительного комментария места «Евгения Онегина», А. Б. Пеньковский строит свою версию глубинного сюжета романа в стихах. По этой версии, в ранней юности у Онегина, вскоре после его появления в петербургском свете, был мучительный роман с замужней женщиной, роковой героиней культурного мифа, оставивший глубокий, тяжкий след в его душе, определивший его тоску (а вовсе не скуку); эта тоска и тягостные воспоминания о давнем юношеском любовном опыте парализовали Онегина, они объясняют, по мнению Пеньковского, многое в его образе жизни и поведении: его уход от света, сельское отшельничество, отповедь Татьяне, его жестокое по отношению к Татьяне и Ленскому поведение на именинах… Автор книги указывает нам героиню юношеского романа Онегина: это, по мнению А. Б. Пеньковского, Нина Воронская из восьмой главы, и она же скрыта под сокращением R. С. в строках дневника Онегина, оставшегося вне текста романа.
Я не могу не сказать о своем двойственном отношении к изложенной версии глубинного сюжета «Онегина».
С одной стороны, мне представляется неправомерной категорическая уверенность ее автора: построения, которые по самой сути могут претендовать лишь на гипотетичность, поданы как безусловно верные, не допускающие возражений, как единственно возможный способ объяснения некоторых действительно загадочных мест Пушкинского романа в стихах и других произведений Пушкинской эпохи. «Глобализация» образа Нины, его распространение на всю первую половину XIX века, придание ему статуса культурного мифа – эти сильные обобщения автора обсуждаемой книги, по-моему, следовало бы подать как предположения. Что же касается утверждения о глубокой и сильной любви, испытанной Онегиным в светском Петербурге до встречи с Татьяной, оно обосновано А. Б. Пеньковским весьма убедительно (об этом бегло и без развернутой аргументации говорили ранее и другие исследователи[18]). Однако отнесение мучительного романа к столь раннему возрасту Онегина – к 15 или 16 годам – выглядит уже менее убедительно, и здесь, кажется, следовало бы соблюсти большую осторожность. В частности, трудно приписать, как это делает автор «Нины», юноше, только что «увидевшему свет» следующие строки альбома (фрагмент 1): «Меня не любят и клевещут, / В кругу мужчин несносен я. / Девчонки предо мной трепещут, / Косятся дамы на меня». Такие строки естественно написать Онегину первой главы, «как Child– Harold, угрюмому, томному». А. Б. Пеньковский считает, что опытный мужчина не мог бы написать фразу «В кругу мужчин несносен я». Этот аргумент мне непонятен: мужчины здесь упоминаются в ряду девчонок и дам, да и в отсутствие последних эта фраза от лица мужчины, по-моему, совершенно нормальна. К тому же, если относить эту запись к столь молодому возрасту Онегина, то неясно, как совместить ее со следующими строками первой главы: «Но вы, блаженные мужья, / С ним оставались вы друзья: / Его ласкал супруг лукавый, / Фобласа давний ученик, / И недоверчивый старик, / И рогоносец величавый (…)» (1-ХІІ).
А вот описание погони за R. С. в том же дневнике (запись № 9), действительно, принадлежит скорее перу юноши, нежели светского льва:
Вчера у В., оставя пир, / R. С. летела, как зефир, / Не внемля жалобам и пеням; / А мы по лаковым ступеням / Летели шумною толпой / За одалиской молодой. / Последний звук последней речи / Я от нее поймать успел, / Я черным соболем одел / Ее блистающие плечи, / На кудри милой головы / Я шаль зеленую накинул, / Я пред Венерою Невы / Толпу влюбленную раздвинул.
Здесь вполне правомерно усматривать – вслед за Пеньковским (с. 270/304– 305) – перекличку и с погоней за Дафной из юношеского «Монаха», и с юным пажем из стихотворения «Паж, или пятнадцатый год», и с «Клеопатрой Невы» и погоней Онегина за Татьяной из восьмой главы (строфа XXX). Однако другие записи дневника Онегина, носящие эпиграмматический характер, переносят нас скорее к дням его более продвинутого светского опыта. Об альбоме, правда, у Пушкина сказано, что это был «журнал, в который душу изливал Онегин в дни свои младые», однако и Онегин, «летящий в пыли на почтовых» из Петербурга, назван во второй строфе романа «молодым повесой». Из этого, кажется, следует сделать вывод об определенной непоследовательности в содержании дневниковых записей Онегина, которая, возможно, была бы устранена Пушкиным, если бы он допустил его дневник на страницы романа. А раз этого не произошло, на данные альбома не следует опираться столь безоговорочно, как делает А. Б. Пеньковский.
Не стоило бы столь решительно настаивать на том (с. 270–271/305—306), что именно Нина Воронская, бегло упомянутая в восьмой главе, и есть героиня раннего любовного опыта Онегина; это тоже из разряда предположений, для уверенного отождествления Воронской с возлюбленной Онегина оснований немного. Восьмая глава «Онегина» несет на себе заметный след поэмы Баратынского «Бал» (в свою очередь многое заимствовавшей из первых пяти глав романа в стихах) – см. [Проскурин 1999: 180–196; Шапир 2002: 93–96], и образ Нины Воронской с большой долей уверенности можно считать навеянным образом княгини Нины из «Бала». Это отмечает и автор «Нины» (с. 29/35—36).
Слишком уверенно и безоговорочно интерпретируется реплика Ленского «Да, Татьяны имянины…» (4-XLIX) в восприятии Онегина, «разложившего», по мысли А. Б. Пеньковского, последнюю словоформу на две части и вычленившего из нее некогда столь ему дорогое, а ныне едва ли не ненавистное имя Нины – рядом с именем Татьяны (с. 257/288 и сл.). В пользу этого приводится обширный и впечатляющий материал, свидетельствующий о необычайно чутком слухе у Пушкина и у его просвещенных современников, о шарадном искусстве той поры; подчеркивается неслучайность постановки словоформы имянины в сильную позицию рифмы – сразу после Татьяны (вместо черновых вариантов: «Я? Да ты зван на именины. / Велели звать…»; «Да, да ты зван на именины / Татьяны – Олинька и мать / Тебя зовут…»). Вся эта не лишенная интереса игра ума может быть основанием лишь для предположения, не более.
Или еще такой пример объединения в одном разборе неоспоримой глубины и излишней категоричности. Обращаясь к «бильярдному» эпизоду (4-XLIV), А. Б. Пеньковский задает простой вопрос: «Какие «расчеты» здесь имеются в виду?» (с. 115/127) – и убедительно отвергает осмысление этого слова как «расчисление, подсчет», т. е. в первом значении из [СЯП, т. III: 997] (вряд ли Онегин подсчитывал загнанные в лузу шары, расход, приход или что-нибудь другое). Внимательный анализ показывает, что ни одно из значений слова расчет в [СЯП] в точности не подходит для данного контекста. Разбор в «Нине» меня убеждает: расчеты в данном контексте могут быть поняты как семантический субстантивный дериват (во мн. числе) от глагола расчесться [с чем-либо] – в смысле «освободиться от чего-либо, покончить с чем-либо».[19] С чем же Онегин рассчитывается, с чем хочет покончить? По уверенному утверждению автора «Нины», «со своим мучительным прошлым», а его игра на бильярде в два шара – «это еще и ярчайший образ враждебного диалога, диалога между Ним и Ею, прерванного в реальной действительности, но продолжающегося и бесконечно длящегося в его сознании» (с. 117/130). Здесь снова в изложении А. Б. Пеньковского мне не хватает показателей предположительной модальности.
Да, автор «Нины» подчас бывает столь увлечен своей концепцией, ведет изложение на таком высоком эмоциональном накале, что забывает о научной строгости, сдержанности и необходимой аргументации.
С другой стороны, версия А. Б. Пеньковского о романе Онегина с замужней дамой обладает весьма мощной объяснительной силой, а тем самым и ценностью. «Евгений Онегин» – одно из самых сложных произведений не только у Пушкина, но и во всей русской литературе. Оно содержит немало загадочных мест, среди которых есть и вовсе не истолкованные. Можно указать на начальные строки, споры о которых не умолкают по настоящее время (см. [Перцов 2000а: 63, сн. 4; 20006]). К представлению о полной понятности и прозрачности Пушкинского романа я не могу не относиться с недоумением. Я хотел бы предложить читателю несколько требующих истолкования мест, на которых до «Нины» исследователи не останавливали своего внимания или которые получали явно неадекватное объяснение. Можно не принимать общую концепцию А. Б. Пеньковского, можно принимать ее с известными оговорками, но нельзя закрывать глаза на то, что в Пушкинском романе остается некий глубинный сюжетный слой, который скрыт от поверхностного восприятия и недостаточно освоен нашим культурным сознанием и нашей наукой.
Рассказ о глубоком любовном чувстве Онегина, как можно судить по данным «Нины», сосредоточен в четырех местах романа в стихах: (1) глава первая, строфы XLV–XLVII; (2) глава вторая, строфы XVII–XIX; (3) глава четвертая, ее начальные строфы VIII, IX и XI, строфы XII, XIII и XVI из «исповеди» Онегина; (4) глава восьмая, строфы XXI и XXXVI.