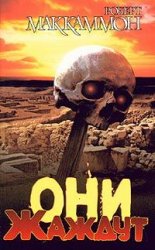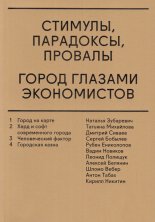Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

Эшвелл фыркает, достает из внутреннего кармана сюртука расплющенный ком обернутого в папиросную бумагу рахат-лукума.
– Что за нелепость, – невнятно произносит он, откусив кусок и возвратив остаток лакомства в карман. – Такой прекрасный образчик мужественности – наш лучший загребной, непревзойденный пловец, я и сейчас словно вижу его бегающим, обнажившись по пояс, по кембриджскому Выгону. О чем он думает, волочась за тошнотворной вдовой? Только не говори мне о ее непорочной душе, – я похотливца за милю чую!
– И как он может хотя бы смотреть на нее? – стонет Бодли. – Она же похожа на борзую! Это длинное кожистое лицо, наморщенный лобик, и всегда такая ужасно сосредоточенная – точь-в-точь ожидающая команды собака.
– Оставь, – говорит Уильям. – Не слишком ли большое значение придаешь ты телесной красоте?
– Да, но, черт побери, Уильям, – вот ты, женился бы ты на вдове, которая смахивает на собаку?
– Но Генри вовсе не собирается брать Эммелин Фокс в жены!
– О-о-о! Какой скандал! – гримасничает Бодли, ударяя себя ладонями по щекам.
– Я готов поручиться, – заявляет Уильям, – что брат не ждет от миссис Фокс ничего, кроме бесед.
– О да, – ухмыляется Эшвелл и снимает, разгоряченный разговором, сюртук. – Бесеед. Они беседуют, прогуливаясь по парку, сидя в уютных кондитерских или на морском берегу, беседуют и при этом не сводят друг с друга глаз. Я слышал, они даже катались в лодке по Темзе – вне всяких сомнений ради того, чтобы обсудить Послание к Фессалоникийцам.
– Вне всяких сомнений, – настаивает Уильям.
Эшвелл пожимает плечами:
– А это безумное желание податься в священники – давно он его питает?
– О, годы и годы.
– В Кембридже я за ним ничего такого не замечал – а ты, Бодли?
– Прошу прощения? – Бодли роется в карманах снятого Эшвеллом сюртука, отыскивая рахат-лукум.
– Отец запретил ему даже говорить с кем-либо об этой мысли, – поясняет Уильям. – Вот Генри и хранил свое желание в тайне, хотя для меня, с прискорбием должен сказать, тайны оно не составляло. Он всегда был устрашающе набожен, даже в нашем с ним детстве. И всегда сожалел о том, что у нас в семье было принято читать молитву один, а не два раза в день.
– Вообще-то, ему следовало считать себя счастливцем, – задумчиво произносит Бодли. («Так он и считает себя счастливцем», – саркастически замечает Эшвелл.) – В нашей семье молились дважды в день. Чему я и обязан моим атеизмом. Одно лишнее проявление притворного благочестия в день, и у бедного дурачка вроде Генри возникает потребность стать духовным лицом.
– Как бы там ни было, для отца это было большим ударом, – говорит Уильям. – Он так надеялся, что именно Генри, его драгоценный тезка, возглавит наше дело. А вместо того, – (Уильям смотрит друзьям прямо в глаза), – возглавить его придется, разумеется, мне.
Бодли и Эшвелл ошеломленно молчат, явственно пораженные такими словами Уильяма о «Парфюмерном деле Рэкхэма», составлявшем обычно еще одну запретную тему. Что ж, пусть поражаются! Пусть получат хотя бы отдаленное представление о переменах, произошедших с ним со вчерашнего дня!
Разумеется, его так и подмывает рассказать им о Конфетке, воспеть ей хвалы и (да, вот именно) взять хоть и небольшой, но реванш за последние несколько лет, в которые Бодли и Эшвелл вели столь беззаботную, в сравнении с его собственной, жизнь. Однако он слишком хорошо представляет себе, чем ответят друзья на его откровения: «Ну что же, попробуем и Конфетку!» И что ему тогда останется? Лживо хулить ее, подобно запинающемуся на каждом слове старому селянину, который пытается убедить солдата-мародера, что его, селянина, дочь не стоит усилий, потребных для того, чтобы ее изнасиловать? Пустая затея. Для таких, как Бодли и Эшвелл, любые женские прелести суть всеобщее достояние.
– А скажите, – спрашивает он взамен, – слышали вы что-нибудь новенькое о той удивительной девушке, о которой рассказывали мне?
– Об удивительной девушке?
– Ну той, жестокой – с хлыстом, – предположительной дочери не помню уж кого…
– Люси Фицрой! – в один голос восклицают Бодли и Эшвелл.
– Клянусь Богом, как странно, что ты упомянул о ней, – говорит Эшвелл. Он и Бодли поворачиваются друг к другу и приподнимают каждый по брови – это их условный знак, говорящий, что настал черед новой истории.
– Да, чертовски странно.
– Прежде всего, новости о ней мы получили, э-э, всего лишь через три часа после того, как рассказали тебе про нее, не так ли, Бодли?
– Через два и три четверти, не более.
– Новости? – понукает их Уильям. – И какие же?
– История, увы, невеселая, – отвечает Эшвелл. – Один из поклонников Люси, судя по всему, набросился на нее.
– Набросился? – эхом отзывается Уильям. Чувства, которые он питает к Конфетке, заставляют его истолковать услышанное самым благоприятным для девушки образом.
– Да, – подтверждает Бодли, – с ее же собственным хлыстом.
– И жестоко ее излупцевал.
– Особенно пострадали рот и лицо.
– Отчего боевого задора у нее, сколько я понимаю, поубавилось.
Бодли, обнаружив, что сигара его угасла, вынимает ее из губ и, после недолгого изучения сохраненных ею возможных достоинств, швыряет в камин.
– И, как ты понимаешь, – продолжает он, – больших надежд на нее мадам Джорджина теперь уже не возлагает. Даже если она захочет дожидаться выздоровления девушки, у той все равно останутся шрамы.
Эшвелл, опустив глаза долу, снимает со своей штанины пушинку.
– Бедняжка, – сокрушенно произносит он.
– Да, – ухмыляется Бодли. – Как сдали падшие!
От этих слов Уильяма с Эшвеллом пробирает дрожь.
– Бодли! – восклицает кто-то из них. – Ты просто ужасен!
Бодли улыбается во весь рот и заливается краской, точно получивший нагоняй школьник.
В этот миг дверь курительной распахивается и в нее влетает Джейни, запыхавшаяся и расстроенная.
– Я… простите, – произносит она, шатко подвигаясь вперед, как будто некая гигантская грязная волна давит ей на спину, угрожая вплеснуться, минуя ее, в эти дымные мужские владения.
– Что такое, Джейни? – (Черт побери, девица уставилась на Бодли – или она не знает даже того, кто тут хозяин?)
– Сэр… с вашего дозволения… я хотела… – Джейни немного попрыгивает на месте, словно в нервическом танце, – это не столько реверанс, сколько пантомимическое изображение малой естественной надобности. – Ах, сэр… ваша дочь… она… она вся в крови, мистер Рэкхэм!
– Моя дочь? В крови? Боже милостивый, что это значит? Вся в крови – где?
Джейни, перепуганная до смерти, съеживается и с подвыванием отвечает:
– Везде, сэр!
– Ну что же… э-э… – в смятении произносит Уильям, изумленный тем, что в крайности этой обращаются ни с того ни с сего к нему, а не к кому-то другому. – Почему же… э-э… как бишь ее… не…
Джейни, чувствующая, что всю вину того и гляди свалят на нее, почти утрачивает способность соображать:
– Няни нет, сэр, она ушла за доктором Керлью. И мисс Плейфэр я найти не смогла, она, наверное, тоже ушла, а мисс Тиллотсон, она не…
– Да-да, я уже понял! – Унижение жжет Рэкхэма, как некогда жег Геракла пропитанный кровью Несса хитон. Ничего не попишешь, прислуги в доме сейчас слишком мало, та, что уцелела, в обстоятельствах чрезвычайных ни на что не годна и – что еще того хуже – жена его, увы, недееспособна. А потому, гости у него или не гости, ему приходится вникать во все самому.
– Друзья мои, прошу меня простить… – начинает он, однако Эшвелл, понимая, в сколь незавидное положение попал Уильям, берет на время власть в свои руки и отдает уже давящейся рыданиями Джейни следующий приказ:
– Ну-с, Джейни, не стойте столбом – приведите ребенка сюда.
– Да! – поддерживает его Бодли. – Драма, кровопролитие и женственный шарм – чего еще можно желать в дождливое утро?
Служанка, дождавшись кивка Уильяма, убегает, и – да, теперь они различают его, животный вой ребенка. Поначалу приглушенный, затем различимый с большей ясностью (предположительно, потому, что открылась дверь детской) даже сквозь шум дождя. Он нарастает и нарастает, извещая о продвижении девочки по лестнице, пока наконец не становится и впрямь очень громким, контрапунктически сопровождаемым опасливыми шепотками и шиканьем.
– Ну пожалуйста, мисс Софи, – поскуливает Джейни, вводя в курительную единственное порожденное на свет Уильямом и Агнес дитя. – Пожалуйста.
Однако убедить мисс Софи Рэкхэм, что визжать можно было бы и потише, не удается никак.
Несмотря на весь этот оглушительный шум, вы, как я замечаю, заинтригованы: подумать только, Уильям, оказывается, еще и отец! Вы уже провели с ним столько времени, наблюдали его в обстоятельствах самых интимных, а вам это даже в голову не пришло! Что представляет собой его дочь? Сколько ей лет? Три года? Шесть? Трудно сказать. Лицо ее искажено, залито кровью и слезами. Что-то выпирает из-под заляпанного кровью передничка – узел, не узел, – Софи придерживает его, чтобы не выпал, окровавленной ручонкой; однако две дряблые тряпичные кукольные ноги все равно свисают наружу, побалтывая криво простеганными ступнями. Софи все подхватывает и подхватывает куклу, стараясь подтянуть ее ноги повыше, и не прекращает при этом вопить. Кровь пузырится на ее лице, капает с всклокоченных светлых волос, окропляя персидский ковер и бледные, босые ступни девочки.
– Да что же, в конце-то концов… – ахает Уильям, однако Бодли уже выскочил из кресла, взмахом руки приказал Джейни отойти и, опустившись на колени перед залитой кровью девочкой, сомкнул на ее затылке ладони.
– Ч-что с ней не так, Бодли?
Наступает страшная пауза, затем Бодли со всей серьезностью объявляет:
– Боюсь, что это… эпистаксис! Хоботогенное кровоистечение! Ну-ка, дитя, отвечай, и побыстрее: кому завещаешь ты свою куклу?
Уильям, ощущая прилив и облегчения, и гнева, падает в кресло.
– Бодли! – вопит он, стараясь перекричать безостановочные завывания Софи. – Это не шутка! Жизнь ребенка так хрупка!
– Чушь, – шикает, не поднимаясь с колен, Бодли. – Стало быть, удар по носу, верно? Как же ты его получила, ммм? Софи?
Рев продолжается. Бодли, стараясь привлечь к себе внимание девочки, дергает куклу за ноги. И, ободренный тем, как воспринимает это Софи, приподнимает ее передничек, выставляя куклу напоказ.
– А теперь, Софи, – предостерегающим тоном произносит он, – тебе надлежит освободить твоего маленького друга. Ты же напугала его до смерти! – Плач Софи сразу становится куда более тихим, и Бодли продолжает развивать свой успех. – Слушая, как ты ревешь, он наверняка решил, что того и гляди осиротеет – останется совсем один! Ну-ка, усади его на пол – впрочем, нет, отдай его на минутку мне. Смотри, какими большими стали его глаза – это с перепугу.
Кукла – мальчик-индус с вышитым на груди словом «Твинингс» – действительно большеглаза, ее шоколадно-коричневая фарфоровая головка выглядит пугающе живой в сравнении с мягким тряпичным тельцем, с мягким пеньковым скелетиком, завернутым в лоскуты бумазеи, имеющие отдаленное сходство с блузой и панталончиками. Софи заглядывает своему кули в лицо, прочитывает в нем страх – и отдает куклу незнакомому ей джентльмену.
– Ну вот, – продолжает Бодли, – теперь ты должна убедить его, что с тобой все хорошо. Да только, пока лицо у тебя все в крови, сделать это будет непросто. – (Вопли Софи утихли, теперь она лишь похныкивает, хотя в носу ее еще пузырится алая жидкость.) – Эшвелл, дай мне твой носовой платок.
– Мой платок?
– Будь благоразумен, Эшвелл, мой еще не вышел из моды. – Не отрывая глаз от Софи и держа в одной руке куклу, Бодли поднимает другую руку над головой и заводит за спину, нетерпеливо пошевеливая пальцами, пока в них не вкладывают платок. А затем приступает к делу, с такой силой промокая и вытирая лицо Софи, что она покачивается, неспособная устоять на ногах. Предаваясь этому занятию, он краем глаза замечает Джейни и напевным тоном школьного учителя отдает ей распоряжение:
– А ну-ка, Джейни, сейчас мне понадобится влажная тряпица, не правда ли?
Служанка, слишком ошеломленная, чтобы стронуться с места, лишь разевает рот.
– Влажная тряпица, – терпеливо упрощает задание Бодли. – Вернее, две тряпицы, и одна из них влажная.
Кивок хозяина отправляет Джейни исполнять это поручение, а тем временем из-под носового платка начинают проступать черты единственного ребенка Уильяма. Теперь девочка просто шмыгает носом, приподнимая и опуская голову в том же ритме, в каком незнакомый джентльмен, коему девочка инстинктивно доверяется, протирает ее лицо.
– Смотри! – говорит Бодли, вновь привлекая внимание девочки к кукле. – Он чувствует себя намного лучше, видишь?
Софи кивает, из огромных, обведенных краснотой глаз ее выкатываются последние слезы, она тянет ручонки к кукле.
– Хорошо, – соглашается Бодли. – Хотя постой! Ты же можешь испачкать его в крови.
Сжав двумя пальцами передник девочки, Бодли приподнимает его повыше, чтобы показать ей, насколько тот пропитался кровью. Софи, не протестуя, позволяет Бодли стянуть с нее нехорошую одежку, что он и проделывает быстрым движением одной руки.
– Ну вот, – ласково произносит Бодли.
Джейни, вернувшаяся с влажной фланелькой, совершает попытку отереть ею лицо девочки, однако Бодли отбирает у нее тряпку и сам выполняет эту задачу. Теперь, когда лицо Софи Рэкхэм ничем на замарано и со щек ее отчасти спала припухлость, она оказывается самой обыкновенной, серьезного вида девочкой, для изображения на рекламных картинках мыла «Перз» – да и Рэкхэмова, уж если на то пошло, – недвусмысленно не пригодной. Глаза у Софи большие, ярко-синие с прозеленью, но они несколько выпучены и совершенно безрадостны. Больше, чем на кого-либо еще, она похожа на домашнюю зверушку, купленную для ребенка, успевшего с тех пор умереть; уже никому не нужную – ее кормят, дают ей кров и время от времени даже ласкают, однако жить ей решительно незачем.
– У твоего дружка пятно на одежде, нам следует смыть его, – говорит ей Бодли. – Тут дорога каждая секунда.
Софи укладывает крошечную ладошку на руку Бодли, и они вместе стирают кровь со спины индуса; для этого располагающего к себе незнакомца Софи готова на все, буквально на все.
– Знавал я некогда куклу, которой вымазали голову клюквенным соусом, – рассказывает ей Бодли, – и никто о ней не позаботился, пока не стало слишком поздно. К тому времени соус загустел, совсем как смола, кукле пришлось обрить голову, и она заболела воспалением легких.
Софи, слишком застенчивая, чтобы задавать вопросы, с тревогой глядит на него.
– Нет-нет, она не умерла, – говорит Бодли. – Но так и осталась с того дня лысой, навсегда.
Он поднимает, как только может выше, брови и выпячивает губы в поддельном огорчении, внушенном ему мыслью о существе, на голове которого из всей растительности одни только брови и уцелели. Софи смешливо фыркает.
Этот смешок да еще вопли, с которыми она перед вами предстала, суть единственные звуки, какие вы от нее услышите – во всяком случае, здесь, в курительной ее отца. Няня вечно твердит ей, что она ничего не знает, и все же одно Софи знает – воспитанный ребенок должен вести себя так, чтобы его ни видно, ни слышно не было. А она уже наделала шума, за который ее вне всяких сомнений накажут, и стало быть, ей надлежит как можно быстрее обратиться в безмолвную невидимку и тем хотя бы отчасти смягчить то, что ее ожидает.
И все-таки, даже притом что Софи стоит молча, втянув, чтобы занимать поменьше места, голову в плечи, Уильям поражается, как сильно она выросла. Кажется, всего неделю назад Софи была новорожденной малюткой, незримо спавшей в кроватке, пока на другом конце дома лежала в своей и рыдала болезненно возбужденная Агнес. Подумать только, она теперь даже не малышка, едва научившаяся ходить, она… как бы это сказать? – девочка! Но как же случилось, что он не заметил произошедших в ней перемен? Ведь нельзя же сказать, будто он видится с дочерью до того уж нечасто, что уследить за ее развитием попросту не может – нет, она попадается ему на глаза… э-э… по нескольку раз в неделю! И однако ж, Софи никогда не казалась ему такой… такой взрослой. Боже всесильный, теперь он вспомнил и день, в который его отец подарил совсем еще крошке Софи ее кошмарную куклу, – отец ездил в Индию по торговым делам и привез оттуда этот талисман компании «Твинингс», предназначавшийся изначально для того, чтобы сидеть верхом на маленьком, наполненном чаем жестяном слоне. Да и не в тот ли же день отец торжественно объявил – при слугах, – что Уильяму пора «осваиваться» с парфюмерным делом? Ну да, в тот! И вот это дитя, некрасивая девочка с испачканными кровью ступнями, подросшая малютка, стоящая спиной к нему, поглощенная вздором, который городит его старый приятель Филип Бодли… Она есть живое олицетворение прошедших с того дня лет – лет, наполненных завуалированными угрозами и натужной бережливостью. Как бы хотелось ему быть отцом из тех, которых изображают в дамских журналах, – поднимающим, точно некий трофей, в воздух улыбающуюся дочурку под обожающим взглядом супруги! Но обожающей супруги у него больше нет, а на дочурке его напечатлелось клеймо невзгод.
Уильям прочищает горло.
– Джейни, – говорит он, – вам не кажется, что мистер Бодли потрудился уже достаточно?
Так за кем вам идти теперь? Полагаю, за Джейни. Мистер Бодли с мистером Эшвеллом все равно того и гляди откланяются, после чего Уильям Рэкхэм сразу вернется к изучению рэкхэмовских бумаг. Он просидит почти без движения не один час, поэтому, если только вас не донимает отчаянная потребность выяснить цену на теребленный джут из Данди, служащий дешевой заменой хлопковой ваты, или проникнуть в тайну изготовления утоляющих мигрень ароматических подушечек, вы куда интереснее проведете время с Джейни и Софи, ожидающими в детской возвращения Беатрисы.
Джейни сидит на корточках на полу близ Софи, сжимая живот, страдая от боли, какой она в жизни своей не знала. Наверное, все дело в съеденных ею остатках завтрака Рэкхэмов… Бог наказывает ее, протыкая, точно кинжалом, кишки. Она раскачивается взад-вперед, обхватив руками колени, накрытые тщательно сложенным, пропитанным кровью передничком Софи. Господи, что ей теперь с ним делать? И не накажет ли ее Стряпуха за то, что она оставила кухню? Не накажет ли Няня за то, что она позволила изувечиться дочери Рэкхэмов? Не накажет ли мисс Плейфэр за то, что она помчалась, не покончив с уборкой столовой, на вопли Софи? Не накажет ли мисс Тиллотсон за… ну, уж мисс-то Тиллотсон всегда найдет, за что ее наказать. Почему все это свалилось на нее – столько ужасных несчастий, столько несделанной работы? – и во всем виноватят ее, а ведь целая тысяча девушек только и ждет, отпихивая друг дружку, случая занять ее место. Ох, ну пожалуйста, сделай так, чтобы мистер Рэкхэм не выгнал ее! Куда она пойдет? До дома так далеко, а дождь вон какой припустил! Вот и кончит она на улицах, там и кончит! Кроме чести, у нее за душой ничегошеньки нет, но она же знает, что не хватит ей храбрости голодать ради чести! Не надо, пожалуйста, не надо, она будет работать на Рэкхэмов еще больше, правда будет, больше, чем когда-либо прежде, ей просто нужно время, самая малость времени, чтобы понять, в чем состоят настоящие ее обязанности.
– Кто этот дядя?
Джейни оборачивается на непривычный для нее звук голоса Софи Рэкхэм, прищуривается, стараясь не смотреть на крутящийся по полу у юбок девочки бристольский волчок, боясь, что от этого ей станет хуже.
– Прошу прощения, мисс Софи?
– Кто этот дядя? – повторяет девочка, наблюдая за волчком, который заваливается, точно пьяный, набок.
– Какой дядя, мисс Софи? – спрашивает Джейни сдавленным от боли голосом.
– Хороший.
Джейни пытается припомнить хорошего дядю.
– Я тут никого не знаю, и его отродясь не видела, – с мольбой в голосе отвечает она. – Одного только мистера Рэкхэма и знаю.
Софи снова запускает волчок.
– Он мой отец, вы разве не слышали? – насупясь, произносит она. Ей не терпится ознакомить Джейни с устройством здешней жизни – по мнению Софи, прислуга тоже заслуживает обучения. – А его отец, отец моего отца, очень важный человек. У него длинная борода, он ездит в Индию, в Ливерпуль, везде ездит. Он и есть тот самый Рэкхэм, которого вы видите на мыле и на духах.
Мыло Джейни – это, собственно говоря, кухонные обмылки, скупо выдаваемые ей Стряпухой раз в неделю, а уж флакона духов она и вовсе в жизни своей не видала. Однако Джейни, терзаемая болью, улыбается и кивает, притворяясь, что все поняла.
– А хороший дядя, – предпринимает новую попытку Софи, – он к нам раньше не приходил?
– Я не знаю, мисс Рэкхэм.
– Почему?
– Так я же все время в мойке торчу. А теперь вот и на кухне – еду иногда на поднос составляю и… и прочее что. А в самом-то доме… в самом я редко бываю.
– Я тоже.
Эти преступно панибратские отношения с самой ничтожной из служанок дома доставляют маленькой Софи робкое удовольствие. Она вглядывается в лицо Джейни, загадывая: а вдруг произойдет что-нибудь необычное – теперь, когда они так сблизились? Что, если день нынче совсем особый, первый день новой жизни – ведь именно так и начинается в книжках настоящая дружба! Софи раскрывает глаза пошире и улыбается, дозволяя служанке излить всю душу, предложить (быть может) тайком встретиться ночью.
Джейни с белым, как сыворотка, лицом улыбается ей в ответ, покачиваясь с пяток на носки. Она открывает рот, собираясь что-то сказать, но вдруг падает на колени и извергает на пол детской тусклое полотнище рвоты. Еще два похожих на безмолвный вопль позыва, и из ее открытого рта снова изливается рвота. Желчь, перестоявший чай, полученная утром от Стряпухи жидкая овсянка и поблескивающие кусочки ветчины выплескиваются на полированные половицы.
Пару секунд спустя дверь детской распахивается – это воротилась наконец Беатриса. И в прочих пределах дома Рэкхэма все возвращается, словно по мановению волшебной палочки, к заведенному порядку: доктор Керлью поднимается по лестнице в спальню миссис Рэкхэм, старые школьные друзья мистера Рэкхэма отбыли, Летти вернулась из писчебумажной лавки, дождь ослаб. И только в детской – здесь, где всему и вся надлежит подчиняться раз и навсегда установленным правилам, – никакого порядка нет и в помине: безобразная вонь; растрепанная, с всклокоченными волосами, босая Софи; стоящая посреди комнаты на четвереньках посудомойка, тупо уставившаяся в лужу блевотины, – и заметьте, ни ведра, ни тряпки нигде не видно; и… а это еще что такое? – окровавленный передник Софи.
Гневно вытянувшись в струнку, Беатриса Клив обрушивает всю мощь своего достойного василиска взгляда на дитя Рэкхэмов – погибель всей ее жизни, греховную тварь, которую и на пять минут нельзя оставить без присмотра, никчемную дочь недостойного наследника презренных сокровищ. И под тяжестью этого взгляда малютка Софи съеживается и указывает дрожащим, грязноватым пальчиком на Джейни.
– Это она делает.
Беатриса морщится, однако откладывает возобновление войны с грамматическими причудами дитяти на потом, на после того, как разрешатся иные загадки.
– А теперь, – произносит она, и первые за день солнечные лучи трепетно озаряют окно детской, обращая лужицу рвоты в золото и серебро, – все с самого начала…
Глава восьмая
Минутку, минутку – прежде, чем мы двинемся дальше… Простите, если я впала в заблуждение на ваш счет, но то, как вы разглядываете дом Рэкхэмов – полированные перила его лестниц, снующую по коридорам прислугу, богато изукрашенные, освещаемые газом комнаты, – создало у меня впечатление, что он представляется вам очень старым. Так вот, ничего подобного, он совсем еще нов. Нов настолько, что, если, к примеру, Уильям действительно решит не мириться и впредь с натекающими из-под французских окон гостиной струйками дождевой воды, ему довольно будет отыскать визитную карточку плотника, клятвенно обещавшего полную их герметичность.
В молодые годы Генри Калдера Рэкхэма, когда Ноттинг-Хилл был деревушкой Кенсингтонского прихода, на том месте, на котором вы пятьдесят лет спустя наблюдали за безуспешной попыткой Уильяма и Агнес позавтракать вместе, еще паслись коровы. Портобелло был тогда фермой, и Ноттинг-Барн тоже. Там, где стоит теперь «Уормвуд-скрабз»[33], расстилалась поросшая кустарником пустошь, а в Шефердз-Буш ничего не стоило повстречать пастуха. Материалы, пошедшие на постройку столовой Рэкхэмов, укрывались тогда в еще не разработанных каменоломнях и не вырубленных лесах, а отец Уильяма был слишком занят своими мануфактурами и фермами, чтобы всерьез подумывать о жилище для своего наследника – да, собственно, и о зачатии оного.
Во все предшествовавшие его женитьбе годы Генри Калдер Рэкхэм жил в довольно большом доме, в Уэстборне, но часто говаривал в шутку (особенно беседуя с неисправимыми снобами, дружбой коих ему заручиться не удавалось), что настоящий его дом – это вокзал Паддингтон, ибо «любая фирма непременно пойдет псу под хвост, если ее владелец не приезжает каждый день, чтобы посмотреть, как управляются с делом его работники». Слово «работа» Генри Калдер Рэкхэм грязным отродясь не считал, хоть это – как ни странно – никогда не возбуждало приязни к нему в людях, на него работавших. В тех, кто трудился на его мануфактурах, вид хозяина, проходящего в черной паре и цилиндре по железным помостам над их головами, порождал едва ли не чувство взаимной солидарности. С другой стороны, не исключено, что в душе он был простым сельским жителем… хотя и люди, работавшие на его лавандовых полях, относились к нему, по всему судя, с симпатией нисколько не большей. Быть может, прочное в носке сельское платье, в которое он облачался при всяком их посещении, ошибочно воспринималось ими не как наряд для него предпочтительный, но как нечто показное.
Другой его особенностью, в которую, как он чувствовал, мало кто верил, была страстность натуры. Злые языки города и деревни имели обыкновение брюзгливо заверять, что он готов доискиваться благосклонности скорее у механической дробилки, нежели у женщины. Вообразите же изумление, поразившее их обладателей, когда он вдруг взял да и женился на дьявольски привлекательной леди! Они просто дара речи лишались всякий раз, что он выводил ее в свет.
Ну-с, если появление у него жены застало всех врасплох, уход ее – девять лет спустя – никого не удивил. И то сказать, о супружеской неверности ее ведали едва ли не все – и задолго до того, как об изменах супруги узнал он, их жертва. Сразу же начали строиться нескончаемые домыслы относительно того, прогнал ли ее муж или она покинула его по собственному почину. Но какая, в сущности, разница? Она ушла из его жизни, оставив двух маленьких мальчиков. Он же, и в горе своем оставшийся человеком практическим, нанял еще одну служанку, дабы та окружила его сыновей материнскими заботами, и вернулся к своим трудам.
Годы шли, мальчики подрастали, никаких пагубных последствий случившегося в них не замечалось, и в конце концов Рэкхэм-старший поневоле задумался о том, где предстоит поселиться его наследнику, молодому Генри. К той поре, к 1850-м, изначальный Ноттинг-Хилл на деревню уже нимало не походил. В «Гончарнях», расположенных к западу от города, было еще полным-полно цыган и свинарников; неудавшиеся попытки обратить половину прихода в ипподром наложили отпечаток на характер всей этой местности; однако уже появились знаки, указывавшие, что скопление домов, стоявших вокруг Ладброук-сквер, способно преобразоваться в весьма привлекательное местожительство. И действительно, под конец 1860-х все уже знали, что здесь с удовольствием селятся люди известные, хоть и не поднявшиеся до Общества самого лучшего. К тому же вблизи проходила железная дорога, которой Генри-младшему, когда он возглавит дело, пришлось бы пользоваться очень часто.
И Генри-старший приобрел для своего наследника большой красивый дом на Чепстоу-Виллас, построенный за десять без малого лет до того и пребывавший в превосходнейшем состоянии. Что касается дома, в котором поселится Уильям, второй его сын, ну… это пусть мальчик решает сам.
Теперь у нас уже будущее, а история империи Рэкхэма сложилась вовсе не так, как была задумана. Генри-старший свои обязательства выполнил образцово: грубоватое обаяние и тактичное ссужение денег заслужили ему место в благовоспитанном Обществе; среди друзей своих он насчитывает мировых судей, пэров и благородных людей всякого рода. А вот первенец его, Генри-младший, живет, монах монахом, в дешевом коттеджике близ Брик-Филда, Уильям же, получивший лучшее образование, какое только можно купить за деньги, довольствуется домом на Чепстоу-Виллас, разыгрывая джентльмена, хоть независимые средства, потребные для этого, у него и отсутствуют. За годы, миновавшие со времени его выхода из университета, мальчик не заработал себе на прокорм ни единого пенни! Неужели Уильям намерен и дальше вести подобную жизнь, предоставляя старому отцу изнывать под бременем ответственности, пока сам он сочиняет собственного удовольствия ради стишки, которых никто не печатает? Пора бы уж ему обратить внимание на кованые «Р», которые украшают его чугунные ворота!
В доме его все неладно. Парк попросту позорит Уильяма, особенно те участки, что примыкают к фасаду и укрываются за кухней. Выезда нет, лошадей в конюшне тоже. Маленькое бунгало кучера, в которое никакой кучер так пока и не вселился и которое Уильям в пору недолгого увлечения живописью преобразовал в мастерскую, ныне стоит заброшенным. Приземистые теплицы лежат, точно стеклянные гробы, чуть ли не лопаясь от сорных трав, коим никакой садовник не требуется. Все это крайне прискорбно, но лишь естественно: Генри-старший, пытаясь исцелить Уильяма, обрушил на домашний уклад сына череду увечащих ударов, вследствие коих все жизненные соки дома, всё, что обслуживало внешние его органы, стянулось к его осаждаемому заботами сердцу.
В самом доме нет ничего, способного поразить чье-либо воображение – не считая воображения чужестранца, подобного вам. Вы можете любоваться множеством комнат с высокими потолками и темными навощенными полами, сотнями предметов обстановки, предназначенных судьбой для антикварных магазинов вашего времени, и, быть может, самое сильное впечатление произведет на вас безмолвное прилежание прислуги. Но здесь все это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Сужающемуся кругу Рэкхэмовых знакомых дом его представляется гибнущим: он попахивает отмененными soires[34], гнетущими приемами под открытым небом, звуками, которые издает разбиваемое Агнес за обедом стекло, тягостными прощаниями, уходами помрачневших гостей. Попахивает пустынными залами, в которых стоят постанывающие под бременем деликатесов столы, пустыми полами, гудящими от тяжелых шагов брошенного на произвол судьбы визитера. Нет, после всего, что здесь случилось, никому и в голову не придет повторно навестить Рэкхэмов.
Шторы на окнах спальни Агнес Рэкхэм плотны и почти неизменно задернуты – обстоятельство, хорошо известное всем любителям подсматривать за чужой жизнью, пытавшимся когда-либо заглядывать в них с Пембридж-Мьюс. В самой же спальне сомкнутость штор приводит к последствиям не самым счастливым: спальню приходится освещать во все дневные часы, отчего в ней стоит сильный запах растопленного свечного сала (газу Агнес не доверяет). А кроме того, в тех редких случаях, когда Агнес решается выйти отсюда, свечи гасят (ибо Агнес боится спалить дом) и при возвращении хозяйки здесь оказывается темно, как в могиле.
Такой мы и находим спальню в тот утренний час, когда Агнес возвращается в нее после отважного посягательства на участие в супружеском завтраке. Она и ее горничная останавливаются у двери спальни, чтобы отдышаться после долгого подъема по лестнице. Клара не может и свечу нести, и в то же самое время поддерживать под локоток хозяйку, поэтому дверь открывается ударом локтя, и две женщины, шаркая, проходят в нее, немедля утрачивая во мраке способность хоть как-то ориентироваться. По чистому совпадению, в миг, когда открывается дверь спальни, внизу шумно захлопывается дверь входная, и Агнес слышит, как ее муж покидает дом. Куда это он? – гадает Агнес, вводимая в комнату, которая стала за время ее отсутствия решительно неузнаваемой.
Белизна смутно рисующейся в темноте кровати никаких опасений не внушает, но что это там мреет в углу? Наполовину обмотанный бинтами скелет? А рядом с ним… большая собака?
Впрочем, Клара зажигает масляную лампу, и тайна двух фигур разъясняется: это опутанный полосками ткани чугунный портновский болванчик и стоящя наготове, похожая на посеребренного добермана, швейная машинка.
– Дайте мне ваши руки, миссис Рэкхэм.
Агнес, пошаркивая, приближается к горничной, чтобы выполнить ее просьбу, – однако пошаркивает она не как старая старуха, но скорее как ребенок, которого возвращают в постель после привидевшегося ему дурного сна.
– Теперь все будет хорошо, миссис Рэкхэм. – Клара стягивает с постели покрывало. – Теперь вы сможете спокойно отдохнуть.
Под эти и иные поверхностно утешительные речи Клара раздевает хозяйку и укладывает в постель. Затем она протягивает хозяйке ее любимую щетку, и Агнес начинает расчесывать волосы, ибо опасается, что при падении на пол они могли растрепаться.
– Как я выгляжу?
Клара, складывающая халат хозяйки до размеров наволочки, прерывает это занятие, чтобы сказать комплимент.
– Прекрасно, мэм, – говорит она, улыбаясь.
Улыбка ее неискренна. Все улыбки Клары неискренны, и Агнес это известно. Однако изображаются они по служебной обязанности и никакой злонамеренности собою не прикрывают – Агнес знает и это и испытывает благодарность. Между нею и горничной существует негласная договоренность, в силу которой Клара должна, в обмен на пожизненное место, потакать всем прихотям хозяйки, свидетельствовать любое ее фиаско и никогда ни на что не жаловаться. Она должна служить Агнес утешением с рассвета до полуночи, а временами и в неприятнейшие моменты, приходящиеся на срок противоположный. Она должна быть наперсницей, выслушивающей все откровения Агнес, сколь бы бессмысленными они порой ни были, и если час спустя хозяйка попросит забыть о них, должна стирать их из памяти без следа, как пролитое по небрежности молоко.
И самое главное – она должна помогать хозяйке, пособлять ей в неисполнении всех распоряжений, отдаваемых двумя злокозненными мужчинами – доктором Керлью и Уильямом Рэкхэмом.
Жизнь рядом с Кларой дает Агнес возможность вести игру полностью безопасную, снабжает ее распорядком простых разминок, совершаемых при содействии благосклонной домочадицы. С помощью Клары она пытается заново отточить светские навыки, без которых в пору лондонского Сезона ей никак не обойтись. К примеру, время от времени она просит Клару представить ту или иную леди, и они разыгрывают вдвоем небольшие пьески, позволяющие Агнес поднатореть в изображении подобающих реакций. Не то чтобы лицедейство Клары было таким уж сверхъестественно убедительным, однако Агнес это ничуть не заботит. Слишком реалистическая имитация могла бы лишь нервировать ее.
И вот она, ободренная ощущением, которое создают прилежно расчесанные мягкие волосы, откладывает щетку и откидывается на подушки.
– Мою новую книгу, Клара, – негромко приказывает она. Служанка подносит ей объемистый том, и Агнес открывает его на главе под названием «Как защититься от врага» – под врагом, в настоящем случае, подразумевается старость. Агнес растирает виски и щеки, по возможности точно исполняя указания книги, хотя растирать их «в направлении, противоположном тому, какое грозят принять морщины», ей сложновато, поскольку морщины у нее покамест отсутствуют. «Если вы утомились, смените руки» – советует книга. Утомиться-то она, разумеется, утомилась, но чем же ей сменить руки, когда у нее их всего только две? И откуда ей знать, правильно ли она растирает лицо, в нужных ли количествах прилагает «устойчивый, мягкий нажим» и к каким последствиям может привести рекомендуемый автором отказ от каких ни на есть притираний? В этих книгах никогда не найдешь того, что женщине действительно нужно знать.
Слишком усталая, чтобы продолжать упражнения, она переворачивает страницу – посмотреть, что там дальше.
«Кожа лица покрывается морщинами по тем же причинам, по каким покрывается ими яблоко, и механизмы в обоих случаях действуют одинаковые. По мере того как иссыхают соки плода, укрытая его шкуркой мякоть сжимается, давая усадку…»
Агнес немедля захлопывает книгу.
– Унеси ее, Клара, – говорит она.
– Да, мэм.
Клара знает, что следует сделать: несколько дальше по коридору находится особая комната, в которую ссылаются все нежелательные вещи. Теперь Агнес бросает украдчивый взгляд на швейную машинку. Однако от Клары не укроешься.
– Возможно, мэм, – говорит она, – мы могли бы заняться вашим новым платьем? Самая трудная часть работы уже позади, не правда ли, мэм?
Лицо Агнес озаряется радостью. Какое счастье, что у нее есть чем занять себя, есть чем заполнить время – и такое неприятное время. Ведь она не забыла о том, что очень скоро ей придется принимать доктора Керлью.
Боже милостивый, и почему она отвергла предложение Уильяма остановить посланную за доктором Беатрису? Уильям же сам вызвался сделать это – готов был бежать по дому, выскочить, если потребуется, на улицу, вернуть посыльную назад! А она ему отказала! Безумие! Однако, лежа тогда на полу, она на краткий миг ощутила пьянящую власть над мужем – власть, позволившую с презрением отмахнуться от протянутой им оливковой ветви. Противостоя подобным образом мужу, если можно противостоять, лежа на полу, она брала над ним верх – в определенном смысле.
Агнес смотрит на недошитое платье, представляя, как оно прильнет, подобно шелковому доспеху, к ее телу, и робко улыбается Кларе, и та улыбается в ответ.
– Да, – говорит Агнес, – думаю, на это мне сил хватит.
Через несколько минут тиканье часов уже заглушается стрекотом швейной машинки. После каждого завершенного ими шва или сборки женщины прерывают работу, извлекают платье из машинки и примеряют его на болванчика. Раз за разом бесполая кукла одевается заново и всякий раз приобретает облик чуть более статный, чуть более женственный.
– Мы ткем волшебный наряд! – фыркает миссис Рэкхэм, почти забывая, что доктор Керлью уже приближается, что саквояж покачивается в его обтянутом перчаткой кулаке.
Впрочем, шитье для нее – не просто развлечение. Если она хотя бы надеется принять на следующий год участие в Сезоне, ей потребуется еще самое малое четыре платья, а Бог свидетель, на следующий год она просто обязана показаться во время Сезона в свете. Ибо если что-то и пошатнуло веру Агнес в ее душевное здравие, так именно то, что в этом году принять в Сезоне участие она не смогла. И если что-то способно выкроить (так сказать) такую ее веру заново, то лишь исправление этого недочета.
Да, верно, с самого рождения Агнес ни к чему, в сущности, не готовили, как только к появлению на людях во всем положенном ей блеске красоты. Но вовсе не потому создает она эти пышные платья, эти до мелочей продуманные сооружения, в коих рассчитывает величаво скользить по паркетам чужих домов. Для Агнес участие в Сезоне есть Единственное, что бесспорно докажет: она не безумна. Ибо, ничуть не уверенная в том, где пролегает, предположительно, граница, которая отделяет здравие от безумия, Агнес проводит ее самостоятельно. И если ей удастся держаться по должную сторону от этой границы, она обратится в нормальную женщину – сначала в глазах света, затем в глазах мужа, а там и в глазах самого доктора Керлью.
А в собственных? В собственных глазах она и не больна, и не здорова; в них она просто Агнес… Агнес Пиготт, если вы ничего не имеете против. Загляните в сердце ее, и вы увидите очень миленькую картинку вроде тех, что изображают детство Девы Марии. Вот это и есть Агнес, но не такая, какой знаем ее мы: Агнес, неподвластная возрасту и переменам, безукоризненная – не падчерица какого-то там Ануина, не супруга какого-то Рэкхэма. Волосы этой Агнес шелковистее, наряды цветистее, душу ничто не тревожит, и самый первый Сезон ее еще впереди.
Агнес вздыхает. На самом деле с первого ее Сезона миновало столько лет, что и вспоминать не хочется, а честолюбивые замыслы на следующий у нее довольно скромны. Она не мечтает вращаться в самом что ни на есть высшем свете – упование, бывшее более чем достижимым, когда она оставалась еще падчерицей лорда Ануина, но ныне, едва стало ясно, что Уильям, если для него вообще существует некое будущее, никогда не обратится в прославленного писателя, каким рисовало его воображение Агнес, сошедшее на нет. Уильяма ждет будущее главы парфюмерной фирмы – при условии, что он наконец раззадорится настолько, что решится принять это бремя, – вот тогда, став очень, очень богатым, он сможет медленно подняться на общественном небосводе повыше. До той же поры лучшее, на что вправе рассчитывать Рэкхэмы, это вращение в низших кругах светского общества. Агнес сознает это. Ей такое положение не по душе, но она его сознает и полна решимости извлечь из него все, что сможет.
Итак, каковы же ее предвкушения? Ей вовсе не нужно, чтобы мужчины сочли ее красавицей. Это сулит только новые беды. Не надеется Агнес и на восхищение женщин; от них она ожидает лишь вежливого безразличия – ну и обмена ехидными сплетнями за ее спиной. Если честно, она не помышляет даже о том, что следующий Сезон позволит ей обзавестись хоть какими-то новыми связями. Напротив, Агнес намерена просквозить его, ни на кого не глядя, произнося лишь пустейшие фразы и не вслушиваясь ни во что, требующее чего-то большего, нежели самое поверхностное внимание. Это, как убедил ее прежний опыт, курс наиболее безопасный. Сильнее, чем к чему-либо еще, она тяготеет к блаженству, которое ощутит, оказавшись приемлемой за пределами своей спальни, облачившись в наряды, более изысканные, чем ее покрытые множеством пятен, стираные-перестираные пеньюары.
– А знаете, мэм, – произносит Клара, – миссис Уимпер просто позеленеет, когда увидит вас в этом платье. Я встретила в городе ее горничную, и та сказала, что миссис Уимпер изнывает от желания носить такой же фасон, да только она для него уже толстовата.
Агнес по-девичьи прыскает, отличнейшим образом понимая, впрочем, что это почти наверное ложь. (Клара вечно выдумывает что-нибудь в таком роде.) С каждой минутой Агнес становится лучше – боль в голове стихает; может быть, Агнес даже попросит Клару раздернуть шторы…
Но тут раздается стук в дверь.
Кларе не остается ничего иного, как позволить той части платья, которой она занималась, соскользнуть на пол, оставив хозяйку увязать в шелке. Клара встает и, сконфуженно улыбаясь, спешит открыть перед доктором дверь. Длинная тень его вплывает в спальню.
– Добрый день, миссис Рэкхэм, – произносит, неспешно переходя комнату, доктор. Надушенный воздух этого женского святилища подпорчен безошибочно узнаваемым запашком, который разносят теперь воздушные токи, созданные передвижением массивного докторского тела. Он опускает саквояж на пол у кровати Агнес, присаживается на край матраса, кивает Кларе. Кивок означает, что Клара может идти; и это не просто кивок – приказание.
Агнес, уже развернувшая свое кресло от швейной машинки к доктору, сознает, глядя в спину уходящей Клары, что капкан захлопнулся, но все же пытается вывернуться из его зубьев.
– Сожалею, что вас вынудили проделать столь длинный путь, – говорит она. – Потому что, к несчастью, – я хочу сказать, к счастью для меня, – чувствую я себя сейчас хорошо. Да вы и сами это видите.
Добрый доктор не произносит ни слова.
– Конечно, муж вызвал вас, потому что он так заботлив…
Лоб доктора идет морщинами. Он не из тех, кто легко закрывает глаза на человеческую непоследовательность.
– Да, но Уильям дал мне понять, что именно вы настояли на том, чтобы вызвать меня.
– Да, ну что же, и, разумеется, мне очень жаль, – лепечет Агнес, со страхом отмечая привычное обыкновение доктора чуть приподнимать, выслушивая ее, подбородок, словно он не желает пропустить мимо ушей ни единой ее бессмысленной лжи. – Наверное, в ту минуту я ощущала себя такой нездоровой и… и опасалась самого худшего. Но во всяком случае, теперь я совершенно пришла в себя.
Доктор Керлью укладывает красиво подстриженную бородку на переплетенные кисти рук.
– С позволения сказать, миссис Рэкхэм, на мой взгляд, вы очень бледны.
Агнес пытается прикрыть нарастающую в ней панику жеманной полуулыбкой:
– О, это, наверное, пудра, не правда ли?
Доктор Керлью принимает недоуменный вид. Это выражение докторского лица Агнес более чем знакомо и представляется ей самым отвратительным из всех его выражений, способным хоть кого довести до исступления.
– Но разве я не предостерегал вас, – спрашивает он, – от использования косметических средств, способных нанести урон вашей коже?
Агнес вздыхает:
– Да, доктор, предостерегали.
– Собственно говоря, я полагал…
– …что я и вовсе от них отказалась, да.
– В таком случае…
– Да, – вздыхает она, – в таком случае причина не в пудре.
Доктор прижимает кончики пальцев к бородке, тяжело вздыхает.
– Прошу вас, миссис Рэкхэм, – увещевательным тоном начинает он. – Я знаю, вы не любите врачебных осмотров. Однако то, что мы любим, и то, что идет нам во благо, не всегда совпадает. Многие зловещие повороты в течении болезней, болезней, во всех отношениях излечимых, удается предотвращать, если они выявляются сразу.
Агнес откидывается на спинку кресла, крепко зажмуривается. Не существует ни одного возражения, которого она не делала бы прежде – и без всякого успеха. Я чувствую себя слишком усталой, чтобы подвергаться осмотру. «Слишком усталой? В таком случае вы, должно быть, больны». Да, для осмотра я слишком больна. «Но от осмотра вам станет лучше». Вы же осматриваете меня каждую неделю; что может случиться дурного, если один осмотр мы пропустим? «Ну, это вы не всерьез; мириться с упадком своего здоровья готовы лишь сумасшедшие». Я не сумасшедшая. «Разумеется, нет. Потому я и прошу у вас разрешения – вместо того, чтобы игнорировать ваши желания, как игнорирую желания тех, кто обитает в приюте душевнобольных». Да, но я чувствую себя слишком усталой... И так далее.
Такое ли уж безумие – думать, что доктор Керлью пытается ее застращать? Что он позволяет себе вольности, коих докторам допускать не положено? Ведь она совсем утратила связь с внешним миром – и, может быть, упустила из виду важнейшие изменения, произошедшие в том, как обходятся доктора со своими больными? Неужели и сама Королева терпит застращивания и угрозы своего врача? И не стоит ли ей, Агнес, отказать ему от дома? Как это было бы чудесно – сказать доктору Керлью, что в услугах его она более не нуждается, что ему отказывают от дома.
Вместо того она, как и всегда, уступает и укладывается на кровать. Добрый доктор раздергивает шторы, желая, чтобы труды его освещались солнцем. Агнес сосредоточивает все внимание на купе погашенных доктором свечей, подсчитывает затвердевшие на их стволах капли воска. Сбившись со счета, она начинает считать заново и опять сбивается, и все это время старается отогнать от себя электризующий страх, который пронизывает ее от пят до корней волос, – когда доктор Керлью поднимает, оголяя ноги Агнес, подол ее пеньюара.
Тем временем Уильям Рэкхэм сначала стучит в дверь миссис Кастауэй, потом дергает за шнурок звонка и нетерпеливо ждет, когда ему откроют. Порывы сырого ветра треплют его брючины, расфуфыренные проститутки поглядывают на него, проскальзывая мимо. Кожу на голове щиплет масло, втертое им в волосы. Проходит минута: подумать только, этот дом ничем не лучше его собственного!
Спустя еще минуту слышится звук сдвигаемого засова. Дверь немного приоткрывается, Уильям видит в щели недоверчиво поблескивающий женский глаз.
– Конфетка занята, – слышит он лишенный дружелюбия голос Эми Хаулетт, – может, зайдете попозже?
– Я, собственно, хочу переговорить с вашей… с миссис Кастауэй, – сообщает Уильям. – У меня чисто деловой вопрос.
– А у нас тут других и не бывает, – усмехается женщина, – все до единого деловые.
Уильям поражен: неужели найдется мужчина, который будет целовать и обнимать создание столь циническое? И он совершает вторую попытку:
– Я настаиваю… я пришел с предложением, которое, не сомневаюсь, весьма и весьма заинтересует миссис Кастауэй.