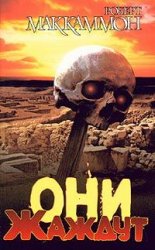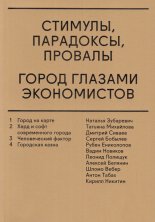Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

– Два вот этих, пожалуйста, – говорит Конфетка, указывая на самые что ни на есть липкие, сладкие и богатые кремом из выставленных на прилавке пирожных. – И вот это. Две штуки – да, по паре каждого.
Женщины посмеиваются, ободренные самой механикой согласованных действий двух старых подружек. Большую часть их жизни им приходится старательно избегать любого слова и жеста, которые способны стать препоной для переменчивых приливов мужской гордыни, и какое же это облегчение – забыть обо всем и дать себе волю!
– Каждое в свой стаканчик, медаме. – Лавочник, превосходно сознающий, что леди из них такие же, какой из него француз, взирает на двух посетительниц плотоядно, но не без подобострастия.
– О да, благодарю вас.
Каролина мягко сжимает ладонями конические донышки картонных стаканчиков, сравнивая лежащие внутри их кремовые пирожные и пытаясь решить, какое она съест первым. Получивший плату лавочник провожает их радостным «бон жуир». Если проститутки покупают по два пирожных каждая, так подавайте сюда проституток, да и побольше! Дожидаясь добродетельных дам, выпечка недолго останется свежей – на глазури и так уж начинают проступать капельки пота.
– Заходите снова, медаме!
Ну а теперь к следующему развлечению. Женщины еще только подходят к Трафальгарской площади – как точно они выбрали время! – а оно уже начинается. Незримый отсюда колосс вокзала Чаринг-Кросс изверг из себя самый объемистый за весь день груз пассажиров, и этот людской поток течет, направляясь сюда, по улицам. Сотни клерков, одетых в мрачное черное платье, вливаются в поле зрения женщин, большая волна одноцветного единообразия наплывает на конторы, готовые ее поглотить. Многочисленность и спешка клерков сообщают им вид смехотворный, но при этом лица их хранят выражения веские и бесстрастные, как будто каждый из клерков помышляет о высоких материях, – отчего они кажутся лишь более смешными.
– Бал гро-бовщиков, бал гро-бовщиков, – точно дитя, напевает Каролина. Ничего смешного в этой шуточке давно уже не осталось, однако Каролина дорожит ею, как старой знакомой.
А вот Конфетку потешить не так легко; на ее вкус, любая привычная реакция отзывается западней. Обмениваться старыми шутками, распевать старые песни – значит признавать поражение, довольствоваться своим уделом. Парки присматривают за нами с небес и, услышав что-либо подобное, мурлычат друг дружке: «О, эта вполне довольна собой, не стоит в ней ничего менять, она лишь с толку собьется». Ну так знайте: Конфетка намеревается перемениться. Парки могут посматривать на нее, когда им заблагорассудится, – они всегда увидят ее стоящей наособицу от общего стада, готовой к тому, что волшебная палочка перемен коснется ее головы.
И потому кишащие перед нею клерки не могут остаться гробовщиками – но кем же тогда им быть? (Разумеется, банальная правда состоит в том, что они клерки и есть, – однако это не годится: без помощи воображения прорваться к лучшей жизни не удавалось еще никому.) И стало быть… это огромная толпа гостей, которые покидают обед, задававшийся в богатом отеле, вот что! Там учинилось волнение. Пожар! Потоп! Спасайся кто может! Конфетка бросает взгляд на Каролину, прикидывая, не стоит ли поведать ей это новейшее толкование. Однако улыбка женщины постарше выглядит глуповатой, и Конфетка решает – нет, не стоит. Пусть Каролина сохранит своих драгоценных гробовщиков.
Клерки теперь уже повсюду – они вылезают из омнибусов, маршируют в десятках направлений, держат в руках перевязанные бечевкой свертки с ленчами. А между тем прибывают, грохоча, все новые омнибусы, и крыши их тоже облеплены дрожащими на ветру клерками.
– Вот бы дождь пошел, – ухмыляется Каролина, вспоминая, как в прошлый раз они с Конфеткой стояли в укрытии, попискивая от наслаждения, пока омнибусы свозили сюда клерков под безжалостным ливнем. Тем, кто сидел внутри, ничто не грозило, а вот несчастные, которым достались места только на крыше, прежалостно горбились под покровом теснившихся зонтов. «Ах, что за зрелище!» – радостно восклицала тогда Каролина. И сейчас она сжимает, точно в молитве, укрытые перчатками длани, желая, чтобы небеса разверзлись и подарили ей это зрелище снова. Однако сегодня небеса остаются закрытыми.
Озаряемые благосклонным солнцем улицы становятся все оживленнее, столпотворение пешеходов и экипажей почти уж и не позволяет отличить тротуары от мостовых. Сквозь орды клерков медленно, будто крестьянские сенные возы, что продираются через овечью отару, проезжают в безвкусных брогамах еврейские комиссионеры. Пообок от них восседают с дрожащими на коленах собачонками дамы высшего купеческого сословия. Оптовые торговцы, держащие головы приметно выше розничных, выступая из кебов, расчищают себе дорогу взмахами тростей.
Однако полный масштаб этого шествия можно оценить, лишь стоя посреди Трафальгарской площади, ибо толпы клерков обтекают и огибают ее подобно огромной армии, берущей в кольцо Нельсона. Все, что следует сделать Каролине и Конфетке, это протиснуться, держа наотлет пирожные и сверток, на собственно площадь. На каждом шагу двух женщин мужчины, несмотря на давку, расступаются перед ними – одни отпрядывают в почтительном неведении, другие в осведомленном отвращении.
И неожиданно к услугам Каролины и Конфетки оказывается словно бы весь мировой простор. Они прислоняются к пьедесталу одного из каменных львов и поедают пирожные, склонив головы и слизывая с перчаток пятнышки крема. По меркам респектабельности это все равно что слизывать брызги спермы. Порядочная женщина употребляет пирожное только с тарелки – в отеле или по меньшей мере в большом, торгующем всем на свете магазине, хоть нынче и не скажешь, с кем или с чем рискуете вы повстречаться в заведении, отличающемся гостеприимством столь неразборчивым.
Впрочем, на Трафальгарской площади скандальное поведение их бросается в глаза не так сильно; в конце концов, здесь вечно толкутся иностранцы и в еще больших количествах голуби, а как человеку соблюсти совершенную благопристойность посреди такой грязи и бездны перьев? Люди из разряда тех, кого заботят подобные вещи (леди Констанция Бриджлоу как раз из них, однако до знакомства с ней вам еще далеко), сказали бы, что в последние годы городские власти лишь потворствовали этим жалким созданиям (под каковыми словами она разумеет голубей, а быть может, и иностранцев), установив здесь лоток для продажи фунтиков с птичьим кормом, по полпенни за штуку. Покончив с пирожными, Конфетка и Каролина покупают с лотка по фунтику, дабы развлечься, каждая, наблюдением за подругой, окруженной сонмищем птиц.
Идея принадлежит Каролине; потоки клерков иссякают, поглощаемые посольствами, банками и конторами; да как бы там ни было, они ей уже и наскучили. (Прежде чем покинуть стезю добродетели, Каролина могла часами зачарованно вглядываться в вышивку или в сонно помаргивающего ребенка; ныне ей едва-едва удается сосредоточиться и на оргазме – оговоримся: не ее собственном, – когда таковой разражается в одном из отверстий ее тела.)
А Конфетка, что может позабавить ее? На Каролину она смотрит с благодушной улыбкой матери, не способной вполне поверить тому, какие пустяки тешат ее дитя, но ведь мать-то из них двоих – Каролина, а Конфетка – совсем еще юная женщина. И если кормление стаи дурно воспитанных старых птиц не доставляет ей удовольствия, то чем же оное доставляется? О, для того, чтобы это узнать, вам придется заглянуть в такие ее глубины, до каких никто еще не добирался.
Вот на вопросы попроще я вам ответить смогу. Сколько Конфетке лет? Девятнадцать. Давно ли она состоит в проститутках? Шестой год. Проделав арифметические выкладки, вы получите результат, способный лишить вас душевного равновесия, особенно если вы вспомните о том, что девушки вашего времени созревают обычно годам к пятнадцати-шестнадцати. Да, но ведь Конфетка всегда была существом, развитым не по годам – и удивительным. Даже в ту пору, когда она только еще осваивала азы своего ремесла, Конфетка бросалась на фоне мерзости Сент-Джайлса в глаза – отчужденная, серьезная девочка посреди разлива грубого гогота и пьяного панибратства.
«Странная она какая-то, эта Конфетка, – говорили ее товарки-блудницы. – Далеко пойдет». Так и случилось. Она одолела путь, ведущий на Силвер-стрит, а это, в сравнении с Черч-лейн, рай. И все же, воображая ее фланирующей под парасолем по Променаду, они ошибаются. Почти все время Конфетка проводит в четырех стенах, одна, запершись в своей комнате. Других проституток Силвер-стрит, работающих в соседних домах, ничтожная малость rendezvous[4], которую позволяет себе Конфетка, скандализирует: одно в день, а бывает, и ни одного. Что она о себе воображает? Поговаривают, будто она взяла с одного мужчины пять шиллингов, а с другого аж две гинеи. Что у нее на уме?
В одном сходятся все: привычки у этой девушки какие-то странные. Она проводит без сна ночи напролет, даже когда мужчину ей принимать не приходится, – и что она делает после того, как тушится свет, если не спит? Да и питается Конфетка не как все нормальные люди – кто-то видел однажды, как она ела сырой помидор. И всякий раз, поевши, она хватается за зубной порошок и прополаскивает рот прозрачной жидкостью, которую покупает бутылками. Румян Конфетка не употребляет, сохраняя жутковатую бледность щек, крепких напитков не пьет, ну разве что мужчина принудит ее к этому (да и тогда, если ей удается заставить такого мужчину повернуться к ней спиной, выплевывает то, что держит во рту, или выливает содержимое своего стакана в вазу). Что же она в таком случае пьет? Чай, какао, воду – да и те, судя по ее вечно шелушащимся губам, в количествах на редкость малых.
Странно? Если верить другим потаскушкам, вы еще и половины не слышали. Конфетка не только умеет читать и писать, ей и то и другое нравится. Она, быть может, и пользуется у богатых повес репутацией превосходной любовницы, однако репутацию эту и сравнить невозможно с известностью, приобретенной Конфеткой в среде коллег, которые называют ее «та, что все книжки перечитала». И речь, заметьте, идет не о двухпенсовых книжицах – о книгах толстых, в которых столько страниц, что даже самой умной из девушек Черч-лейн нечего и надеяться дочитать ее до конца. «Хочешь ослепнуть, твое дело», – не устают повторять Конфетке товарки, или: «Ты хоть изредка думаешь: ну, хватит с меня, эта книжка – последняя?» Однако Конфетке никогда и ничего не хватает. С тех пор как она перебралась в Вест-Энд, Конфетка пристрастилась проходить, пересекая Гайд-парк, мимо Серпантина в Найтсбридж и навещать там одно из двух георгианского пошиба строений, стоящих на Тревор-Сквер, – они, быть может, и смахивают на шикарные бордели, однако на деле в них расположены публичные библиотеки. Она еще и газеты с журналами покупает, даже те, в которых и картинок-то днем с огнем не сыскать, даже те, на которых значится: «Только для джентльменов».
Впрочем, главную статью ее расходов составляет одежда. Добротность нарядов Конфетки удивительна даже по меркам Вест-Энда, а уж в грязище Сент-Джайлса она представлялась попросту поразительной. Вместо того чтобы приобретать выброшенные кем-то старые тряпки из тех, что свисают с мясницких крюков вдоль Петтикоут-лейн, или сносные имитации модных ныне нарядов, предлагаемые пропыленными лавчонками Сохо, Конфетка откладывает шестипенсовик за шестипенсовиком, пока не обретает возможность позволить себе платье, создающее впечатление, будто его соорудил именно для нее наилучший из дамских портных. Такие иллюзии, даром что продаются они в больших магазинах, стоят недешево. Одни только названия тканей: левантийская фолисе, атласная velout[5], алжирская – и их цвета: люсин, гранатовый, дымчатый нефрит – экзотичны настолько, что у проституток, которым Конфетка о них рассказывает, стекленеют глаза. «Сколько хлопот, – заметила как-то одна из ее слушательниц, – и все ради тряпок, которые мужик сдирает с тебя на пять минут да еще и ногами топчет». Однако мужчины Конфетки задерживаются в ее комнате много дольше пяти минут. Некоторые сидят там часами, и, когда Конфетка выходит оттуда, выглядит она так, словно ее и вовсе не раздевали. Чем же она там занимается с ними?
«Разговариваю», – отвечает она тому, кто набирается смелости задать этот вопрос. Ответ лукавый, он хоть и дается с серьезной улыбкой, однако всей правды в себе не содержит. Выбрав мужчину, Конфетка покоряется ему во всем. Если ему только и требуется, что дыра между ее ног, он эту дыру получает, хотя сама Конфетка предпочитает другие отверстия, ротовое и ректальное – с ними и грязи меньше, и чувствуешь себя потом намного спокойнее. Хрипотца в ее голосе появилась после того, как ей, еще пятнадцатилетней, ткнул, не рассчитав своей силы, острием ножа в горло один из тех немногих мужчин, которых ей не удалось удовлетворить.
Но не одну лишь покорность и порочность предоставляет Конфетка в распоряжение мужчин. Покорность и порочность стоят недорого. Любая беззубая карга с охотой обслужит всеми известными способами того, кто даст ей пару пенни на джин. Конфетку же обращает в великую редкость иное – она делает все, на что готовы совсем уж отчаявшиеся уличные поблядушки, но делает это с улыбкой детской невинности. А в профессии ее нет драгоценности более редкостной, чем непорочного обличья девушка, которая, утопая против воли своей в пучине грязного разврата, восстает из нее пахнущей розами, с ласковыми, как у спаниеля, глазами и улыбкой, чистой, что твое отпущение грехов. Мужчины возвращаются к ней снова и снова, спрашивают ее по имени, уверенные, что ее похотливая приверженность к определенного рода пороку равна их собственной; а товаркам Конфетки, когда они видят этих простаков, остается лишь покачивать в завистливом восхищении головой.
Тех, кто ее недолюбливает, она старается очаровать. И в этом ей помогает причудливая память, хранящая едва ли не все, что когда-либо говорилось Конфетке. «Ну и как поживает в Австралии твоя сестра? – может она, к примеру, спросить у старой знакомой, с которой не виделась уже год. – Этот О’Салливан из Брисбена женился на ней или нет?» И глаза ее наполняются участием или чем-то столь схожим с участием, что и самая недоверчивая потаскушка чувствует себя тронутой.
Не менее полезной оказывается острая память Конфетки и в отношениях с мужчинами. Говорят, будто музыка способна смирять скотов свирепосердых, однако Конфетка нашла для усмирения скотообразных мужчин способ более действенный: она запоминает их суждения о тред-юнионах или о неоспоримом превосходстве черного нюхательного табака над коричневым. «Ну разумеется, я вас помню! – говорит Конфетка омерзительному мужлану, два года назад закрутившему ей соски с такой силой, что она едва сознание не потеряла от боли. – Вы тот джентльмен, который считает, что пожар на Тули-стрит устроили еврейские царисты!» Еще парочка подобных отрыжек памяти, и он уже готов превозносить ее до небес.
Жаль, по правде сказать, что мозг Конфетки достался не мужчине, но вынужден стыдливо ежиться, будучи затиснутым и умятым в изящную девичью головку. Какую пользу могла бы она принести Британской империи!
– Прошу пардона, леди!
Каролина с Конфеткой разворачиваются на каблуках и видят мужчину с треногой и фотографической камерой, практикующегося неподалеку от них в своем хобби. Выглядит он устрашающе: темные брови, совсем такая же, как у Троллопа, борода, тартановое пальто, – женщины отступают, решив, что он просит их очистить поле зрения его людоедского глаза на трех ногах.
– О нет, нет, леди, не-е-ет! – протестующе восклицает мужчина, когда они отходят в сторонку. – Почту за честь! Почту за честь запечатлеть ваш образ на веки вечные!
Женщины обмениваются взглядами и улыбками: это еще один фотограф-любитель, нисколько не отличающийся от прочих – истовый, точно спирит, и шальной, как мартовский кот. Перед ними человек, наделенный шармом, достаточным для того, чтобы приманить голубей в картинку, которую нарисовало его воображение, – а если нет, так достаточно тороватый, чтобы купить удачливому прохожему на полпенни птичьего корма. А у этих женщин уже и собственный корм имеется – чего же лучше!
– Премного обязан вам, леди! Если бы вы могли еще встать чуть подальше одна от другой!..
Они хихикают, поеживаются, и к ним отовсюду начинают слетаться голуби, опускаясь на их шляпки, поклевывая протянутые ладони, садясь на плечи – и повсюду, где рассыпано семя. Несмотря на вихрь движения, происходящего в такой близи от их глаз, они изо всех сил стараются не моргать, надеясь, что решающий миг застанет их в должном виде.
Голова фотографа ходит под большим платком взад-вперед, всетело его напрягается, а затем облегченно вздрагивает. В утробе камеры рождается химический образ Конфетки и Каролины.
– Тысяча благодарностей, леди, – произносит он, и женщины понимают, что это прощание: не до новой встречи, но навсегда. Он получил от них то, что хотел.
– Ты слышала, как он сказал? – спрашивает Каролина, пока они смотрят вслед фотографу, уносящему свою добычу к Чаринг-Кросс. – На веки вечные. Навсегда. Но ведь этого быть не может, правда?
– Не знаю, – задумчиво отвечает Конфетка. – Я побывала однажды в студии фотографа и стояла с ним рядом в темной комнате, пока он проявлял пластинки.
На самом деле она помнит, что затаила под красным светом дыхание, наблюдая, как в неглубокой, заполненной химикатами купели проступают изображения – подобно стигматам, подобно призракам. Она бы и рассказала об этом Каролине, но понимает, что ей придется объяснять каждое слово.
– Они рождаются в ванночке, – говорит Конфетка, – и знаешь что: они ужасно воняют. Я уверена: то, что так сильно воняет, навек сохраниться не может.
Однако лоб ее идет под челкой морщинами, свидетельствуя: ни в чем она не уверена.
Она загадывает – сохранятся ли ее сделанные в том салоне снимки на веки вечные – и говорит себе: лучше бы не сохранились. В то время Конфетка, пока шла работа, никаких опасений не питала – позировала голышом перед растениями в кадках; в одних чулках перед задернутым пологом кровати; сидя по пояс в бадье с теплой водой. Ей даже притрагиваться ни к чему не пришлось! Однако после стала жалеть о случившемся – с тех пор, как один из ее гостей достал из кармана захватанную фотографию голой нескладной девицы и потребовал, чтобы Конфетка приняла такую же, как у той, позу и с точно такой же щеткой для ногтей, предусмотрительно принесенной им с собой. Тогда-то она и поняла, сколь неизменна Конфетка, или Лотти, или Люси – да кто угодно, – запертая в квадратике картона, который разглядывают люди ей совершенно чужие. Какому бы насилию день за днем ни подвергалась Конфетка в уединенности своей спальни, оно заканчивалось и не оставляло следа, и ко времени, когда на коже ее подсыхала испарина, Конфетка уже наполовину забывала о нем. А вот оказаться запечатленной химическим способом во времени и вечно переходить из рук в руки – такой наготы не прикроешь уже никогда.
Если бы я показала вам фотографии Конфетки (да-да, некоторые из них сохранились), вы, верно, подумали бы, что тревожиться ей было не о чем. О, но они же очаровательны, сказали бы вы, – безобидные, своеобразные и даже полные странного благородства! Всего столетие с небольшим – или, скажем, одиннадцать дюжин лет, – и они оказались пригодными для воспроизведения где бы то ни было, и никто не сочтет их способными развратить или прогневать впечатлительного созерцателя. Великий уравнитель безобразий прошлого – большого формата альбом – мог бы даже наделить их художественным ореолом. «Неизвестная проститутка, год 1875» – значилось бы в этом альбоме; куда уж анонимнее? Однако вы не уловили бы самую суть стыда, который гложет Конфетку.
– Только представь, – говорит Каролина. – Ты помрешь, а твоя картинка лет еще сто протянет. И если бы я скорчила рожу, то и рожа протянула бы… Просто дрожь пробирает, правда.
Конфетка отсутствующе поглаживает свой сверток, размышляя, как бы ей направить разговор в русло не столь нечистое. Она смотрит через площадь на здание Национальной галереи, и мучительные воспоминания о мужчине со щеткой для ногтей понемногу выветриваются.
– А как же живописные портреты? – спрашивает она, вспомнив о преувеличенном обожании, с которым Каролина относится к студенту-живописцу, однажды расплатившемуся с ней рисунком, изображавшим долины Йоркшира, – так, во всяком случае, уверял студент. – От них тебя дрожь не пробирает?
– Это совсем другое, – отвечает Каролина. – Там же… ну ты понимаешь… короли и всякие такие люди.
Конфетка издает смешок – репертуар их у нее энциклопедический, этот проказливо язвителен:
– А портрет Китти Белл – помнишь, его написал втюрившийся в нее старый козел из Королевской академии? Портрет даже на выставке висел, мы с Китти ходили смотреть. «Цветочница» – так он назывался.
– О да, ты права – эта шлюшка.
Конфетка напучивает губы:
– Завидуешь. Ты вот вообрази, Каролина: художник умоляет позволить ему запечатлеть тебя на холсте. Ты смирно сидишь, он трудится, а под конец дарит тебе портрет, написанный маслом, похожий… похожий на твое отражение, которое ты видела в зеркале в ту пору жизни, когда была еще прехорошенькой.
Каролина вылизывает изнутри картонный стаканчик, она наполовину соблазнена картиной, которую развернула перед ее умственным взором Конфетка, наполовину подозревает, что та над нею посмеивается. Однако шутки в сторону, Конфетка искренне верит, что с Каролины можно написать прекрасный портрет: маленькое, хорошенькое личико и ладное тело старшей подруги куда более живописно – в классическом понимании, – чем собственное ее костлявое туловище. Она представляет себе выпирающие из ночной сорочки плечи Каролины – гладкие, безупречные, персиковые – и сопоставляет это розовое видение со своим бледным торсом, ключицы которого торчат над веснушчатой грудью подобно ручкам рашпера. Конечно, моды семидесятых клонятся к большему сильфидоподобию, однако мода и укоренившееся в женской душе представление о женственности – это ведь не всегда одно и то же. Да любой магазин гравюр забит разного рода «Каролинами» до самых стропил, а лицо ее красуется повсюду, начиная с оберток мыла и кончая каменными изваяниями на общественных зданиях, – это ли не доказательство близости Каролины к идеалу? Конфетка именно так и считает. О да, она читала о прерафаэлитах, но и не более того; Конфетка не отличила бы Берн-Джонса от Россетти, даже лежа под ними. (Впрочем, такая встреча статистически маловероятна – все-таки два живописца на двести тысяч проституток.)
Когда Каролина отнимает от лица картонный стаканчик, на подбородке ее остается пятнышко крема. Посмаковав фантазии о себе, как о музе художника, и о том, как она с презрением откажется от денег ради вящей славы своего живописного образа, Каролина решает все же, что ее на это не купишь.
– Нет уж, спасибочки, – говорит она тоном женщины, которую не так-то просто обвести вокруг пальца, – я накрепко заучила одно: не лезь в игры, которых не понимаешь, иначе ахнуть не успеешь, а тебя уже обдерут как липку.
Конфетка бросает на землю смятую картонку, стряхивает с юбки крошки и птичий корм. «Ну что, пойдем?» – говорит она и, протянув руку к лицу Каролины, ласково снимает с ее подбородка капельку крема. Каролина, напуганная этой неожиданной интимностью – да еще и в нерабочее время, – слегка отстраняется от Конфетки.
Уже половина девятого. Бал гробовщиков завершился, уличная толпа вновь поредела. Сначала рабыни мелких мастерских, безработные, фабричные мастеровые, затем клерки: город глотает армии тружеников и все-то ему мало. Целый день в него со всех концов Англии да и со всего белого света прибывают новые и новые люди. А ночью Темза поглощает тех, кто никому не пригодился.
Каролина зевает, показывая среди белых зубов один почерневший, и Конфетка зевает тоже, скромно прикрыв рот ладонью в перчатке.
– Господи, завалиться бы сейчас в постель да продрыхнуться всласть, – произносит женщина постарше.
– Я бы тоже не отказалась, – соглашается Конфетка.
– А то вскочила нынче ни свет ни заря. На Черч-лейн кеб разбился, так от него до моего окна было как… – (она указывает на короля Георга), – как до той статуи.
– Кто-нибудь пострадал?
– Да, вроде женщина погибла. Полицейские унесли тело, в юбках.
Конфетка задумывается, не повеселить ли Каролину картиной, рожденной ее корявой грамматикой: шествием серьезных усатых полисменов в шинелях, из-под которых с шуршанием спадают на землю красивые юбки. Но вместо этого спрашивает:
– Кто-нибудь из знакомых?
Каролина глупо помаргивает. Такая мысль ей в голову не приходила.
– Господи, я и не знаю! А вдруг это… – Лицо ее морщится, она прикидывает, не могла ли в столь ранний час оказаться на улице одна из ее подруг-проституток. – Пойду-ка я лучше домой.
– И я, – говорит Конфетка. – Иначе дом миссис Кастауэй может лишиться своей репутации.
И она улыбается – улыбкой, которая выше понимания таких, как Каролина.
Женщины наскоро, как они делают при всяком расставании, обнимаются, и Каролина в который раз дивится тому, насколько Конфетка неловка и нескладна; каким неуклюжим и жестким выглядит в объятиях подруги ее тело, столь прославленное гибкостью, которую обретает оно в руках мужчины. Тяжелый бумажный сверток, который Конфетка держит за шпагат, ударяет Каролину по бедру – так крепко, точно в нем скрыто полено.
– Заходи как-нибудь повидаться со мной, – говорит, разомкнув объятия, Каролина.
– Зайду, – обещает Конфетка, и на лице ее наконец-то проступает румянец.
За кем вам идти? Не за Каролиной; она нужна была лишь для того, чтобы привести вас сюда, да и что вы будете делать в ее убогой норе? Оставайтесь с Конфеткой. Не пожалеете.
Она не тратит времени на то, чтобы проводить Каролину взглядом, но спешит покинуть площадь. И торопливо – так, точно по пятам за ней следует банда душителей, – направляется к Хэймаркет.
– Эй, мисси, со мной побыстрее будет! – окликает ее с одной из гостиничных стоянок кебмен, и резкость его голоса ясно дает понять, что он видит Конфетку вместе с изысканным ее нарядом насквозь.
– Можете и на жеребце моем прокатиться! – вопит он вслед не обратившей на него внимания женщине. Прочие скучающие на стоянке извозчики разражаются радостным гоготом, и даже лошади их всхрапывают.
Конфетка быстро идет по тротуару, лицо ее бесстрастно, спина пряма. Попадающиеся ей на улице люди для нее словно и не существуют. Мужчины, бьющие баклуши на ступенях дешевой кофейни, отступают при ее приближении, чтобы не получить по коленям свисающим из ее кулака свертком. Расклейщик афиш придвигает свое ведерко поближе к тумбе, на которую он лепит плакат, дабы Конфетка ударом ноги не расплескала клей по камням мостовой. Недальновидный господин – только-только, если судить по его брюкам и шляпе, прибывший сюда из Америки – окидывает ее оценивающим взглядом с головы до спешащих ног; простодушие его не переживет нынешнего вечера, когда на Хэймаркет слетятся стаями шлюхи, которые станут окликать его через каждые десять шагов.
– Прошу прощения, мэм, – бурчит он проходящей мимо Конфетке.
Она поднимается по Грейт-Виндмилл-стрит, минует Святого Петра, на ступени которого в час более поздний сойдутся самые лучшие из маленьких проституток города, минует «Аргайлл-Румз», где в этот час пьяно похрапывают, сплетясь с облитыми шампанским, задремавшими девками, сливки мужской аристократии. Конфетка безошибочно сворачивает на нужных углах, прорезает проулки, пересекает оживленные улицы, почти не глядя по сторонам, точно кошка, в чьем невеликом мозгу созревает некая мысль.
Она не останавливается, пока не достигает Голден-Сквер, с которой уже различаются и дымящие на крыше дома миссис Кастауэй каминные трубы, и сонное движение по Силвер-стрит. И теперь, когда ей остается пройти лишь несколько ярдов, она обнаруживает, что не в силах заставить себя сделать последние шаги и постучаться в дверь своего дома. Она обливается потом под своими зелеными шелками – не от одной только спешки, но и от вновь обуявшего ее страдания. И, прижав сверток к груди, разворачивается на каблуках и бредет к Риджент-стрит, на которой нет у нее никакого дела.
На каменных ступенях церкви Успения Богородицы, что на Уорик-стрит, лежит, свернувшись клубочком под светло-желтым, поблескивающим от талого инея одеялом, дитя невнятного пола. В бледном свете солнца сопли на детских губах светятся, точно сырой желток, и Конфетка, передернувшись, отводит взгляд в сторону. Живое или мертвое, дитя это обречено: никого в нашем мире спасти невозможно, только себя самого; Бог забавляется, скупо наделяя пищей, теплом и любовью несколько сот человеческих существ, окруженных со всех сторон теснящимися, спотыкающимися миллионами. Один хлеб и одна рыба на пять тысяч сирых и убогих – такова Его самая потешная шуточка.
Конфетка уже переходит улицу, когда ее останавливает голос – слабое, задышливое мычание, звуки, которые могут быть бессловесной бессмыслицей, могут означать «монетка», а могут и «мамочка». Она оборачивается и видит ребенка, живого, проснувшегося, машущего ей ручонкой из своих грязных шерстяных свивальников. Мрачный фасад церкви, ее красного кирпича стены без окон внизу и глазки темной запертой двери гордятся своей неприступностью для враждебных по отношению к католикам смутьянов и детей-побирушек.
Конфетка в нерешительности останавливается, покачивается на каблуках, чувствуя, как пот, скопившийся в ее башмачках, покалывает, едва ли не закипая, кожу между пальцами ног. Решив идти вперед, она уже не может повернуть назад, она перешла улицу и пересекать ее снова, чтобы вернуться, не станет. Да к тому же это и безнадежно: она может каждый день ложиться под сотню мужчин и отдавать все заработанное нищим детям и ничего этим всерьез не изменит.
И наконец, когда сердце Конфетки уже начинает тяжко бухать в груди, она достает из ридикюля монетку и бросает ее через улицу. Прицел Конфетки точен – шиллинг падает на светло-желтое одеяло. Она отворачивается, так и не разобравшись в поле ребенка; да пол его и не важен, через день, неделю, месяц это дитя все равно уволокут отсюда и навсегда забудут – точно помои, выплеснутые в сточную канаву. Да проклянет Господь и Господа, и все немыслимо грязное творение Его.
Конфетка шагает дальше, не отрывая взгляда от пышной Риджент-стрит, мерцающей в ее уже мучимых резью глазах. Ей нужно поспать. И – да, сказать по правде, если вам действительно хочется знать, Конфетка страдает, страдает так сильно, что с радостью умерла бы – или убила кого-нибудь. Сгодится и то и другое. Лишь бы разрешающий все удар избавил ее от муки.
Муку ее породила вовсе не встреча с Каролиной. Каролина, как вы уже знаете, женщина, не стоящая внимания, она никаких вопросов не задает.
Нет, Конфетку непереносимо терзает другое: весь вчерашний день и всю ночь ей пришлось подделывать терпеливость и доброту, сидя в зловонных трущобах Семи Углов у постели умиравшей подруги по имени Элизабет. И как же долго она умирала, цепляясь все это время за руку Конфетки! Сколько часов продержала Конфетка в своей ладони ее – липкую, холодную, похожую на клешню! Сейчас, при одной лишь мысли об этом, ладони Конфетки обливаются едким потом, так что их начинает язвить даже припудренная подкладка перчаток.
Впрочем, у падших женщин имеются свои преимущества, и одним из них Конфетка решает воспользоваться сию же минуту. Правила, соответственно коим вы одеваетесь, перед тем как выйти на люди, недвусмысленны – для тех, разумеется, кому они известны, – мужчины могут носить перчатки, а могут и не носить, это уж как им заблагорассудится; женщинам нуждающимся, одетым в отрепье, носить перчатки не следует (даже и мысль об этом смешна!), иначе первый же встречный полисмен наверняка поинтересуется происхождением оных; порядочным женщинам низших сословий, особенно если у них на руках младенец, отсутствие перчаток простительно; а вот леди обязаны носить их непрестанно, снимая, лишь когда они, леди, укрываются в четырех стенах. Конфетка одета как леди, а значит, ей ни при каких обстоятельствах не дозволено демонстрировать окружающим свои нагие конечности.
И тем не менее Конфетка, не сбавляя шага, палец за пальцем стягивает с рук мягкую зеленую кожу. Потные белые ладони ее поблескивают под солнцем. С глубоким вздохом облегчения, неотличимым от того, какой она испускает, когда мужчина заканчивает делать с ней все то, на что он способен, Конфетка сгибает и разгибает овеваемые холодным воздухом, покрытые паутиной трещинок, шелушащиеся пальцы.
Теперь ступайте за ней в распахнутое пространство, в грандиозную пустоту Риджент-стрит – полюбуйтесь высокими сотами роскошных, уходящих в архитектурную беспредельность зданий, тысячами одинаковых окон, возносящихся ярус за ярусом вверх; лоснистым простором улицы, с которой сметен снег; все это – декларация о намерениях: торжественное извещение о том, что в наступающем светлом будущем места наподобие Сент-Джайлса и Сохо с их тесными лабиринтами, покосившимися развалюхами, с отсырелыми, ветшающими закоулками, загаженными человеческими отбросами, будут снесены, и на смену им придет новый Лондон, совершенно такой же, как Риджент-стрит, – полный воздуха, красивый и чистый.
В этот утренний час Променад уже деловито бурлит – здесь нет пока безумной толчеи летнего Сезона, но и того, что есть, достаточно, чтобы произвести на вас впечатление. Кебы снуют взад и вперед; увертываясь от них, перебегают улицу густобородые, одетые в черное джентльмены; люди, с которых свисают сзади и спереди рекламные щиты, патрулируют сточные желоба; трое уличных метельщиков, стоя над решеткой канализации, ударами метел вбивают в нее кашицу из мокрого снега, грязи и конского навоза. И пока они занимаются этим, мимо них со звоном промахивает большой, ощетинившийся провинциальными предпринимателями экипаж, оставляя за собой окутанную парком вереницу свежего конского навоза.
Возница натягивает вожжи, омнибус останавливается, из него выгружается дюжина пассажиров. Один из них, благопристойно одетый мужчина, в неподобающей спешке едва не вступает в свежий навоз, в самый последний миг отпрыгивая назад, точно уличный клоун, потешающий на Семи Углах ржущих зевак. Обуздав свою торопливость, он сдергивает шляпу и дальше следует брезгливо-опасливой поступью. Явленная ныне окружающим шевелюра этого джентльмена замечательна своим устройством, а вернее сказать, неустройством. Ежели вы пройдетесь взглядом от чела его вниз, то увидите человека серьезного, несколько даже озабоченного, словно он опаздывает на службу и страшится реприманда, а вот пройдясь тем же взглядом вверх, вы получите картину на редкость комичную: попрыгивающий шлем витых золотистых локонов – как будто некий пушистый зверек пал ему на голову с небес и решил любой ценой на ней удержаться.
Конфетка улыбается, довольная тем, что наконец-то на глаза ей попалось нечто забавное, потом снова прижимает сверток к груди и неторопливо идет по Променаду. Еще несколько минут – здесь, на мощеном берегу лондонского завтра, – и она готова будет возвратиться домой.
Теперь оставьте ее, пусть погуляет одна, никому в этих местах не известная. Она уже забыла о джентльмене со смешной прической, да ведь и вы приняли его всего лишь за очередного прохожего, за цветовое пятно местного колорита, отвлекшее вас от поиска тех, ради кого вы сюда явились. Ну так вот, довольно мечтать, перейдите, уклоняясь от экипажей и обходя навозные кучи, поблескивающий Рубикон Риджент-стрит и отыщите этого смахивающего на клоуна мужчину.
И ни в коем случае не позволяйте ему раствориться в толпе, ибо он – человек для вас очень важный, именно он заведет вас так далеко, что вы себе этого и представить не можете.
Глава третья
Уильям Рэкхэм, обреченный на то, чтобы возглавить в будущем «Парфюмерное дело Рэкхэма», но в настоящее время надежды, на него возлагаемые, оправдывающий не вполне, уверен в том, что ему позарез нужна новая шляпа. Потому-то он так и спешит.
Потому-то и вам лучше перестать глазеть на легко покачивающийся турнюр уходящей Конфетки, на ее острые лопатки, осиную талию и пряди чуть колышущихся под шляпкой оранжевых волос и поспешить нагнать Уильяма Рэкхэма.
Вы колеблетесь. Конфетка идет домой, в притон разврата, носящий странноватое имя «Дом миссис Кастауэй». А вы не прочь заглянуть в подобное место, ведь так? Зачем упускать ради преследования этого незнакомца… этого мужчины то, что там того и гляди произойдет? Оно конечно, копна его золотистых волос выглядит комично, однако в прочем он нисколько не привлекателен – особенно в сравнении с женщиной, которую вы только что узнали.
Да, но Уильям Рэкхэм обречен на то, чтобы возглавить в будущем «Парфюмерное дело Рэкхэма». «Парфюмерное дело Рэкхэма»! Если вы хотите чего-то добиться в жизни, вам не следует мешкать в обществе шлюх. Вам должно сыскать в себе силы, потребные для того, чтобы проникнуться жгучим желанием выяснить, отчего это Уильям Рэкхэм уверен в том, что ему позарез нужна новая шляпа. И вот тут я вам помогу, чем только смогу.
Старую шляпу он держит, шагая по тротуару, в руке, ибо Уильям Рэкхэм скорее выйдет простоволосым в мир украшенных шляпами мужчин, чем еще раз наденет ее хоть на минуту, – столь стыдится он немодной ее высоковатости и потертых полей. Разумеется, водружает он эту шляпу на голову или не водружает, люди посматривают на него с жалостью, как посматривали в омнибусе… неужели они мнят, будто он не замечает их самодовольных ухмылок? О боже! Возможно ли, что он пал так низко? Жизнь вступила в заговор с… но нет, он не вправе предъявлять обвинения столь всеохватные… Довольно сказать, что недоброжелательные элементы Жизни стакнулись против него, а он покамест не усматривает отчетливого пути к победе над ними.
Впрочем, в конечном счете он восторжествует; должен восторжествовать, поскольку его благополучие, верит Уильям, существенно для порядка вещей в целом. Не то чтобы он так уж заслужил благополучия большего, нежели у иных людей, нет. Правильнее сказать, что его участь есть своего рода… своего рода стержень, на коем держится очень многое, и если ему суждено пасть под ударами невзгод, вместе с ним падет нечто гораздо большее, а Жизнь на подобный риск, разумеется, не пойдет.
Уильям Рэкхэм приехал…
(Вы меня еще слушаете?)
Уильям Рэкхэм приехал в город потому, что знает – Риджент-стрит поможет ему положить, посредством приобретения новой шляпы, конец унижениям. Отсюда не следует, будто он не мог бы купить шляпу нисколько не худшую в магазине «Уайтлиз», что в Бейсуотере, и сэкономить тем самым на поездке, однако у него имеется и потаенная причина для того, чтобы приехать сюда, или даже две. Во-первых, для него нежелательно показываться в «Уайтлиз», о котором во время изысканных званых обедов, на кои он неизменно получает приглашения, многие с пренебрежением отзываются как о заведении безнадежно вульгарном. (Тот магазин, в который направляется Рэкхэм, тоже, конечно, вульгарен, но, по крайности, там он не встретит никого из знакомых.) А во-вторых, он хочет проследить за Кларой, личной горничной его супруги.
Почему? О, все это весьма неприятно и сложно. Совсем недавно, заставив себя подсчитать, сколько денег уходит у него на домашние расходы, Уильям Рэкхэм пришел к выводу, что слуги его обкрадывают, – и дело идет не просто о какой-нибудь старой свече или ломтике бекона, нет, крадут они с размахом попросту возмутительным. Не приходится сомневаться – слуги пользуются болезнью жены и его нерасположением вникать в свои финансовые затруднения, однако они дьявольски ошибаются, полагая, будто он ничего не замечает. Дьявольски!
И потому, вчера под вечер, едва жена закончила растолковывать Кларе, что ей следует купить завтрашним утром в Лондоне, Уильям (который подслушивал под дверью) словно бы учуял запашок корыстолюбия. Он следил за спускавшейся по лестнице Кларой, всматривался в нее сверху, с темной площадки, и думал, что почти видит, как в коренастом теле ее бурлят помыслы о присвоении хозяйских денег, бурлят, едва ли не перекипая.
– Я готова доверить Кларе жизнь, – запротестовала, впадая в характерное для нее преувеличение, Агнес, когда он с глазу на глаз поведал ей о своих подозрениях.
– Быть может, и так, – ответил он. – Однако деньги мои я доверять ей не стану.
Последовало неловкое мгновение; Агнес почти неприметно покривилась, искушаемая желанием сказать мужу, что деньги эти принадлежат не ему, а отцу его и что, если бы он исполнял пожелания отца, денег у них было бы много больше. Впрочем, приличия она все-таки соблюла, и тронутый этим Уильям вознаградил ее компромиссом. Пусть Клара и вправду займется покупками, а он, Уильям, по чистой «случайности» отправится в город вместе с ней.
Вот так и получилось, что хозяин дома и горничная его супруги вместе выехали из Ноттинг-Хилла омнибусом: о кебе «не могло идти и речи» – не потому (Рэкхэм надеялся, что слуги его поймут), что он уже не мог позволить себе кеба, но во избежание сплетен.
Пустая надежда. Слуги, натурально, уверовали и в то, что Клара встречается с хозяином, и уж тем паче в то, что он утрачивает положение в обществе. (Клара заметила также, до чего изношена и немодна его шляпа – собственно, только она и заметила, ибо всех светских знакомых своих Рэкхэм стыдливо сторонился.) Каждая перемена заведенного в доме порядка, даже самая пустячная, каждое требование касательно бережливости, сколь бы разумным оно ни было, Кларою истолковывались как новое доказательство того, что отец Уильяма Рэкхэма того и гляди раздавит его, точно слизняка, сапогом.
Она упивалась его унижением, и ей даже в голову не приходило, что если хозяин не выкрутится из затруднительного положения, то в конце концов вынужден будет отказаться и от ее услуг: проницательность Клары была направлена на иное. Она отметила, к примеру, трусливое прекращение разговоров о собственном выезде, шедших годами, но так ни во что и не вылившихся. В последнее время хозяева, видимо, пришли к безмолвному соглашению, в силу которого больше об этом баснословном явлении не упоминали. Но Клара-то помнила все! А Тилли, прибиравшаяся на нижнем этаже? Ее, уволенную, когда она забеременела, так никем и не заменили, и в результате Джейни приходится делать намного больше того, что обычно ожидается от судомойки. Рэкхэм твердит, будто это лишь временно, однако проходят месяцы и ничто не меняется. Конечно, найти для леди хорошую личную горничную вроде Клары дело нелегкое, но уж уборщиц-то на свете что твоих крыс. Рэкхэм, пожелай он раскошелиться, и часа на поиски ее не потратил бы.
В общем и целом положение сложилось попросту позорное, и Клара пользовалась им, как только могла, а именно: выражала недовольство всеми, какие ей удавалось придумать, способами, граничившими с отъявленной дерзостью.
Именно поэтому в омнибусе, на всем пути в Лондон, она хранила на лице страдальческое выражение, коего ничтожный Рэкхэм даже и не замечал, пока экипаж их не проехал под Мраморной Аркой. А заметив, решил, что служанку донимает некая боль, и подумал: быть может, все представительницы слабого пола чем-нибудь да больны.
«Быть может, – попытался он утешить себя, – моя бедная, недужная Агнес не такое уж и исключение из общего правила».
Уильям намеренно выехал в город пораньше, дабы оставить побольше времени на изучение – когда он вернется домой – давно отложенных в долгий ящик документов, трактующих об успехах «Парфюмерного дела Рэкхэма», и своих счетов. (Или, по крайности, на извлечение таковых из конвертов, в которых они присылались отцом.) И тогда завтра (возможно) он посетит лавандовую ферму – хотя бы ради того, чтобы его там увидели и чтобы известие об этом событии дошло до ушей старика. Вероятно, ему стоило бы также задать работникам фермы несколько толковых вопросов, – если, конечно, он сумеет таковые измыслить. Чтение документов в этом, несомненно, поможет – при условии, что оно не сведет его раньше с ума.
Желтый дом или дом призрения: и это весь выбор, какой у него остался? Неужели нет для него иного пути, как только… притворствовать перед собственным отцом, изображать горячечную увлеченность тем, что он ненавидит? И как, во имя всего… Впрочем, не следует мысленно останавливаться на последствиях еще более сложных, не следует вдаваться в крайности, в это проклятие высокого ума. Нужды дня надлежит разрешать по одной. Купить новую шляпу. Приглядеть за Кларой. Вернуться домой и приступить к изучению деловых бумаг.
Уильям Рэкхэм вовсе не думает, что сможет освоить семейное дело всего за один день, нет, – да у него и цели куда более скромные. Если он проявит к делу хоть малый, но интерес, отец, глядишь, и увеличит немного его содержание. Да и сколько времени может отнять чтение нескольких документов? Уж наверное, половины дня для этого хватит. Хотя, конечно, как указал он когда-то в статье, напечатанной студенческим журналом Кембриджа, «и один только день, потраченный на дела, неспособные напитать душу, есть день украденный, изувеченный и брошенный в сточную канаву судьбы». Впрочем, кембриджская жизнь вечно длиться не может, о чем свидетельствует и нынешняя стрижка Уильяма Рэкхэма. Даром, что ему удалось продлить эту жизнь на несколько добавочных лет.
Вот так, легкомысленный, помаргивающий от яркого солнца, поспешает Уильям по Променаду на еще онемелых после долгой поездки ногах. Пообок от него покачивается стиснутая гантированными пальцами ненавистная шляпа; в нескольких ярдах впереди вышагивает ненавидимая служанка; а сразу за ним следует его тень. Не обинуйтесь теперь и тоже последуйте за ним на расстоянии этой тени, ибо он одержим решимостью никогда не оглядываться назад.
Там, впереди, возвышается озаренное изнутри тысячами ламп здание, в котором Уильям положит конец всем своим горестям. Приобретение новой шляпы займет не более часа с лишком, Кларе же, если она желает себе добра, лучше потратить на исполнение данных ей поручений и того меньше времени. Войти, получить потребное и выйти, так это будет выглядеть. А в полдень – домой.
Огромный застекленный фронтон универсального магазина «Биллингтон-энд-Джой», не заслоненный толпой, сквозь которую Уильям Рэкхэм проталкивался с Агнес при последнем своем появлении здесь, открывается его взгляду во всей своей панорамической красе. Десятки зеркальных окон, огромных в сравнении со скромными витринками большинства магазинов, знаменуют его размах и современность. В каждом устроена своя, особая витрина, предлагающая публике полюбоваться (не призывая купить что-либо) обилием товаров. Товары эти искусно размещены на фоне trompe-l’oeils[6], изображающих обстановку комнат тех фешенебельных домов, для коих они предназначены. Как раз в эту минуту Клара проходит мимо выставленной напоказ столовой – толстое листовое стекло отделяет ее от пышного убранства стола с его серебряными приборами, фарфором и наполненными вином бокалами. За столом, на живописном заднике убедительно рдеет почти натуральным пламенем камин, а пообок торчат из прорези в настоящей портьере две фарфоровые руки в белых манжетах поверх намека на черные рукава, удерживающие высоко в воздухе блюдо с изготовленным из папье-маше жарким.
Витрины эти столь импозантны и притягательны, что спешащий Уильям едва не валится головой вперед. Из стены выступают на уровне щиколоток крюки для привязывания собак, и Уильям цепляется за один из них ногой – как раз в тот миг, когда Клара уже входит в огромные белые двери «Биллингтон-энд-Джой», держась, согласно указаниям Уильяма, несколько впереди него. Как бы она обрадовалась, увидев падение хозяина!
Оказавшись внутри магазина, Уильям пытается отыскать ее глазами, однако Клара уже затерялась в яркой стране зеркальных чудес. Здесь, куда ни глянь, – стекло, и хрусталь, и развешанные через равные промежутки зеркала, которые размножают галактику пылающих газовым светом канделябров и люстр. Да и то, что ни стеклом, ни хрусталем никак уж не назовешь, отполировано до присущего им блеска; сверкают полы, мерцают лакированные прилавки, и даже волосы служителей светятся от макассарского масла – ну и расточительное обилие продаваемого товара тоже отчасти ослепляет.
И заметьте, помимо множества вещей изысканных и таких, без которых обойтись невозможно, «Биллингтон-энд-Джой» торгует также магнитными щетками для волос, способными в пять минут избавить вас от нервической мигрени, гальваническими цепочками-браслетами для передачи живительных импульсов и глазурованными кружками, с коих на вас сердито взирает рельефное лицо Королевы, – однако и эти вещицы кажутся уже обретшими статус эксцентричных музейных экспонатов, выставленных здесь лишь для того, чтобы на них дивиться. И действительно, все вокруг настолько походит на выставку в Хрустальном дворце, подражанием коему и является этот магазин, что некоторых из заглянувших сюда людей пронимает благоговение, уничтожающее желание что-либо приобрести, – они попросту страшатся подпортить своей покупкой благолепный порядок товаров в витринах. А отсутствие бирок с ценами лишь усугубляет их робость, ибо вопросов эти несчастные задавать не решаются: а ну как выяснится, что все здесь им не по карману.
Поэтому продается здесь меньше того, что могло бы продаваться, но, однако ж, и разворовывается тоже меньше. Мелкой шпане и ворью Черч-лейн «Биллингтон-энд-Джой» представляется раем – то есть местом, предназначенным не для них и им подобных. Надежды пролезть в его огромные белые двери у них не больше, чем надежды пройти сквозь игольное ушко.
Что же до боя хрусталя и стекла, то и самым хрупким витринкам удается простаивать в целости и сохранности месяцы кряду, поскольку детей – даже из семейств с достатком – увидеть здесь случается редко, а если их сюда и приводят, то в крепкой узде. Кроме того – и это еще существеннее, – эволюция дамской моды привела к тому, что элегантные покупательницы могут теперь проходить через весь магазин, ничего по пути не порушив. И действительно, можно по чести сказать, что «Биллингтон-энд-Джой» да и иные заведения его пошиба расширялись, торжествуя кончину кринолинов. Современная женщина приобрела очертания, позволяющие ей тратиться без оглядки.
Прежде чем подняться по лестнице в шляпный отдел, Уильям еще раз оглядывает магазин в поисках Клары. Однако она, и опережавшая-то его от силы на десяток шагов, исчезла, точно нырнувшая в норку мышь. Единственное из увиденного им, что обладает с ней отдаленным сходством, это чучело служанки за витринной шторой, да и от того уцелели лишь две отделенные от тела, закрепленные на металлических стойках алебастровые руки, резко обрывающиеся у локтей.
Кларе поручено (и исполнить порученное она собирается, оставаясь, пока Уильям Рэкхэм выбирает себе новую шляпу, совершенной невидимкой) приобрести для хозяйки восемнадцать ярдов охряного шелка плюс необходимую отделку – все это будет преобразовано в платье, когда миссис Рэкхэм почувствует себя достаточно окрепшей, чтобы заняться выкройкой и шитьем на машинке. Задание это Кларе весьма и весьма по душе. Исполняя его, она не только испытывает трепетное предвкушение произносимого ею: «Ну-с, голубчик, мне нужно восемнадцать ярдов вот этого» – и уплаты очень немалых денег, но и не без изящества надувает хозяев, покупая вдобавок кое-что еще – предположительно, для своей госпожи. Вот в чем вся прелесть работы у Рэкхэмов: он платит, а желанья узнать, за что, не испытывает; она удовлетворяет свои нужды, но никакого понятия о том, во что это обходится, не имеет, и все их счета проваливаются в бездну, разделяющую двух супругов. А экономки-то у них и нет! И это главное удобство! Когда-то, давным-давно, экономка имелась – пузатая шотландка, к которой душа миссис Рэкхэм прилепилась на манер банного листа, – однако закончилось все слезами, а там и запретом, наложенным на любые разговоры об экономках.
«Ведь мы же способны прекрасно вести хозяйство и вдвоем с вами, не правда ли, Клара?» О да, мадам, еще как способны!
Клара уже решила вчера, обсуждая с миссис Рэкхэм покупку материала на платье («Цены в последнее время, мэм, – вы не поверите!»), прикупить кое-что и для себя. Фигуру, если уж вам так хочется знать.
Безвкусную служаночью униформу свою она ненавидит всей душой и слишком хорошо знает, что получит в ближайшее Рождество в точности тот же подарок, какой получала и во все прошлые. Каждый год все то же унижение! – семь ярдов черной, двойной ширины шерстяной ткани, два ярда льняного полотна и полосатая юбка. Именно то, что требуется для пошива новой униформы, – нет, вы только представьте. Чертов Уильям Рэкхэм с его прижимистостью – вот уж кто заслужил все, что с ним приключилось!
Весь год она надрывается, обращая свою госпожу в красавицу, ломая ногти о застежки ее корсетов, глупо ухмыляясь в поддельном любовании, и вот, прошло пять лет, а чего она этим достигла, чем может порадовать глаз? Тело ее раздалось в обхвате, обиды исчертили лицо морщинами. В ней нет ничего, способного заставить мужчину хоть раз, не говоря уже два, взглянуть на нее. Вернее, не было до нынешнего дня. Клара с трусливо бьющимся сердцем спешит возвратиться в корсетный отдел и там, укрывшись за занавеской, запихивает, не снимая обертки, незаконную покупку в свои просторные рейтузы.
Уильям, который отчасти из боязни подобного злодеяния и настоял на том, чтобы сопровождать нынче Клару, ничем, в сущности, предотвратить его не может. Он может лишь, не марая душу разговорами о деньгах, удостовериться в том, что Клара, как с нею и было условлено, выходит из магазина с одним большим свертком в руках. Совершенная ею покража, которую с легкостью обнаружили бы и безжалостно покарали в доме, устроенном на более строгих, чем у Рэкхэмов, началах, останется незамеченной.
Сколько ни докучает ему слабое здоровье жены, Уильям так до сих пор и не понял, насколько более неосведомленной о происходящем в мире становится Агнес с каждым месяцем ее затворничества. Ему, например, даже в голову не приходит, что она способна доверить служанке оценку восемнадцати ярдов ткани. Уильяму довольно и облегчения, которое он испытывает от того, что платьев жена себе больше не заказывает, поскольку в прошлом потворство ее прихотям обходилось ему в целое состояние, да еще и потраченное впустую, если вспомнить, как мало времени проводит Агнес вне своей постели.
По счастью, в этом Агнес с ним вроде бы согласна. Заменив своего портного механической игрушкой, она со всей возможной искусностью избегла светского бесчестья, избрав себе в оправдание тоскливость благородной бездеятельности. Томительную скуку выздоровления, говорит она, можно с приятностью развеять с помощью занятного изобретения наподобие швейной машинки (о том, что машинка позволяет еще и экономить на расходах, не упоминается). Как-никак женщина она современная, а машины есть часть современного ландшафта – так, во всяком случае, неустанно твердит отец Уильяма.
Конечно, она всего лишь храбрится, и Уильяму это известно. В самые сварливые свои минуты Агнес отнюдь не скрывает от него обиды на то, что ей пришлось отказаться от портнихи, или унижения, которое она испытывает, изображая благородную скуку, между тем как всякому ясно, что она просто-напросто вынуждена экономить на каждой безделице. Неужели ему так уж трудно совершить какой-нибудь пустяковый поступок, способный ублаготворить его отца – письмо послать или что-то еще, – малость, которая вернула бы им прежнее благополучие? У них наконец появился бы собственный выезд, а она смогла бы… о нет, одергивает ее Уильям. Рэкхэм-старший – вздорный старик, которому не удалось согнуть в дугу своего первенца, вот он теперь и отыгрывается на Уильяме. Агнес полагает себя страдалицей, но подумала ли она хотя бы раз, что приходится сносить ее мужу?
На это Агнес отвечает вымученной улыбкой и словами о том, что серебристый «Зингер» и вправду представляется ей занимательной новинкой, а потому она лучше снова вернется к нему.
Готовность Агнес экономить на платьях Уильяма радует, куда меньше радует его необходимость покупать новую шляпу в «Биллингтон-энд-Джой», да еще и платить за нее на месте, как за жареные каштаны или чистку обуви, – вместо того, чтобы выбрать ее у именитого шляпника и добавить расход к счетам, оплачиваемым в конце года. Господи, да любой великосветский джентльмен навещает своего шляпника каждые несколько дней, и лишь для того, чтобы тот отгладил ему шляпу, натянув ее на болванку! Как же он докатился до такого позора? Человек, столь богатый по праву рождения, должен терпеть нужду – терпеть нужду и что ни день срамиться по мелочам! Да разве полки «Биллингтон-энд-Джой» не заставлены духами, мылом и парфюмерией Рэкхэма? Разве имя Рэкхэма не лезет в глаза отовсюду? И тем не менее он, Уильям Рэкхэм, наследник состояния Рэкхэмов, должен переминаться с ноги на ногу у шляпных подпорок, ожидая, когда другие покупатели вернут на них шляпы, которые ему хочется примерить! Неужели Всесильный, или Божественная Первооснова, или что там уцелело после того, как Наука вырвалась из стойл Вселенной, не видит, что с ним не все ладно?
Впрочем, может, Оно и видит, но все равно попирает его.
Без четверти одиннадцать Уильям Рэкхэм и Клара ненадолго встречаются перед магазином, на улице. Клара прижимает к груди объемистый, похрустывающий сверток и передвигается с большей против обычного косностью. На голове Уильяма прочно сидит новая шляпа – старую отправили в некое потайное хранилище, место ссылки шляп, шляпок, зонтов, перчаток и тысяч иных осиротевших вещей. Куда они в конце концов отбывают оттуда? Быть может, в христианские миссии острова Борнео или в печь, раскаленную огнем? Но уж во всяком случае не на Черч-лейн, что в Сент-Джайлсе.
– Я вдруг вспомнил, – говорит Уильям, щурясь и вглядываясь в глаза служанки (ибо роста они совершенно равного), – что должен заняться одним срочным делом. В городе, то есть. Полагаю поэтому, что вам лучше вернуться назад одной.
– Как вам будет угодно, сэр.
Клара склоняет голову с достаточным смирением, однако Уильяму чудится, что он уловил в ее голосе нотку тайной насмешки, уверенности, что он лжет. (На этот-то раз Клара так вовсе не думает, она наслаждается мыслью о том, что в омнибусе, который доставит ее домой, ей не придется скрывать тайную свою покупку, которая льнет в этот миг к ее зудящим ягодицам.)
– Вы ведь его не потеряете, не так ли? – осведомляется Уильям, указывая на шелк, его щедрый дар Агнес.
– Нет, сэр, – заверяет хозяина Клара.
Вытащив из особого кармашка часы, Уильям делает вид, будто вглядывается в них, держа на раскрытой ладони, – но это лишь предлог, позволяющий отвести глаза от вызывающей у него раздражение наглой девки, которой он платит 21 фунт в год, дабы она составляла компанию его жене.
– Ну что же, ступайте, – говорит он, и Клара, ответив: «Да, сэр», уходит, перебирая ногами так, точно она с трудом удерживается от того, чтобы пукнуть. Однако Уильям этого не замечает. Собственно, уже под вечер этого же дня, увидев Клару, снующую по дому, щеголяя талией, коей она прежде не обладала, он не заметит и талии.
А ведь так было не всегда. В прошлом Уильям Рэкхэм принадлежал к числу людей, замечающих малые, даже мельчайшие изменения в чужих обличьях и нарядах. В лучшие его университетские годы он выглядел совершенным денди – трость с серебряной рукоятью и золотистые локоны до плеч. В ту пору для него не было ничего необычного в том, чтобы протоптаться полчаса перед цветочными вазами своей «берлоги», выбирая тот или этот цветок для той или иной бутоньерки; еще даже большее время мог он потратить на подбор шелкового шейного платка одной раскраски к жилету другой, а наилюбимейшие панталоны его были темно-синими в сиреневую клетку. В одном достопамятном случае он приказал портному переместить бутоньерку, дабы отбить у некоей недисциплинированной пуговицы охоту неприличным образом выставляться из-под пальто. «На четверть дюйма вправо, не больше, но и не меньше», – сказал он тогда, и ничто не спасло бы портного от выволочки, не сделай он этого.
В те дни Уильям гордился своей способностью указывать на огрехи в их нарядах тем немногим, кто обладал вкусом, достаточным для того, чтобы понять, о чем он толкует. Ныне оскудевшие средства обратили и самого Уильяма в скопище огрехов, слишком приметных для всех, даже для слуг.
Он не без нервности прикладывает ладонь к макушке, проверяя, все ли там в порядке. Да, все, однако причина для беспокойства у него имеется более чем основательная. Всего только час назад Уильям увидел в зеркале нечто настолько шокирующее, что оно и сейчас нейдет у него из головы. Впервые с того мгновения на Риджент-стрит, когда он сорвал с себя старую шляпу, Уильям заметил анархию, поразившую его скальп.
В стародавние времена волосы были предметом его первейшей гордости: во все детские годы они оставались мягкими, бронзово-золотистыми, ими любовались и тетушки Уильяма, и всякого рода встречные незнакомцы. Состоя в кембриджских студентах, он носил их длинными, по плечи, зачесывая назад без масла. Уильям был тогда худощав, и они, струившиеся, ниспадая, затушевывали грушевидность его головы. А кроме того, длинные волосы символизировали Шелли, Листа, Гарибальди, Бодлера, индивидуализм – много всякого.
А вот возникшее у него несколько дней назад стремление вновь обрести безликость, укоротив свои длинные локоны, привело к результатам поистине устрашающим. Сегодня он увидел в зеркале, что учинили его волосы в знак пренебрежения к безжалостной стрижке; они порвали путы державшего их приглаженными масла и встали дыбом, открыто взбунтовавшись против своего господина. Боже милостивый, сколько же людей видело его таким – клоуном со смехотворной короной из пучков спутанной соломы! Корчась от стыда, Уильям прямо там, в шляпном отделе «Биллингтон-энд-Джой», укрыл свой кудрявый нимб под первой же шляпой, до какой сумел дотянуться. Ее-то, несмотря на множество последующих пробных примерок, он в конце концов и купил.
С той минуты Уильям успел уже, добавив еще масла, расчесать этот нимб, придавив его к голове, однако смирились ли волосы с полученным ими уроком? Кончиками пальцев Уильям нервно притрагивается к волосам, разглаживает их под полями шляпы. Густые бачки покалывают пальцы. «Мне нужно что-то вроде Мэтью Арнольда», – сказал он своему цирюльнику, а получил какого-то дикаря с Борнео. Что он наделал? Убедил себя (ну почти убедил), что новая, более безыскусная внешность поможет ему с большей легкостью вступить в последнюю четверть столетия, – но, похоже, волосы его придерживались иного мнения.
Шагая в сторону Темзы, Уильям высматривает проход между домами, в котором он мог бы снова расчесать их, укрывшись от осуждающих взглядов. Для одного лишь утра он и так уж достаточно нагрешил против приличий.
И наконец глазам его открывается подходящий проулочек – узкий настолько, что он и названия-то своего не заслуживает. Уильям мгновенно проскальзывает в него. Стоя в тусклом свете между грязными стенами, всего лишь в паре шагов от Джермин-стрит, он продирает волосы гребешком с ручкой слоновой кости, стараясь не наступить при этом на кишащие червями отбросы.
Раздавшийся за спиной его голос – отвратительный, носовой – заставляет Уильяма вздрогнуть.
– Вы человек добрый, хозяин?
Он круто поворачивается. К нему ковыляет из сумрака низкорослая шлюха с мышастыми волосами – лет сорока, если не больше, – завернувшаяся, сколько он может судить, в старую скатерть. Какого дьявола делает она в этой части города, в такой близи от его дворцов и наилучших отелей?
Лишившись от омерзения дара речи, Уильям отступает к улице. Четыре торопливых шага возвращают его на солнечный свет. Под волосами, которые он только что расчесал, проступают, покалывая кожу, капельки пота, и Уильяму невесть почему начинает казаться, что волосы того и гляди пружинисто распрямятся и шляпа полетит с его головы, как летит из бутылки пробка.
Несколько минут спустя, уже приближаясь к Трафальгарской площади, Уильям Рэкхэм замечает кондитерскую. И ему приходит в голову, что неплохо бы съесть что-нибудь вкусненькое.
Конечно, если он и впрямь желает отобедать, ему надлежит отправиться в «Альбион», или в «Лондон», или в «Веллингтон», где, может быть, сидят в самую эту минуту давние его однокашники, раскуривая первую за день сигару, – то есть если они не спят еще в объятьях любовниц. Однако Уильям не в том настроении, какое потребно для посещения мест подобного рода. И в то же время он побаивается, что какой-нибудь из чопорных знакомых заметит его поедающим пирожное на Трафальгарской площади и в дальнейшем будет вечно обходить стороной.
Ах, стать бы снова беспечным студентом! Неужели всего двенадцать лет назад он позволял себе самые вопиющие выходки в компании смешливых, бесстрашных друзей и никто не мог даже на миг усомниться в высоте его положения в обществе? Разве не посещал он лишенных разделяющих классы перегородок кабаков для мастеровых, разве не напивался там до беспамятства в окружении пьяниц и беззубых старух? Разве не покупал с уличных лотков устриц и не забрасывал их по одной себе в рот? Разве не пел баритоном, более громким и сочным, чем у любого из его друзей, похабных песен и не отплясывал под них босиком на мосту Ватерлоо?
- Моя милашка изящней феи,
- Ее подбородок прилеплен к шее,
- Ее кудряшки, как нос, красны,
- От юбки несет запашком дурным…[7]
А что, он может спеть ее и сейчас!
Все, кто только есть в кондитерской, навострили уши, готовые послушать его пение. «Да, вот этот, будьте любезны», – произносит он sotto voce[8]. Что ж, он рискнет, да, рискнет (то есть пирожное съесть, а не спеть похабную песню), – хотя бы из ностальгии по своему прежнему, исчахшему «я».
И Уильям, лелея в ладони составленное из шоколада и вишен лакомство, выходит на площадь. Ему неспокойно. Нижний этаж его тела только теперь начал откликаться на предложение, совсем недавно сделанное в проулке проституткой, а поскольку она исчезла из виду и из мыслей Уильяма, да и вообще о ней никакой речи идти не может, он с вожделением вглядывается в трех французских девочек, резвящихся среди голубей.
– Moi aussi![9] Moi aussi! – верещат они, ибо неподалеку замер фотограф, притворяющийся, будто он снимает не их, а что-то совсем иное. Девочки милы, милы их платья, милы движения, однако Уильям не может уделить им внимания, какого они заслуживают. Вместо того он погружается в еще не утратившие яркости воспоминания о фотографии, снятой с него неделю назад, как раз перед тем, как он обрезал локоны. Последней, иными словами, фотографии старого (молодого) Уильяма Рэкхэма.
Фотография эта уже упрятана, совершенно как порнография, в один из ящиков стоящего дома комода. Однако памятный образ ее по-прежнему ярок: на ней Уильям еще выглядит кембриджским щеголем, самоуверенным студиозусом в канареечно-желтом жилете, какой и в нынешнем поколении франтов никто не осмелился бы надеть. Да и выражение, застывшее на лице Уильяма, есть тоже реликт прошлого, в том смысле, что ныне Уильям и его больше не примеряет; это выражение, которое, вопреки надеждам отца, сообщил его лицу Даунинг-колледж: выражение добродушного презрения к будничному миру.
Всего труднее было ему объяснить фотографу причину, по которой он облачился в одеяние столь устаревшее, а именно: снимок, сделанный с него, станет (как бы это выразить поточнее?)… ретроспективным историческим свидетельством, возвратом прошлого. (На деле какая-либо нужда беспокоиться на сей счет у него отсутствовала: стены фойе фотографа давно уж заполонили немного поблекшие дебютантки высшего света в воскрешенных, видевших их триумф платьях, пузатые старики, втиснувшиеся в пошитые на подтянутых юношей воинские мундиры, и множество иных не без труда воскрешенных мечтаний.)
– Moi aussi, oh maman!
Здесь, на Трафальгарской площади, девятилетняя примерно девочка в белом шелковом платьице получает разрешение попозировать мужчине с фотографической камерой. Горстка семян, и к ней слетается туча голубей – весьма своевременно, теперь можно и выдержку установить. Девочка восторженно взвизгивает, пробуждая в своих компаньонках зависть.
– Et moi maintenant, moi aussi![10]
Третья девочка протестует – сейчас ее очередь, – но Уильяму уже стало скучно. Покончив с пирожным, он надевает перчатки и вновь выступает в путь к Сент-Джеймсскому парку, мрачно спрашивая себя, как сможет он, если и картины столь чарующие нагоняют на него тоску, вытерпеть положение главы «Парфюмерного дела Рэкхэма»?
Проклятье Уильяма в том, что отец его не понимает: сын имеет предназначение куда более высокое! Старик, разбогатевший тем, что в течение сорока лет каждодневно с 8 утра до 8 вечера делал одно и то же, утратил естественное понимание того, какие страдания способна причинять однообразная нудная работа утонченной душе. Генри Калдер Рэкхэм даже учрежденный недавно полудневный субботний выходной воспринимает как постыдную трату рабочего времени.
И нельзя ведь сказать, будто Генри Калдер Рэкхэм трудится ныне так же усердно, как в прежние времена, – теперь он правит делами компании все больше из своего кабинета. Разумеется, он по-прежнему крепок, как конь, однако, приняв в рассуждение брачные виды Уильяма, счел необходимым пойти на некоторые перемены. Более благовидный адрес; в большей мере сидячий, а стало быть, и респектабельный образ жизни; несколько предложений о помощи, обращенных к представителям аристократии, испытывавшим острую нужду в деньгах: без этих жестов со стороны Рэкхэма-старшего сын его никогда не получил бы руки Агнес Ануин. Да если б старик и сейчас еще разгуливал по лавандовой ферме в своем вязаном жакете и сапогах, не было бы даже смысла осведомляться у лорда Ануина о возможности союза Уильяма и Агнес.
Однако к началу брачных переговоров Рэкхэм-старший уже «приглядывал» за своим делом из более чем почтенного дома, стоящего, правда, в Бейсуотере, но все-таки очень близко к Кенсингтону, а сын его, Уильям, еще оставался многообещающим молодым человеком, которому, вне всяких сомнений, предначертано было стать весьма приметной фигурой в… ну, в той или иной сфере деятельности.
О, все хорошо понимали, что молодой Рэкхэм возглавит со временем «Парфюмерное дело Рэкхэма», однако бразды правления, кои сожмет рука Уильяма, останутся без малого незримыми, общество же будет видеть иные, более возвышенные достижения его. В пору ухаживания за Агнес Уильям, хоть и давно уже вышедший из университета, еще ухитрялся источать ауру надежд на несчетные свершения, живое обаяние праздного довольства. Подделка? Да как вы смеете! Уильям и поныне владеет самыми последними сведениями о новейших веяниях в зоологии, скульптуре, политике, живописи, археологии, романистике… во всем, по сути, что обсуждается наилучшими ежемесячниками. (О нет, от подписки на них он не откажется – никогда, вы слышите!)
Но как может он оставить след в любом из этих направлений человеческой деятельности (раздраженно размышляет Уильям, опускаясь на любимую скамью Сент-Джеймсского парка), когда его буквально шантажом затягивают в жизнь, наполненную утомительными трудами? Как можно ожидать от него…
Однако позвольте избавить вас от потопления в потоке сознания Уильяма Рэкхэма, вернее, в этом стоялом пруду, поверхность которого вяло волнуема жалостью к себе. Деньги, только к ним все и сводится: сколько их, достаточно ли, когда поступят следующие, на что они пойдут, как их удастся сберечь – и так далее.
Голые факты таковы: Рэкхэм-старший устал от управления «Парфюмерным делом Рэкхэма», устал чертовски. От его первенца, Генри, проку, как от наследника, никакого – Генри с юных лет посвятил себя Богу. Достойный, в сущности, молодой человек, бережливый холостяк, содержание коего особых хлопот не доставляет, хотя если он и вправду собирается сделать карьеру в Церкви, то больно уж долго ее обдумывает. Ну да ладно: сойдет и младший сын, Уильям. Подобно Генри, он никаких прямых дарований покамест не проявил, однако у него дорогостоящие вкусы, изысканная жена и солидных размеров дом – и все это накрепко присосалось к груди отеческой щедрости. Суровые наставления желанного действия не возымели, и ныне Рэкхэм-старший предпринимает, медленно и неуклонно уменьшая содержание сына, попытки подстегнуть Рэкхэма-младшего, который неверными шагами подвигается к посту главы семейного дела. С каждым месяцем он урезает отпускаемые сыну суммы еще на чуть-чуть, сводя на нет тот образ жизни, привычкой к которому Уильям обзавелся.
Ему уже пришлось сократить число слуг с девяти до шести; путешествия за границу стали для него воспоминаниями прошлого; разъезды в кебе – если не роскошью, то определенно не обыденностью. Уильям больше уж не спешит сменять поношенное или вышедшее из моды платье; мечта же о найме камердинера – а это и есть истинное мерило процветания – так подчеркнуто мечтой и остается.
Что огорчает Уильяма пуще всего, так это ненужность его лишений – особенно в рассуждении размеров семейного капитала. Когда бы отец всего лишь продал свою компанию – чохом, со всеми ее потрохами, – полученная сумма была бы столь неохватна, что ее достало бы для безбедной жизни целых поколений Рэкхэмов, – а ради чего, если не ради этого, старик и трудился столькие годы?
Стремление наживать все больше и больше денег, когда у тебя их и так предостаточно, давно внушает Уильяму, социалисту по наклонностям, устойчивое отвращение. А кроме того, продай Рэкхэм-старший компанию и вложи во что-нибудь вырученную сумму, деньги его стали бы самовоспроизводящимися, их могло бы хватить на веки вечные, и со временем к ним начали бы относиться как к «давнему капиталу». И если сентиментальная привязанность к своему делу удерживает старика от продажи, то почему, ну почему именно Уильям обязан взвалить на себя бремя управления компанией? Почему не передать его некоему способному, заслуживающему доверия человеку из тех, кто уже работает в «Парфюмерном деле Рэкхэма»?
В горестях своих Уильям обращается к политической философии собственной выделки, к системе, которую он надеется когда-нибудь привить английскому обществу. (Рэкхэмизм, так, возможно, обозначит ее история.) Это теория, которую Уильям обдумывает лет уж десять, если не дольше, хотя в недавнее время он сообщил ей новую остроту – теперь в состав ее входит устранение того, что Уильям именует «неоправданным капиталом», и замена оного тем, что он же именует «правом на состояние». Это означает, что едва лишь человек приобретает состояние, достаточное для того, чтобы обеспечить – навечно – благополучие его дома (каковой определяется как семья, состоящая из не более чем десяти чад и домочадцев), дальнейшее накопительство ему воспрещается. На рискованные вложения средств в аргентинские золотые рудники и прочее в этом роде налагается строгое вето; взамен средства вкладываются в надежные, солидные предприятия, и делается это под присмотром правительства, которое печется о том, чтобы прибыль на такие вложения была пусть и не поражающей воображение, но постоянной. А любые избыточные доходы, получаемые богатейшими из людей, поступают в общественную казну на предмет их распределения среди разного рода горемык – нуждающихся и бездомных.
Предложение революционное, Уильям сознает это, способное ужаснуть многих, ибо выполнение его стерло бы нынешние различия между классами, уничтожило бы аристократию в теперешнем значении этого слова. И это, на взгляд Уильяма, было бы дьявольски добрым делом, поскольку он уже устал от напоминаний о том, что Даунинг-колледж[11] – это далеко не Корпус-Кристи[12] и что ему еще повезло попасть хотя бы в первый из них.
Ну-с, вот вы и познакомились с ними: с мыслями (несколько подусохшими от частых повторений) Уильяма Рэкхэма, сидящего сейчас на своей излюбленной скамье Сент-Джеймсского парка. И если вам стало совсем невтерпеж от скуки, я могу лишь пообещать, что в самом скором времени вы получите распутное соитие, не говоря уж о безумии, похищении и насильственной смерти.
Пока же Рэкхэма насильственно отрывает от размышлений звук его собственного имени.
– Билл!
– Боже милостивый, это он, Билл!
Уильям поднимает глаза, голова его еще полна мутного тумана, отчего он способен лишь тупо взирать на внезапно явившееся ему видение – на двух его ближайших друзей, неразлучимых кембриджских наперсников, на Бодли и Эшвелла.
– Ну, теперь уж недолго, Билл, – восклицает Бодли, – и самое время начать праздновать!
– Праздновать что? – спрашивает Уильям.
– Да все, Билл! Всю благословенную вакханалию Рождества! Чудотворный малютка уже поглядывает из девственного лона на ясли! Горы пудинга, окутанные парком! Галлоны порта! И оглянуться не успеешь, а тебя уложит в постель новый год!
– Тысяча восемьсот семьдесят четвертый на славу укутан и похрапывает, – ухмыляется Эшвелл, – а полный юных соков тысяча восемьсот семьдесят пятый стоит на пороге, желая, чтобы и с ним поступили подобным же образом.
(Они очень похожи, Бодли и Эшвелл, с их лишенными возраста обличьями «старых однокашников». Безупречно одетые, возбудимые и вялые сразу, гладколицые, в шляпах, превосходящих все, что сыщется в «Биллингтон-энд-Джой». Собственно говоря, похожи настолько, что Уильяму, когда он, бывало, выпивал лишнего, случалось называть их «Бэшли» и «Одвелл». Впрочем, Эшвелла отличают от Бодли несколько более редкие бакенбарды, чуть менее багровые щечки и отчасти меньшее брюшко.)
– Тысячу лет не виделись, Билл. Чем ты занимался? Не считая стрижки волос? – Бодли и Эшвелл грузно оседают рядом с Уильямом на скамью, затем наклоняются вперед, укладывая ладони и подбородки на набалдашники тростей, принимая позы гротескного внимания. Теперь они походят на двух горгулий, изваянных для одной и той же колокольни.
– Агнес нездорова, – отвечает Рэкхэм, – а тут еще проклятое отцовское дело, которое мне предстоит перенять.
Ну вот и сказал. Бодли и Эшвелл норовят соблазнить его веселым загулом – пусть знают, что он пребывает не в лучшем для этого настроении. Или хотя бы пусть соблазняют с пущим усердием.
– Будь осторожен с делом, к которому не лежит твоя душа, – предостерегает его Эшвелл. – Так можно обратиться в прескучнейшего человека, погруженного в хлопоты о… не знаю… об урожайности и приплоде.
– Этого мне опасаться не приходится, – отвечает Уильям, который именно этого и опасается.