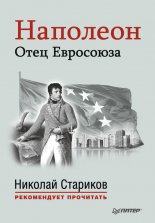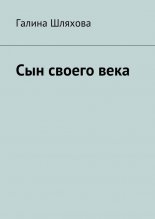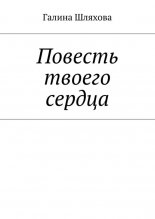Кавказская война. В очерках, эпизодах, легендах и биографиях Потто Василий

Первая попытка России прочно утвердиться в Грузии окончилась, таким образом, неудачей. Но она не могла быть не чем иным, как предвестием близкого подчинения России всего Закавказья, которое скоро и совершилось при императоре Павле. «Остается только сказать: слава Богу, – говорит Фадеев в своих «Письмах с Кавказа», – что занятие совершилось именно в царствование Павла. Если бы промедлили три или четыре года, – справедливо замечает он, – то в первой половине царствования Александра, в период непрерывных европейских войн, решавших участь более близких государственных интересов, нам было бы, конечно, уже не до Кавказа, а с 1815 года всякое посягательство с нашей стороны на этот край вызвало бы на свет кавказский вопрос в размерах вопроса уже европейского».
IV. ПОСЛЕДНИЕ БЕДСТВИЯ ГРУЗИИ
(Ага Мохаммед-хан)
В длинном ряду несчастий, испытанных Грузией в ее тысячелетней истории, последним было нашествие персидского шаха аги Мохаммеда в 1795 году; за десять лет перед тем Грузия вступила под покровительство России, Персия, до того времени заправлявшая судьбами ее, была сама обуреваема междоусобными раздорами, начавшимися с самого момента смерти Надир-шаха и возобновившимися с новой силой после дружелюбного Грузии Керим-хана. Сильнейший из претендентов, ага Мохаммед-хан, уже известный России своим вероломным поступком с Войновичем, становится в девяностых годах единым повелителем Ирана, и первым его делом было вспомнить Грузию и ее отторжение из сферы влияния шахов.
Ага Мохаммед-хан был, несомненно, одним из замечательнейших восточных государей, но несомненно также, что он был страшный человек, уже самой своей судьбой приготовленный к человеконенавистничеству. Некогда дед его, хан Гилянский, был убит Надир-шахом, а сам он превращен в евнуха и обречен вести жалкую жизнь при дворе персидских шахов. И уже там развивались в его сердце ненависть и мстительность. Не имея возможности открыто заявить вражду, он, будучи еще ребенком, носил при себе нож и пользовался всяким случаем резать во дворе богатые ковры и портить все, желая пока хоть этим вредить ненавистному шаху. И когда впоследствии драгоценности эти перешли в его руки, он, глядя на них, часто говаривал: «Жаль, что я тогда делал это, глуп был, не умел предвидеть будущего».
Наружность его, как ее описывают грузинские сказания, отражала его злой и мрачный характер. Маленький ростом, сухощавый, со сморщенным и безбородым лицом евнуха, ага Мохаммед-хан казался извергом. Ненависть и кровавая злоба, сверкающие в глубоко впавших глазах, свидетельствовали о противоестественных страстях, кипевших в его поблекшей душе. Он превосходил жестокостью всех бывших властителей Персии, и слово пощады, милости или человеколюбия никогда не срывалось с уст этого властителя-евнуха. В то же время это был человек необыкновенного ума, железной энергии и всепоглощающей гордости.
Одолев всех своих соперников, ага Мохаммед-хан заботился не о том, чтобы самому утвердиться на престоле, а чтобы возвратить Персии все потери, понесенные ею во времена междоусобий; он дал обет до тех пор не принимать титула шаха, пока власть его не будет признана на всем пространстве обширного Ирана. И Грузии, которую шах, конечно, считал отложившейся своей провинцией, приходилось испытывать месть за сношения с русской державой. Личное неудовольствие шаха против Ираклия, осмелившегося разбить войска аги Мохаммеда, посланные взять Эривань, грозило еще увеличить бедствие. А Грузия между тем менее чем когда-либо была готова к защите. После торжественного вступления ее под покровительство России в 1783 году русские войска вскоре, по случаю турецкой войны, были отозваны, а в стране возникли раздоры. Ираклий был женат три раза, и дети от двух последних браков царя под влиянием интриг царицы Дарьи внесли смуту в страну, споря о наследстве и подготовляя шаху шансы на более легкий успех. Шах вступил в сопредельные Грузии магометанские ханства, требуя покорности, и большинство их не смело противиться грозному властителю Ирана. Только один владетель Карабага, хан Ибрагим, наотрез отказался принять послов шаха и, укрепившись в Шуше, приготовился к отчаянной обороне.
Высоко, до самых облаков, поднималась гранитная Шушинская крепость, построенная среди утесистых гор и скал, образующих между собой только узкий проход, который брать открытой силой было почти немыслимо. С вершины отвесной скалы, где стоял ханский дворец, открывались великолепные виды: к югу взор обнимал далекое пространство, через лесистые горы и знойные долины, вплоть до Аракса, извивавшегося серебристой лентой у темной цепи Карабага; к северу сверкали громады снежных гор, обозначая пределы благословенной Грузии. И хан, и карабагцы, справедливо гордясь неприступностью этого места, смеялись над хвастовством аги Мохаммед-хана, сказавшего раз, что он нагайками своей кавалерии забросает Шушинское ущелье.
Эпизод с карабагским ханом, однако, не надолго отсрочил кровавое нашествие. Ага Мохаммед-хан, видя невозможность овладеть неприступными твердынями Шуши, обошел ее стороной и двинулся прямо на Грузию. Ганжа и Эривань, составлявшие прямое достояние грузинского царя, стали под шахские знамена, и все, что встречалось на пути победоносных его войск, покорялось, а непокорное предавалось огню и мечу. Несмотря на то, Ираклий отверг все требования шаха и готовился к обороне.
10 сентября 1795 года ага Мохаммед-хан расположился лагерем в семи верстах от Тифлиса.
Авангард шаха, встреченный грузинами на Картсанисской равнине, был разбит наголову. Из Тифлиса полетели во все стороны гонцы с известием о победе. Народ ликовал, но радость была преждевременна, так как эта неудача передового отряда не помешала неприятелю на следующий же день идти на приступ к городу.
Будучи укреплен и имея на своих стенах до тридцати пяти орудий, Тифлис мог бы оказать персиянам серьезное сопротивление и, по крайней мере, отсрочить свое падение на некоторое время. Но внутренние смуты мешали необходимому в таких случаях единодушию: царевичи, враждовавшие с отцом, не слушали призыва царя и не спешили из своих уделов на помощь столице. А в городе между тем была вызвана паника неосторожностью царицы. При страшной вести о нашествии врагов народ сначала собрался перед дворцом и умолял царя не оставлять город на истребление персам, обещая биться до последней капли крови, царь дал также обет умереть со своим народом, и поставлена была стража у всех ворот, чтобы никого не выпускать из города. Но царица по совету приближенных испросила позволение себе и десяти почетным семействам выехать из Тифлиса. Как только узнал о том народ, он подумал, что царь, спасая семейство, не надеется защитить столицу, и толпами бежал во все стороны, как можно дальше от театра военных действий. У Ираклия к началу обороны города не осталось и нескольких тысяч князей и тавадов.
Шах между тем думал, что Тифлис достанется ему недешево, и, чтобы заставить своих солдат непременно одержать победу, прибег к весьма оригинальному средству. Он постоянно водил за собой шесть тысяч конных туркмен, ненавидящих персиян и, в свою очередь, ненавидимых ими. Связанные религией, но разделенные обычаями, эти два народа всегда чистосердечно и открыто презирали друг друга. Ага Мохаммед-хан воспользовался этим обстоятельством и, поставив туркмен в тыл своего войска, приказал им бить и умерщвлять каждого персиянина, которому пришла бы охота бежать. Этот приказ, приятный для туркмен, исполняем был ими с величайшей точностью. И персияне, имея позади себя верную смерть, конечно, не думали об отступлении.
Авангард грузин под начальством царевича Иоанна, державшийся в течение нескольких часов на позиции, потерял много убитыми и стал уже отступать, когда на подкрепление к нему явился царевич Вахтанг, вытребованный Ираклием с отборными войсками из Птавов и Хевсу. Тогда авангард возобновил сражение и, получив новую помощь, посланную царем, под начальством Мочабелова, сам перешел в наступление. Этот Мочабелов был в свое время известный поэт-импровизатор. Взяв свой чунгур, он пропел перед войсками несколько вдохновенных строф своей песни и кинулся вперед с такой стремительностью, что его отряд проник до самых персидских знамен, из которых многие и были взяты грузинами на глазах самого аги Мохаммед-хана. «Я не помню, – проговорил тогда властитель Ирана, – чтобы когда-нибудь враги мои сражались с таким мужеством». Он выдвинул вперед мазендеранскую пехоту, стоявшую до тех пор в резерве, и приказал ей идти на приступ. Ираклий, со своей стороны, ввел в дело последние немногочисленные резервы, и большая часть из них погибла в этой отчаянной борьбе с несоразмерно многочисленным неприятелем.
Сражение продолжалось с утра до позднего вечера. Три раза персияне были отбрасываемы от стен Тифлиса и три раза возобновляли приступ, пока наконец не заставили грузин начать отступление.
– Каждый из твоих подданных, – говорили царю его окружающие, – знает твою храбрость и знает, что ты готов умереть за отечество, но если суровая судьба уже изменила нам, то не увеличивай своей гибелью торжества неприятеля.
Царь никого не слушал, а между тем персияне заходили в тыл и, занимая все дороги, ведущие в город, грозили отрезать отступление. Тогда Ираклий с немым отчаянием бросился в битву и, наверное, погиб бы, если бы внук не спас своего знаменитого деда. С тремястами конных грузин царевич Иоанн кинулся в толпу персиян и вырвал царя почти из рук неприятеля.
С удалением Ираклия битва не прекратилась. Царевич Давид долго еще удерживал персиян в кривых и тесных улицах предместья. Но когда он увидел, что неприятельские толпы занимают город, уже покинутый царем, тогда и последний грузинский отряд удалился к северу с намерением пробраться в горы, куда отступил Ираклий.
Ага Мохаммед-хан овладел Тифлисом, и войска его преследовали бежавших грузин до самого Мцхета, в котором персияне не оставили камня на камне; и только знаменитый собор, этот памятник древнего величия Грузии, пощажен был благодаря заступничеству нахичеванского хана. «Не следует осквернять святыни и гробы царей», – сказал он своему отряду; храм остался нетронутым.
Тифлис между тем, с его дворцами и великолепными христианскими храмами, был обращен в груду развалин. Рассказывают, что ага Мохаммед-хан сначала пощадил так восторгавшие Шах-Аббаса знаменитые тифлисские минеральные бани и даже купался в них, надеясь получить исцеление от своего недуга, но, когда они оказались бессильными, он в гневе приказал разрушить и их до основания.
Жители Тифлиса подверглись неистовым жестокостям. Митрополит Тифлисский заперся с духовенством в Сионском соборе, но персы выломали двери, сожгли иконостас, раскидали святыню, перебили священников и самого старца митрополита сбросили в Куру с виноградной террасы его собственного дома. Целых шесть дней, с 11 по 17 сентября, персияне предавались в городе всевозможным неистовствам: насиловали женщин, резали пленных и убивали грудных младенцев, перерубая их пополам с одного размаха только для того, чтобы испытать остроту своих сабель. В общем разрушении не была пощажена и самая святыня. Персияне поставили на Авлабарском мосту икону Иверской Богоматери и заставили грузин издеваться над ней, бросая ослушников в Куру, так что река скоро запрудилась трупами. Около двадцати трех тысяч грузин было уведено в рабство.
Историограф аги Мохаммед-хана говорит, что при разорении Тифлиса храброе персидское войско показало неверным грузинам образец того, чего они должны ожидать для себя в день Судный.
Есть предание, что во время разорения Тифлиса пятьдесят жителей, не успевших бежать из города, отдались под защиту святого Давида и на святой горе – быть может, даже в той самой пещере, где теперь стоит гробница Грибоедова, – спаслись от смерти или плена. Персияне, разорявшие и грабившие город, по какому-то необъяснимому обстоятельству ни разу не всходили на гору, увенчанную старинным монастырем, долженствовавшим, как бы кажется, привлечь собой алчных грабителей. Очень может быть, что они опасались найти там скрытую засаду; но как бы то ни было святая обитель укрыла и спасла всех тех, которые в ней искали спасения.
Рассказывают также, что при взятии Тифлиса агой Мохаммед-ханом погиб знаменитый сазандарь (певец) Грузии Саят-Нова. Сто лет тому назад в стенах старого Тифлиса имя Саят-Новы было славно повсюду, от царского дворца до сакли ремесленника. Это был бедный армянин, ткач по ремеслу и сазандарь по призванию; в юности – разгульный певец, в старости – отшельник и, наконец, в минуту смерти – христианин, с крестом в руках убитый врагами на пороге церкви. Спустившись на майдан (базарную площадь в Тифлисе), вы увидите из-за плоских кровель синий конический купол армянской церкви, называемой Крепостной, потому что она помещалась когда-то внутри Тифлисской крепости. На дворе этой церкви, где теперь так часто собираются амкары для торговых сделок, в 1795 году зарыт окровавленный труп восьмидесятилетнего старца Саят-Новы. «Не ищите надгробного камня на его темной могиле, – говорит рассказчик этой легенды, – но знайте, что черты лица его и, быть может, звуки его голоса и до сих пор носятся, как смутный призрак давно протекшего, в памяти тех немногих тифлисских старожилов, для которых нашествие аги Мохаммед-хана еще не составляет предания». Когда Тифлис был взят, Саят-Нова молился в храме, и, слыша приближение врагов, взял в руки крест, и пошел к ним навстречу, желая остановить их на пороге. Два стиха, две звучные рифмы на татарском языке вылились из уст его:
- Не отступлю от Иисуса,
- Не выйду из церкви.
И это были последние слова его.
Между тем два русских батальона, высланные с Кавказской линии Гудовичем, поспешно двигались под командой полковника Сырахнева на помощь к Ираклию, и весть о том, что они перешли уже горы, заставила шаха отступить от Грузии на Муганскую степь. Но русский отряд не пошел дальше Душета и после окончания похода графа Зубова возвратился в Георгиевск.
Разгромив Грузинское царство, ага Мохаммед-хан возвратился в Персию. Придворные убеждали его возложить на себя корону Ирана. Шах приказал собрать всех военачальников армии, вышел к ним, держа корону в руках, и спросил, желают ли они, чтобы она украсила его голову. «Вспомните, – сказал он, – что вместе с этим ваши труды только начнутся. Я никогда не соглашусь носить эту корону, если с ней не будет сопряжено владычество, какое еще не имел ни один из персидских монархов». Все обещали посвятить свою жизнь распространению могущества шаха. Тогда ага Мохаммед короновался. Но он все-таки отказался надеть драгоценную корону Надир-шаха, на которой четыре алмазных пера (челенги) знаменовали собой четыре покоренных этим завоевателем царства: афганское, индийское, татарское и персидское. Он возложил на себя только маленькую диадему, украшенную перлами, и опоясался царским мечом, хранившимся на гробе мусульманского святого, родоначальника дома Софиев, в Ардебиле. Туда персидские государи обязаны отправляться за священным оружием; меч кладут в гробницу и целую ночь молят святого, чтобы он благоволил к монарху, который будет носить его меч. Наутро шах опоясывается им, ополчаясь на защиту шиитской веры.
Ага Мохаммед-хан немедленно после того предпринял поход на Хорасан, где ханствовал в то время Надыр-Мирза, правнук ненавистного для аги Мохаммеда Надир-шаха. Нужно сказать, что по смерти последнего многие драгоценности перешли в руки его родственников, и между прочим – к слепому отцу хороссанского хана. Ага Мохаммед потребовал возвращения этих драгоценностей, объявив государственным преступником всякого, кто будет держать у себя вещи, составлявшие, по его мнению, государственную собственность, и теперь, идя на Хорасан, он собирался наказать одного из ослушников, а шахской казне возвратить часть принадлежавших ей драгоценностей. Надыр-Мирза бежал, оставив престарелому и слепому отцу, Шах-Року, сдать город повелителю Персии. Шах-Рок вышел навстречу с изъявлением покорности. Но здесь его ожидали страшные истязания – ага Мохаммед хотел узнать, где спрятаны сокровища. Шах-Рок умер под пыткой, указывая по мере усиления мучений все драгоценности, скрытые им в колодцах и в стенах. Когда же ему положили на голову венец из теста и в середину налили растопленный свинец, он указал и тот необыкновенной величины и красоты рубин, некогда бывший в короне, найти который особенно домогался шах. Затем ага Мохаммед приказал разрушить гробницу ненавистного ему Надир-шаха, окованную изнутри чистым золотом. Все найденные в ней богатства он взял в казну, а кости самого Надир-шаха приказал зарыть под крыльцом своего дворца в Тегеране. «Когда я попираю этот прах моими ногами, – говорил он, – раны моего сердца заметно облегчаются».
В Хорасане ага Мохаммед узнал о вторжении русских войск в пределы Персии. Императрица Екатерина, возмущенная и бедствиями Грузии, и самой личностью шаха, отправила войска под предводительством графа Зубова, который успел завоевать Дербент, Шемаху, Баку, Сальяны и Ганжу. К сожалению, смерть императрицы оставила неоконченным так блистательно начатое дело.
Шах прекрасно понимал, каким грозным врагом является для него Русская империя, и ввиду предстоявшей борьбы принял план, который обещал ему наибольший успех. Собрав, как рассказывают, своих военачальников и объявив им, что русские осмелились вторгнуться в пределы его государства, он говорил: «Храбрые воины мои пойдут против них; мы нападем на стены, сгроможденные из пушек, на строи славной пехоты – и разрубим их на части нашими победоносными мечами».
Начальники одобрили геройскую решимость шаха и обещали не жалеть своей крови. Но когда они разъехались, шах призвал первого министра и спросил, слышал ли он слова, сказанные им войсковым начальникам. Министр ответил, что слышал.
– И ты думаешь, что я поступлю, как говорил?
– Без сомнения, если это угодно будет повелителю.
– Хаджи, – сказал тогда гневно ага Мохаммед, – неужели я ошибся? Неужели и ты так же глуп, как и прочие? Такой умный человек, как ты, мог ли подумать, что я подставлю свою голову под их железные стены и допущу истребить мою неправильную армию их артиллерией и благоустроенными войсками? Я знаю лучше мое дело. Никогда русские пули меня не достигнут, и русские могут владеть только тем, что будет находиться под огнем их артиллерии. Им некогда будет дремать, и они могут идти куда пожелают, но я везде оставлю им одну пустыню.
Шаху не пришлось, однако, применить свой план: русские войска ушли. Внезапное отступление их несказанно обрадовало агу Мохаммеда, и он тотчас же отправил в Грузию фирман, «которому должна повиноваться вселенная».
«Россияне, – писал он, – всегда промышляли торгом и купечеством, продавали сукна и кармазин, но никто и никогда не видал, чтобы они могли употреблять копье или саблю. Так как они отважились ныне войти в пределы областей, состоящих под нашей державой, то мы высочайшие мысли наши устремили в ту сторону и обратили счастливейшие знамена наши на то, чтобы их, наказав, истребить. Они же, узнав о таковом нашем намерении, бежали в свою гнусную землю».
Мстительный шах не думал оставить безнаказанным вторжение русских, и в 1797 году вся Грузия была снова встревожена известием о движении к ее пределам аги Мохаммеда. К счастью, гроза разразилась только над одним Карабагом. Грозный властитель Персии не мог забыть оскорбления, нанесенного его достоинству ничтожным ханом Шушинским, который осмелился не признать его власти, и многочисленное персидское войско прежде всего появилось на Араксе и начало разорять карабагскую землю. Ибрагим, хан Шушинский, оставив свои владения, со всем семейством и несколькими беками бежал. Две тысячи всадников, под начальством лучших военачальников, были посланы в погоню за Ибрагимом; они настигли его на переправе через реку Тертер, но хан, после упорного дела, разбил персиян и успел скрыться в горах.
Тогда ага Мохаммед занял без боя столицу Карабага, Шушу, и поселился в прекрасном ханском дворце в одной небольшой комнатке, недоступной для постороннего взора. Угрюма была эта комната шаха, без всякого убранства и мебели. Лишь на полу разостлан был богатый ковер, чтобы предохранять ногу властелина от жесткого прикосновения к каменным плитам, да у стены стояла знаменитая в то время походная кровать, служившая шаху и постелью, и троном. Густо усеянная жемчугом и драгоценными каменьями, ткань покрывала кровать вплоть до пола, а посередине дорогого одеяла было оставлено незашитое поле из пурпурного бархата, обозначавшее место шахского сиденья. Тут обыкновенно восседал шах с поджатыми под себя ногами, одетый в широкую шубу, крытую богатой шалью красного цвета.
Перед дворцом толпились персияне, а на площади стояла бивуаком шахская гвардия. Все было тихо, все боялось нарушить спокойствие повелителя и потревожить его чуткое ухо. Между тем Шуше суждено было сделаться местом гибели жестокого шаха. Вот как передают об этом местные предания.
Был уже восьмой день со времени занятия Шушинской крепости. Вечером, когда ага Мохаммед молился, в комнату его вошел Садых-хан, начальник всей персидской кавалерии, и молча встал у порога. Шах прервал молитву, лицо его было зловеще.
– Как ты осмелился, раб, явиться передо мной незваный? – спросил он Садыха.
– Недостойный раб твой исполняет волю своего повелителя, переданную мне устами Сафар-Али, – ответил тот и низко поклонился.
Шах позвал Сафара.
– Когда я тебе приказывал звать Садых-хана?
– С полчаса тому назад.
– Лжешь, собака! – вскричал ага Мохаммед и направил дуло пистолета прямо в грудь своего нукера, но тотчас же опустил его…
– Не дерзнет червь ничтожный лгать перед Богом небесным и перед солнцем его земным! Может быть, злой дух обманул мое ухо, и я не понял приказания моего повелителя.
– Если уши твои не умеют слушать, так они мне не нужны… Ступай! Пусть их отрежут!
Над Сафар-Али немедленно исполнили приговор.
Наступила ночь. В комнате шаха слабо мерцала серебряная лампада. Он лежал на кровати и не спал. Вдруг ему показалось, будто слышатся шепот и тихие рыдания. Тревожно он окликнул своих нукеров. Вошли двое: Сафар-Али, с головой, обвязанной окровавленными платками, и Аббас-бек, оба испуганные, бледные.
– Ты смеешь плакать, как женщина, – сказал шах Сафару, – когда тебе должно радоваться великой милости, даровавшей тебе жизнь! А ты, Аббас, осмелился разговаривать около спальни и мешать моему сну!.. Вы оба лишние на земле, и с восходом солнца падут ваши головы. Есть еще несколько негодяев, подобных вам. Завтра я наряжу страшный суд над всеми, и из черепов ваших сооружу минарет, выше Шамхорского. Слышали? Ступайте!
Была ночь на пятницу, обыкновенно посвящаемая молитве, и шах по необходимости должен был отложить исполнение приговора до утра. Уснул он, но не спали нукеры, знавшие, что приговор шаха бесповоротен. Непонятно, каким образом приговоренные к неизбежной смерти служители остались на ночь при шахе, и слух о повреждении рассудка его, быть может, и имеет некоторые основания. Нукерам приходилось или покорно ожидать казни, или порешить с шахом, и они решились на последнее. Вооруженные кинжалами, они тихо вошли в коридор и остановились перед шелковым занавесом, закрывавшим вход в шахскую опочивальню. Глубокая тишина свидетельствовала о крепком сне повелителя. Осторожно и без шума вошли двое убийц и стали у кровати. Блеснул кинжал и глубоко вонзился в грудь спящего шаха.
Он приподнялся, остановил на убийцах угасающий взор и произнес: «Несчастный! Ты убил Иран!» – и голова его безжизненно упала на подушку.
Убийцы вынули драгоценные камни из короны шаха и бежали в Нуху, под покровительство шекинского хана; отсюда и возникло не лишенное вероятия предположение, что преступление совершилось вследствие подкупа хана – их покровителя. Когда весть о смерти шаха распространилась в лагере, приближенные его уже успели расхитить шахские сокровища, и войска, докончив дело грабежа, в беспорядке оставили Карабаг и ушли в Персию.
Голова аги Мохаммеда была отсечена и отправлена к карабагскому хану Ибрагиму, который со всеми подобающими почестями похоронил ее в Джарах. Обез главленное же тело шаха отправлено им в Тегеран, где и погребено среди властителей Персии.
Так совершилась судьба аги Мохаммеда.
Со смертью его связана история гибели знаменитого карабагского поэта Вакафа, жившего в Шуше во время нашествия. Не успев бежать вместе с Ибрагимом, он был захвачен неприятелем и попал в руки кровавого врага своего, аги Мохаммеда.
Рассказывают, что еще во время первого нашествия на Шушу ага Мохаммед приказал пустить в карабагский стан стрелу, к которой был прикреплен лоскут бумаги со следующими стихами: «Из небесной камнеметательной машины бросаются бедоносные камни, а ты по глупости защищаешься от них в стеклянной крепости…»
Стрела от Ибрагим-хана принесла ему такой ответ: «Если Тот, в Кого я верую, мой Хранитель, то Он сохранит и стекло под мышцей камня». Ага Мохаммед спросил, кто автор этих стихов, и ему назвали Вакафа; он поклялся убить его, как только Шуша будет взята.
Теперь несчастного поэта вместе с другим карабагцем везли на грозную расплату. Но поэт был спокоен. В каком-то предвидении будущего он обратился к товарищу своего несчастья и сказал: «Друг мой, предсказываю тебе, что я никогда не увижу аги Мохаммеда и ничего дурного от него не перенесу; за тебя же ручаюсь».
Вечером их привезли в Шушу, и шах приказал немедленно казнить карабагца, а Вакафа посадить в тюрьму, чтобы наутро предать мучительнейшей смерти. Но в эту самую ночь он пал под ножом Сафар-Али – и Вакаф получил свободу.
Но беда грозила поэту там, где он ее не предвидел. Воспользовавшись отсутствием законного хана, племянник Ибрагима, Мухаммед-бек, задумал овладеть Карабагом. Вакаф был из числа немногих, не согласившихся изменить старому хану, и был казнен вместе с сыном. За воротами Шушинской крепости, на высоком холме, где совершались народные празднества, и поныне еще указывают их общую могилу.
Ага Мохаммед погиб. А в следующем, 1798 году, 11 января, умер и Ираклий, вынеся в глубокой старости тягчайшие испытания.
Существует трогательный рассказ о пребывании царя в полуразрушенном старинном Ананурском монастыре, когда разбитый и всеми покинутый, он должен был искать в нем убежища. «В ветхой келье, стоявшей в углу монастырской ограды, – говорит этот рассказ, – можно было видеть старика, сидевшего лицом к стене и покрытого простым овчинным тулупом. Это был царь Грузии Ираклий II – некогда гроза всего Закавказья. Подле него находился старый слуга-армянин.
– Кто там сидит в углу? – спрашивали проходившие люди.
– Тот, которого ты видишь, – со вздохом отвечал армянин, – был некогда в большой славе, и имя его уважалось во всей Азии. Он был лучшим правителем своего народа, но старость лишила его сил и положила всему конец и преграду. Чтобы отвратить раздоры и междоусобия в семействе, могущие последовать после его смерти, он думал сделать последнее добро своему народу и разделил свое царство между сыновьями. Несчастный Ираклий ошибся. Ага Мохаммед, бывший евнухом Кули-хана, Надир-шаха в то время, когда Ираклий носил звание военачальника Персии, пришел теперь победить его немощную старость. Собственные дети отказались ему помочь и спасти отечество, потому что их было много и всякий из них думал, что будет стараться не для себя, а для другого. Царь Грузии принужден был прибегнуть за помощью к царю Имеретии, но если ты был в Тифлисе, то видел весь позор, какой представляло там имеретинское войско. Ираклий с горстью людей сражался против ста тысяч и лишился престола оттого, что был оставлен без жалости своими детьми. И кому же на жертву? Евнуху, человеку, который прежде раболепствовал перед ним. Померкла долголетняя слава его, столица обращена в развалины, а благоденствие народа – в погибель. Вот под этой стеной видишь ты укрывающегося от всех людей славного царя Грузии без помощи и покрытого только овчиной. Царедворцы и все находившиеся при нем ближние его, которых он покоил и питал на лоне своем во всем изобилии, оставили его; ни один из них не последовал за своим владыкой, кроме меня, самого последнего его армянина.
Грустная повесть Ираклия невольно вызывает в вас представление мрачной эпохи, в которой величавый гений Шекспира нашел величественный образ другого короля-страдальца, несчастного Лира, также разделившего свое царство и также испытавшего всю неблагодарность тех, кто всем был обязан ему. Но Шекспир – великий летописец навсегда минувших Средних веков, а на Кавказе это совершалось почти на наших глазах.
По удалении аги Мохаммеда Ираклий возвратился в Телави, служивший ему любимым местопребыванием после Тифлиса. С Телави соединялись лучшие воспоминания всей его жизни. Там, будучи еще царственным юношей, он приобрел себе военную славу покорением лезгин, Ганжи и Эривани, и долго после того всему Закавказью было известно, что этот бедный Телави – резиденция грозного царя Кахетии, которому суждено было впоследствии соединить под своей властью целую Грузию. И вот прошли пятьдесят два года царствования Ираклия, и он опять возвращается в тот же Телави, но только для того, чтобы покончить здесь остаток своих дней, когда звезда его угасла, и он, удрученный годами и горем, не имел сил смотреть на пепелище Тифлиса.
Грустно протекли последние дни престарелого венценосца. Лишенный наружного величия и блеска, он умер среди народного плача, стоявшего тогда над целой Грузией, еще не успевшей оправиться от вторжения в нее аги Мохаммеда.
В старинном, некогда столичном городе Мцхете, в соборе Двенадцати апостолов, как раз напротив царских дверей, лежит и поныне простая мраморная плита, указывающая место, где успокоились кости царственного труженика. Отчетливо сохранившаяся надпись на камне гласит: «Здесь покоится царь Ираклий, родившийся в 1716 году, который взошел на престол кахетинский в 1744-м, на картлийский – в 1762-м и который скончался в 1798 году. Дабы передать потомству память о сем государе, царствовавшем со славой в течение пятидесяти четырех лет, именем Его Императорского Величества Александра I, главнокомандующий в Грузии маркиз Паулуччи соорудил ему сей памятник в 1812 году».
Грузинский народ помнит своего венценосного страдальца, представляя его себе героем, лишь в силу исторических обстоятельств поставленного лицом к лицу с бедствиями войны и поражения. Одна из народных грузинских песен, отражающая народную любовь к нему, говорит: «Пусть не страшит тебя старость, подними твой меч, грянем на врагов и обратим их в бегство. Но если Бог попустит неверных разорить твою добрую столицу, иди к нам и знай, что мы, горцы, постоим за тебя; тушины, пшавы и хевсуры положат головы за тебя, послужим тебе до конца. Посмотрим, кто будет после тебя Ираклием!»
V. ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД ЗУБОВА
В 1796 году в Кизляре формировался сильный русский корпус из двух пехотных и двух кавалерийских бригад, в котором частями, по личному назначению императрицы, командовали все до одного прославившиеся впоследствии орлы екатерининских дружин, генерал-майоры: князь Цицианов, Булгаков, Римский-Корсаков, барон Бенигсен, граф Апраксин и Матвей Иванович Платов, главнокомандующим же был генерал-поручик граф Валериан Александрович Зубов. Готовился большой поход на Персию – в этот «Лес львов», как его называют персидские историки, уже давно ожидавший возмездия за свое вековое вероломство. Разгром в 1795 году ага Мохаммедом Грузии, стоявшей уже тогда под покровительством России, был прямым оскорблением достоинства великой державы, прямым вызовом, и война была решена.
Говорят, впрочем, что поход этот находился в тесной связи со знаменитым греческим проектом, обновленным редакцией графа Платона Зубова. Проект заключался в том, что граф Валериан Александрович, покончив с Персией у себя в тылу, должен был захватить в свои руки Анатолию и угрожать Константинополю с малоазиатских берегов, в то время как Суворов пойдет через Балканы и Адрианополь, а сама Екатерина, находясь лично на флоте с Платоном Зубовым, осадит турецкую столицу с моря.
Главнокомандующему графу Зубову было в это время только двадцать четыре года. Быстрым возвышением он был, конечно, обязан прежде всего брату своему, князю Платону Александровичу, вельможе Екатерининского века, но несомненно также, что он оправдал вполне доверие императрицы и личным мужеством, запечатленным тяжелой раной, и государственными заслугами, оказанными им в блистательно исполненном Персидском походе. Недостатки, общие для молодых людей прошлого века, уравновешивались в нем такими симпатичными качествами, которые делали его любимцем русского войска – солдаты боготворили своего юного вождя и шли за ним в огонь и в воду.
Карьера молодого Зубова была весьма замечательна. Произведенный в офицеры в 1785 году, он через четыре года уже был подполковником и в этом чине участвовал в турецкой войне, под главным начальством Потемкина; за взятие Бендер императрица пожаловала ему чин полковника и звание флигель-адъютанта; штурм Измаила доставил ему крест Святого Георгия 4-й степени, а вскоре после того, произведенный в генералы и награжденный Александровской лентой, он был отправлен вместе с Суворовым в Польшу. Здесь он участвовал во всех победах знаменитого полководца и на двадцать третьем году от рождения получил от императрицы драгоценную соболью шубу, чин генерал-поручика и ордена Святого Георгия на шею и Святого Андрея Первозванного. В одном из сражений в Польше, именно – при переправе через Буг, верстах в двадцати от Варшавы, неприятельское ядро оторвало Зубову ногу. Он должен был ехать лечиться за границу и возвратился назад с искусственной ногой, так хорошо сделанной, что он мог ездить верхом и оставаться на коне по суткам. Впоследствии персияне и горцы прозвали его Кизил-Аяг, то есть «генерал с золотой ногой». Зубов прибыл в Кизляр в начале апреля и, найдя войска совершенно готовыми к походу, двинул их в Дагестан по следам передового отряда Савельева. Старый Савельев – известный на Кавказе геройской обороной Наурской станицы – вошел во владения Шейх-Али-хана Дербентского и тотчас предложил ему заключить оборонительный и наступательный союз против Персии. Но юный восемнадцатилетний хан оставил письмо без ответа, а приближавшийся к городу русский отряд встретил пушечными выстрелами.
Савельев стал на позиции под самыми стенами Дербента, однако на приступ не отважился, зная, что в городе сосредоточено до десяти тысяч войска, а так как продолжительное бездействие русского отряда могло в значительной степени поднять дух неприятеля, то Зубов предписал Савельеву отойти от города и ожидать главный корпус где-нибудь на крепкой позиции. 2 мая главнокомандующий подошел к Дербенту уже со всеми войсками. Верстах в четырех от города казаки его были встречены огнем дербентских наездников и пешими стрелками, засевшими по горам и оврагам. После перестрелки, продолжавшейся более трех часов, неприятель был оттеснен и заперся в крепость, а русские войска обложили город и открыли по нему канонаду.
Действие тогдашней полевой артиллерии против каменных стен оказалось, однако же, малодейственным, и потому главнокомандующий, чтобы выиграть время, приказал батальону Воронежского полка вместе с двумя гренадерскими ротами из отряда Савельева взять штурмом передовую башню. Несмотря на отчаянную храбрость солдат, штурм был отбит. Командир батальона полковник Кривцов и почти все офицеры были переранены; нижних чинов выбыло из строя более ста человек, и генерал Римский-Корсаков вынужден был отступить на прежнюю позицию.
3 мая началось усиленное бомбардирование города. Пять дней гремели наши орудия, а между тем войска готовились к вторичному штурму, который должен был повести генерал Булгаков.
На этот раз в составе штурмовой колонны назначены были те же две гренадерские роты Воронежского полка и третий батальон Кавказского егерского корпуса. 7 мая граф Зубов лично объехал отряд и объявил, что «башню надо взять непременно», что «штурм произойдет на глазах всего Дербента, и неудача может повлечь за собой торжество персиян, которые издревле привыкли трепетать перед русским именем». Потом он стал на высоком кургане, откуда мог видеть все подробности боя, и приказал идти в наступление.
Воодушевленные присутствием любимого вождя, воронежцы, не отвечая на огонь неприятеля, быстро приблизились к башне, а через несколько минут поручик Чекрышев уже был на ее стенах, и закипела кровавая битва. Защитники верхнего яруса были все переколоты; тогда нападающие живо разобрали половицы и вместе с досками и балками обрушились в нижний этаж на головы врагов, которых и истребили штыками.
Пока гренадеры бились внутри башни, батальон егерей, стремительно атаковав наружную ограду, выгнал из нее персиян, и таким образом около полудня все передовые укрепления были окончательно взяты. Это дозволило русским войскам в тот же день спуститься вниз с каменных высот и заложить траншеи на весьма близком расстоянии от города. Новое двухдневное жестокое бомбардирование поколебало наконец упорный дух защитников Дербента; 10 мая на крепостной стене был выкинут белый флаг, а вслед за тем и гордый Шейх-Али-хан явился в русский лагерь в униженном виде, с повешенной на шее саблей. Жители просили пощады и, бросая оружие, толпами выходили навстречу русским войскам. При появлении главнокомандующего вся масса народа покорно и безмолвно стала на колени. Седой стодвадцатилетний старец приветствовал победителя короткой речью и поднес ему на блюде серебряные ключи от города. Это был тот самый старик, который за семьдесят четыре года перед этим поднес те же ключи и на том же самом месте императору Петру Великому.
Взятие Дербента стоило русским одиннадцати офицеров и ста семи нижних чинов, а взято было в крепости двадцать восемь орудий, пять знамен и одиннадцать тысяч разного оружия. В тот же день комендантом Дербентской крепости назначен был генерал-майор Савельев, и четыре батальона вступили в цитадель с распущенными знаменами, музыкой и барабанным боем. Но торжественный въезд Зубова был отложен на несколько дней, необходимых для приведения города в порядок. 13 мая главнокомандующий, сопровождаемый большим эскортом, наконец выехал из лагеря по направлению к городу, и с крепостной стены загремели в честь его русские пушки. Почтеннейшие беки и старшины Дербента встретили его у ворот и приветствовали хлебом и солью. Тут же стояло армянское духовенство и собраны были муллы для приведения жителей к присяге русской императрице. Окруженный блестящей свитой, граф Зубов проехал через город, богато украшенный персидскими коврами и флагами, прямо к ставке Савельева, где была поставлена походная церковь, и здесь, в стенах завоеванного города, отслужен был благодарственный молебен за дарованную нам победу, а затем Дербент торжественно объявлен присоединенным к Российской империи.
Лишенный владения, Шейх-Али-хан остался в русском лагере почетным пленником. Он пользовался, однако же, слишком большой свободой, и на его сношения с туземцами никто не обращал внимания. А между тем под личиной чистосердечной преданности русским Шейх-Али деятельно готовил все способы к побегу. Однажды, восхищая всех лихой джигитовкой, он вдруг поскакал на крутую гору, где виднелись какие-то конные люди, и джигитовка обратилась в настоящее бегство. Напрасно дежурный офицер тотчас же послал в погоню казаков, они не попали на след, и хан исчез, можно сказать, на глазах целой армии. Побегу этому сначала не придали большого значения, но вскоре Шейх-Али явился в Дагестан и, как увидим, наделал много хлопот не только Зубову, но и его преемникам.
За покорение Дербента императрица пожаловала Зубову Георгия 2-й степени, бриллиантовое перо на шапку и алмазные знаки ордена Святого Андрея Первозванного; все генералы, участвовавшие в этой экспедиции, получили Анненские ленты, а поручик Чекрышев, как первый вошедший на башню, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
Молва о падении Дербента быстро распространилась по всему Дагестану, и горские владельцы, наперекор друг другу, спешили в лагерь с изъявлениями покорности.
Почти одновременно со взятием Дербента особый отряд генерал-майора Рахманова занял Баку, а генерал Булгаков овладел Кубинским ханством. Между тем главные силы, простояв под стенами Дербента около двух недель, также двинулись дальше и покорили Шемаху, владетель которой, Мустафа-хан Ширванский, впоследствии оказавший русским истинные услуги, теперь бежал к персиянам.
Зубов восстановил спокойствие в городе, а ханство передал в управление родному дяде хана, Кассиму, выражавшему русским совершенную преданность и, конечно, не преминувшему взбунтоваться при первой же возможности.
Нужно сказать, что измена давно уже свила себе гнездо в самом русском лагере. Брат шаха Нури-Али-хан, владетель одной из богатейших прикаспийских провинций, боясь мести аги Мохаммеда за то, что не хотел уступить ему жеребца, купленного за четыре тысячи червонцев, за год перед тем бежал в Петербург и просил о заступничестве. Когда граф Зубов прибыл в Кизляр в качестве главнокомандующего, с ним вместе приехал и Нури, рассчитывавший в случае успеха русских сесть на персидском престоле. Ему оказывались в русском лагере всевозможные почести: он имел особую свиту, простиравшуюся до ста человек персиян, и получал значительное содержание от русского правительства; кроме того, Зубов подарил ему все драгоценности, оставленные в лагере дербентским ханом. Богатства и почести не сделали, однако же, Нури лучше и благороднее; как истый персиянин, он не имел никакого понятия о нравственном благородстве и был всегда готов на самую коварную измену.
В это время шекинский и карабагский ханы, устрашенные участью Ширванской области, заключили тайный договор действовать сообща в борьбе с русскими, а к ним скоро присоединился и старый Кассим-хан. Нури, подкупленный, как говорят, красотой дочери карабагского хана, славившейся тогда в Закавказье, принял участие в заговоре, взял на себя обязанность убить графа Зубова. Уже был назначен день, в который Нури должен был проникнуть в ставку главнокомандующего и, пользуясь тем, что Зубов никогда не держал около себя никаких охранных караулов, собственной рукой поразить его кинжалом. Смерть юного полководца должна была послужить сигналом к общему нападению на лагерь и доставить ханам победу, а Нури – обладание первейшей карабагской красавицей.
Счастливый случай открыл этот страшный заговор. Утром того дня, когда Зубов должен был погибнуть, Нури, джигитовавший на своем любимом коне, обронил с головы папаху, из которой выпала записка. Ее нашел казак и немедленно представил главнокомандующему. То было письмо одного из заговорщиков. Нури тотчас арестовали и отправили в Астрахань, а русские войска немедленно заняли Шекинское и Карабагское ханства. Зубов не находил прямых улик к обвинению ханов в заговоре, а потому и сохранил за ними власть и звание правителей, однако же заставил их дать аманатов и присягнуть на подданство России.
Едва рассеялась собиравшаяся гроза над главным станом, как черные тучи стали подниматься на русских со стороны Дагестана. Бежавший туда Шейх-Али-хан успел взволновать умы легковерных горцев и, заключив союз с Сурхай-ханом Казикумыкским, решился внезапно напасть на город Кубу и истребить отряд генерала Булгакова.
В ночь на 29 сентября значительное скопище горцев скрытно передвинулось с этой целью с Самура в селение Алпаны и захватило вход в узкое ущелье, по которому только и можно было спуститься с гор на равнину Кубинского ханства. Булгаков вовремя узнал о грозящей опасности. Рота егерей, отправленная на разведку, под командой капитана Семенова, открыла неприятеля в Алпанском ущелье и остановилась в ожидании помощи. Скоро к ней подошел подполковник Бакунин с тремя ротами того же батальона, с казачьей сотней и двумя орудиями. Ущелье, перед которым стоял русский отряд, было сплошь покрыто дремучим чинаровым лесом. Несмотря на то, Бакунин решился идти вперед, чтобы перед рассветом атаковать неприятеля. Офицеры одобрили это намерение, и в темную непроглядную ночь батальон втянулся в лесное дефиле, которое через несколько часов должно было стать его могилой. Дорога шла по каким-то косогорам, ямам и рытвинам, а во многих местах совершенно пересекалась непроходимыми дебрями. Измученные лошади едва подвигали орудия, и людям приходилось тащить их на себе, задерживая движение отряда.
Начинался рассвет, когда показалось наконец селение Алпаны, расположенное на покатости горы, очерченной глубоким оврагом. Дорога становилась лучше. Но едва отряд стал выходить из леса, как горцы в числе пятнадцати тысяч вдруг ринулись на него из оврага. Атака была неожиданна и так стремительна, что русские орудия не успели сделать ни одного выстрела, как уже были захвачены горцами. Неприятель окружил отряд со всех сторон, и началось беспощадное истребление его. Бакунин, Семенов и большинство офицеров были убиты; остатки, уцелевшие от этой резни, успели скрыться за сложенными бревнами и здесь отбивались до тех пор, пока не пришел к ним на помощь весь Угличский пехотный полк с четырьмя орудиями, под командой полковника Стоянова. Увлеченные боем, горцы заметили новый русский отряд только тогда, когда картечь хватила в самую середину их скопища. Застигнутые врасплох, они, в свою очередь, были окружены и разбиты наголову. Булгаков, не довольствуясь этим, приказал наказать казикумыкского хана полным опустошением его владений, и войска со всех сторон уже двинулись в горы, когда Сурхай явился в лагерь с повинной головой и отклонил грозу безусловным исполнением всех предписанных ему условий. Он выгнал из своих владений Шейх-Али-хана, дал аманатов и со всем народом присягнул на подданство русской государыне.
Истребление отряда Бакунина было, однако, признано победой, и Тегеран, по приказанию аги Мохаммеда, торжествовал ее иллюминацией.
Все эти происшествия задержали главный русский корпус в Шемахе почти на шесть недель. Только по усмирении Дагестана Зубов нашел возможность отправить наконец трехтысячный отряд, под командой генерала Корсакова, вверх по Куре на помощь к грузинскому царю Ираклию, поручив ему вместе с тем покорить по пути Ганжийское ханство.
Корсаков подошел к Ганже 13 декабря и встречен был ханом, который сдался без сопротивления. То был Джават-хан, участник тифлисского погрома, впоследствии знаменитый отчаянной защитой против князя Цицианова.
Одновременно с движением Корсакова к Ганже и главные русские силы перешли к урочищу Джават, лежавшему при самом слиянии рек Куры и Аракса. Здесь граф Зубов решил заложить укрепленный город, который он хотел назвать Екатериносердом, а в ожидании этого войска стояли бивуаком, занимая обширную, примыкавшую к левому берегу Куры равнину, за которой уже начиналась Муганская степь. Вся иррегулярная кавалерия, под начальством Платова, была переброшена на ту сторону речки и высылала разъезды почти до самого Гиляна, но неприятеля нигде не было видно. Шах был в походах, и русским оставалась полная свобода распоряжаться в сопредельных с Персией мусульманских ханствах. Так, в короткое время были покорены России ханства: Казикумыкское, Дербентское, Бакинское, Кубинское, Ширванское, Карабагское, Шекинское и Ганжийское, и весь берег Каспийского моря, от устьев Терека до устьев Куры, был занят русскими войсками, расположившимися также и в Муганской степи. Весь Азербайджан лежал перед ними незащищенный; дорога к Тегерану была открыта, и передовые русские посты уже появлялись в Гиляне.
Война была выиграна. Оставалось только воспользоваться ее результатами – утвердить за собой обширные приобретения, доставшиеся нам почти без пролития крови. Императрица, очевидно, и имела это в виду, пожаловав Зубову чин генерал-аншефа и назначив его наместником Кавказского края вместо генерала Гудовича, но вдруг 6 ноября она скончалась, и дела сразу приняли другой оборот.
Император Павел Петрович, как известно, не разделял политических видов своей великой матери, и с ее кончиной политическая программа России резко и крупно меняется. Война, начатая с Персией, также не входила в виды нового императора, а потому в начале декабря 1796 года все полковые командиры внезапно получили именные высочайшие указы немедленно возвратиться со вверенными им полками в наши границы.
6 декабря наместник Кавказа граф Зубов собрал к себе всех частных начальников и, объявив им высочайшую волю, сложил с себя звание главнокомандующего. Кавказскую линию он сдал графу Гудовичу – теперь любимцу нового государя, а сам был уволен в отставку. Ермолов, бывший в этой экспедиции батарейным командиром, вспоминая о знаменитом отступлении, рисует перед нами картину далеко не привлекательного свойства. Полки, по его словам, возвращались поодиночке, каждый сам по себе, и выходили на Терек, где их ожидал своенравный Гудович, пылавший гневом за то, что не ему вверено было начальство над экспедиционным корпусом. Избегая с ним встречи, многие, и в том числе сам Ермолов, пробрались степью на Астрахань. В Грузии остался только небольшой отряд генерала Римского-Корсакова, зимовавший в Ганже, но и тот в начале 1797 года воротился на линию, пройдя окольным путем через Дарьяльское ущелье. Так закончился Персидский поход, начатый блистательным успехом и окончившийся возвращением персидскому шаху всех покоренных земель.
Персидский историк так описывает это событие: «Монархиня, – говорит он, – назначила главнокомандующим посылаемого ею войска военачальника, у которого одна нога была оторвана ядром, а вместо нее сделана золотая, почему его и прозвали Кизил-Аяг, то есть Золотоногий. Ему поручено было в командование сорок тысяч пехоты и двадцать тысяч конницы с несметной артиллерией. По прибытии к Дербенту он хотел овладеть им, разгромив ядрами его стены. Но так как стены были прочнее, шире и толще скалы, то ядра не произвели в них ни малейшего вреда. При этом Шейх-Али-хан Дербентский множество людей покрыл кровью (то есть убил), но ему изменил некто Хазар-бек, и русские взяли город. Кизил-Аяг явился в Муганской степи. Шах, узнав об этом, поспешил к Ардебилю с бесчисленной армией, покрывшей все горы и долины, и с таким торжеством выступил против врага, что Кизил-Аяг потерял всякую надежду к спасению. А потому, видя себя подобно воробью в когтях ястреба или ягненка в объятиях волка, он совершенно потерялся, не зная, что предпринять. Вдруг пришло известие, что Солнцешапочная (Хуршид-Кулаг) монархиня скончалась. Пользуясь этим случаем, Кизил-Аяг поспешил в Россию, бросив на произвол судьбы весь обоз, который сделался добычей шахских войск – милость великого и всемогущего Аллаха!»
Несчастная Грузия опять была предоставлена ее собственной участи, и только смерть аги Мохаммеда избавила ее от нового страшного нашествия.
А виновник персидских побед, граф Зубов, отставленный от службы, жил некоторое время под присмотром полиции в своих имениях в Курляндии. Впоследствии, в 1800 году, он снова был принят на службу в чине генерала от инфантерии и назначен сперва директором второго кадетского корпуса, а потом членом Государственного совета. В этом звании граф и умер 21 июня 1804 года на тридцать четвертом году от рождения. Прах графа Валериана Александровича покоится в Сергиевской пустыни, близ Петергофа. Над его могилой впоследствии воздвигли каменную церковь во имя мученика Валериана, а при ней устроили особое помещение для тридцати солдат-инвалидов.
VI. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГРУЗИИ
(Кнорринг и Лазарев)
По смерти Ираклия II Грузия, только что выстрадавшая погром аги Мохаммеда, осталась в самом бедственном положении, находясь снаружи под угрозой вторжения турок, персов и лезгин, а внутри раздираемая смутами и борьбой за престолонаследие. Законным наследником Ираклия остался старший сын его от второго брака Георгий XIII, уже с давних пор по праву царь Картлийский. Еще дед его, Теймураз, уезжая в Петербург, передал царевичу Георгию скипетр Картлийского царства, опоясал его царским мечом и возложил на него крест с частицами животворящего древа на золотой цепи, украшенной драгоценными камнями и жемчугом, и эта передача совершалась торжественно в Мцхетском соборе в присутствии духовенства, князей и дворян Картли. Но, как известно, Ираклий присоединил тогда и Картли под свое непосредственное управление.
Георгий наследовал лучшие свойства своего отца и мог бы доставить благоденствие стране, не поставленной в столь тяжкие условия, как Грузия. Будучи царевичем, он пользовался уже большой популярностью, которую увеличила еще его первая жена, заслужившая редкую народную привязанность. Георгий женился двадцати одного года от роду на тринадцатилетней Кетевани, дочери казахского моурава Андроника-Швили, при обстоятельствах несколько романтического характера.
Рассказывают, что, когда Георгий посетил Кахетию и был в гостях у моурава, случилась тревога: лезгины показались на Алазани. Молодой Реваз Андроник во время преследования неприятеля был ранен в колено, но имел мужество выказать это только по возвращении домой. Георгий был в восторге от легендарной храбрости и благородного характера князя и тут же просил руки Кетевани, его сестры, так как отца девицы тогда в живых уже не было. Эта невеста Георгия и была та самая неустрашимая героиня, упоминаемая грузинскими летописцами, которая, следуя в Картли в сопровождении трехсот кахетинских всадников, имела значительную стычку в Гартискарских теснинах с сильной лезгинской партией. Неустрашимая девушка сама начальствовала тогда отрядом и разбила лезгин, трижды укреплявшихся. Когда после того она прибыла в Тифлис, Ираклий принял ее с большим торжеством, пушечной пальбой и иллюминацией. Это было в 1778 году. Брак царевича торжествовала вся Грузия, но, к сожалению, Георгий не долго наслаждался своим семейным счастьем. Через четыре года Кетевань скончалась. С большой пышностью, как рассказывают о том современники, совершилось погребение безвременно угасшей царевны, составлявшей красу царского дома и гордость грузинского народа. Георгий пожелал предать ее тело земле в монастыре Гареджийской пустыни. Был июнь; печальная весть пронеслась по целой Грузии, и народ со всех сторон начал стекаться на погребение любимой царевны. Три митрополита со своими знаменами и хоругвями встретили усопшую на самой границе Гареджийской лавры. Плач и рыдания, сливаясь со звуками печальных погребальных гимнов, раздавались по всей безмолвной степи Караясской, населенной лишь быстрыми джейранами. Отшельники, с раннего детства покинувшие мир и его суету, глядели изумленными очами на это внезапное проявление житейского шума, сопровождаемого царской пышностью. Но недолго развлекался их непривычный слух – медленно подвигавшиеся бренные останки усопшей красноречиво говорили им о тщете всего земного, о конечном исходе силы и славы человеческой.
Тогда-то, говорят, Ираклий в порыве печали произнес над гробом усопшей пророческое слово: «Вот когда погиб дом мой!»
Георгий вдовел недолго и в том же году женился во второй раз на княжне Марии Цициановой, блиставшей тогда красотой, но не имевшей, как увидим, того благотворного влияния, каким отличалась так рано скончавшаяся царевна Кетевань, любимица Грузии.
Вступив на престол, Георгий не имел достаточной силы и твердости противостоять процветавшей кругом него внутренней смуте. Его мачеха, царица Дарья, заставившая еще Ираклия разделить все царство на уделы не в пользу Георгия и его потомства, теперь сделалась центром интриг и строила козни с целью вовсе устранить от престола потомство Георгия. Она и сыновья ее не хотели признавать верховной власти царя и искали покровительства в Персии.
В этих трудных обстоятельствах, чтобы успокоить наконец родину, истомленную непосильной борьбой с врагами, и вместе с тем предвидя всю трудность удержать престол за своим домом, Георгий просил императора Павла I принять Грузию в вечное русское подданство и прислать войска для защиты ее от врагов и внешних и внутренних.
Император повелел командующему Кавказской линией генерал-лейтенанту Кноррингу отправить в Тифлис семнадцатый егерский (ныне лейб-Эриванский) полк под командой генерал-майора Лазарева. Вместе с полком осенью 1799 года для постоянного пребывания в Грузии в качестве полномочного министра отправился и статский советник Коваленский, везший царю корону и прочие знаки царской инвеституры, так как все драгоценные регалии, употреблявшиеся при коронации грузинских царей, были похищены во время нашествия аги Мохаммеда.
Несмотря на позднее время года, на стужу и снеговые метели, свирепствовавшие на перевале через Главный Кавказский хребет, полк благополучно совершил трудный поход и 26 ноября, в самый день тезоименитства Георгия, подошел к Тифлису. Встреча его сопровождалась необычайной торжественностью. Сам царь, вместе с наследником престола, царевичами и многочисленной свитой, принял его с хлебом и солью за городской заставой. Полк сделал при этом, как доносил Коваленский, «фигуру преизрядную» и вступил в Тифлис при громе пушек и колокольном звоне. Весь путь, по которому двигался полк, и самые улицы города были запружены массой народа, а окна и плоские кровли тифлисских домов усеяны зрителями. Народ ликовал сердечно и искренне.
Справедливость требует, однако, сказать, что, несмотря на столь радушный прием, положение русского полка в Тифлисе, особенно на первых порах, было до крайности печально. Благодаря беспорядкам и злоупотреблениям в грузинской администрации солдаты встречали нужду в самом необходимом, не только не имели квартир, но по несколько дней оставались даже без дров и без пищи. Лазарев лично говорил об этом царю, но распоряжения последнего никем не исполнялись. «Здесь все идет, как у нас в присутственных местах, – писал по этому поводу Лазарев Кноррингу, – там все завтра, а здесь икнеба, то есть «будет», но от этого ничего не бывает».
С приходом полка Тифлис начал готовиться к торжественному дню коронации последнего грузинского царя, Георгия XIII.
За несколько дней все царские регалии были перенесены из дома Коваленского в царский дворец при огромном стечении народа, с изумлением смотревшего на невиданную ими пышность церемонии. Окруженные почетным конвоем, русские чиновники и офицеры, имея по сторонам ассистентов, несли малиновый бархатный трон, украшенный массивными золотыми кистями, царское кресло, белый государственный штандарт с изображением двуглавого российского орла, богатое горностаевое платье, присланное царице Марии вместе с бриллиантовым букетом, государственный меч, царскую порфиру с вышитыми на ней грузинскими и русскими гербами, корону, скипетр и державу, осыпанные драгоценными камнями, и, наконец, три бриллиантовых ордена, из которых Андреевский предназначался самому Георгию, Екатерининский – царице Марии и Анненский – наследнику престола царевичу Давиду. В заключение всего на серебряном блюде несли высочайшую грамоту, которой Георгий утверждался на грузинском престоле.
Едва окончилась процессия, как девять пушечных выстрелов с Метехского замка дали знать народу, что началось парадное шествие русского министра.
Имея впереди себя секретаря посольства, державшего в руках кредитивную грамоту от императора Павла I, и предшествуемый царскими церемониймейстерами, тифлисскими властями и хором музыкантов, Коваленский ехал верхом в парадной одежде на богато убранном коне, по сторонам которого шли грузинские чиновники, а сзади, замыкая шествие, двигался блестящий конвой, составленный из царских телохранителей. У самого дворцового подъезда Коваленский был встречен важнейшими сановниками Грузинского царства и в сопровождении их вошел в приемную залу, где ожидал его Георгий, окруженный министрами и царедворцами.
После короткой приветственной речи к царю Коваленский торжественно возвестил, что всероссийский император Павел I принимает Грузию под свой высочайший кров и утверждает Георгия законным преемником Грузинского царства, а старшего сына его, светлейшего царевича Давида Георгиевича, будущим по нем наследником. Затем последовала церемония передачи знаков царской инвеституры.
– Исполненный благоговейных чувств к государю, моему повелителю, – сказал тогда Георгий, – я почитаю возможным принять эти знаки царского достоинства, не иначе как учинив присягу на верность императору и на признание его верховных прав над царями Кахетии и Картли. Но я желаю, – прибавил Георгий, – чтобы этот обряд был совершен торжественно, в храме Божьем, с приличным празднеством и великолепием.
– Долгом моим, – почтительно ответил Коваленский, – будет присутствовать при священном короновании вашего высочества и отдать вам, как государю, приличные почести от русских войск, которые прибыли в вашу столицу на всегдашнее пребывание.
Окончив речь, Коваленский передал Георгию высочайшую грамоту и поднес знаки ордена Андрея Первозванного, которые царь тотчас же возложил на себя. Поздравив Георгия, министр просил позволения передать Анненский орден наследнику Грузии царевичу Давиду и остальные подарки прочим лицам царской фамилии.
Царица Мария, не присутствовавшая при церемонии, приняла Коваленского во внутренних покоях, отменив на этот раз утвердившийся в Грузии азиатский обычай, предписывающий лицам женского пола не показываться мужчинам без покрывала. Царица встретила министра, окруженная многими дамами в богатых платьях, с откинутыми назад покрывалами. После обычного приветствия Коваленский поднес ей бриллиантовый орден Святой Екатерины и, по просьбе Георгия, сам возложил его на царицу.
12 декабря, в день, назначенный для коронации царя, опять съехались во дворец все знатные грузинские и русские особы. Предшествуемый придворными чинами, несшими перед ним корону и скипетр, царь отправился в церковь вместе со своей супругой, которая была одета в русскую горностаевую мантию. За ними, немного позади, шел Коваленский рядом с наследником престола, а далее – прочие члены царской фамилии, князья, министры и сановники.
После обедни Георгий приказал прочесть высочайшую грамоту, утверждающую его на престоле, и принял присягу на верное подданство русским государям. По окончании обряда, сопровождавшегося торжественностью, Георгий возложил на себя знаки царской инвеституры и возвратился во дворец, где, сидя на троне, принял поздравления от русского министра и сословных представителей грузинского народа.
Так совершился акт добровольного подчинения Грузинского царства Российской империи.
Нелишне будет прибавить, что присоединенная к России Грузия заключала в себе в то время Картли, Кахетию и часть Сванетии, делившейся на Триолетскую и Барчалинскую области; Грузии же принадлежали тогда Казахская, Бомбакская и Шамшадальская провинции, населенные татарами, и земли горских народов: осетин, тушин, пшавов и хевсуров.
Признание наследственных прав на престол исключительно в роде Георгия было совершенно противно видам и желаниям вдовствующей царицы Дарьи и ее детей. И вот в то самое время, когда Георгий и Давид присягали на верность императору Павлу и весь народ грузинский ликовал на улицах Тифлиса в надежде лучших дней, старая царица подбирала себе сообщников и старалась увеличить партию недовольных. И партия эта росла благодаря розни и неурядицам, царившим в высших правительственных сферах Грузии.
Георгия окружали теперь два представителя России, к сожалению совершенно различные по характеру и нравственным качествам. Во главе войска, присланного на защиту царя, стоял генерал-майор Лазарев, человек прямой, открытый и честный, еще до назначения в Грузию успевший снискать общее расположение своим благородным характером. Его военная карьера сделана была без протекций и покровительств, и ею он был обязан только личным достоинствам. Происходя из родовых дворян и начав свою службу в 1775 году капралом конной гвардии, Иван Петрович Лазарев едва через девять лет добился офицерского чина. Но с этих пор зато начинается его быстрое служебное возвышение. Отличия, выказанные им в финляндской войне, потом на Кавказе при штурме Анапы и взятии Дербента, обратили на него такое внимание начальства, что, когда по повелению императора Павла в 1797 году из частей Кубанского и Кавказского егерских корпусов сформирован был новый семнадцатый егерский полк, Лазарев назначен был его шефом и на четырнадцатом году офицерской службы произведен в генералы. Суровый воин, привыкший довольствоваться малым, Лазарев высоко и честно держал русское знамя в чужой земле и внушал грузинам невольное уважение к русскому имени. Напротив, его товарищ Коваленский, представитель политики и внутреннего управления царством, был человек нечистосердечный, склонный к искательствам и мелкочестолюбивый. Опутывая царя тонкой сетью интриг, он вмешивался во все его распоряжения и ставил на первый план личные свои интересы. Его характер ясно обрисовывается следующим фактом: узнав, что царь назначил Лазареву равный с ним оклад столовых денег, по десяти рублей в сутки, он почел возможным заметить царю несообразность подобного назначения и настоятельно требовал себе как представителю государя двойного оклада. Лазарев, очевидно возмущенный такой наглой и мелочной претензией, вовсе отказался от своего содержания, и Коваленский, не имевший уже более повода к жалобам, должен был остаться при своих десяти рублях. Тогда он потребовал, чтобы ему как представителю России войска отдавали почести. Лазарев ответил, что «по уставу штатским чести не положено» и что «о подчинении его, командующего войсками Грузии, гражданскому чиновнику не может быть и речи».
Начались пререкания и споры. А царевичи пользовались этим и волновали народ, накликая на Грузию новые беды со стороны ее исконных врагов, персиян и лезгин.
Один из братьев Георгия, Александр Ираклиевич, оставленный новым царем без удела, потребовал себе Казахскую провинцию, которая по грузинскому обычаю не могла принадлежать никому, кроме самого царя. Получив отказ, Александр, живший в Шулаверах, откочевал к турецкой границе, а оттуда тайно перебрался в персидский лагерь, где ему оказали самый радушный прием. Узнав об этом, вдовствующая царица и ее сыновья также начали искать покровительства персиян, которые только и ждали случая, чтобы вмешаться в дела Грузинского царства. Для Персии все это было чрезмерно важно потому, что правитель ее, Баба-хан, ставший после смерти аги Мохаммеда шахом, не мог быть признан в этом звании подвластными ему народами до тех пор, пока в торжественный день коронации они, по обычаю, не увидали бы подле своего властителя в числе прочих валиев и грузинского царя, стоящего с шахским мечом у подножия трона[37].
Скоро в Тифлисе явилось и персидское посольство. Георгий принял его не во дворце, а в доме русского министра, стоя под большим портретом императора Павла, у подножия которого поставлен был грузинский трон со сложенными на нем короной, скипетром и державой, а по сторонам грузинские сановники держали порфиру и царский штандарт.
На заявление персидского посла, что он желал бы иметь секретное свидание с царем, Георгий ответил, что, находясь под покровительством России, он ни в какие секретные переговоры без русского министра вступать не желает. Тогда посол объявил ему прямо, что шах, считая Грузию древним достоянием своих предков, требует полного ее подчинения себе и что «царю остается только покориться, чтобы не подпасть горшей против прежней участи».
– Я не могу не удивляться вашим словам, – ответил на это Коваленский, – вы как будто совершенно забыли о том покровительстве, которое русский император оказывает Грузии.
– Я об этом помню, – ответил посланник, – но даю советы единственно из усердия к царю, потому что неприятель приближается уже к границам его владений.
– Россия, – возразил Коваленский, – не имеет у себя в здешних странах неприятелей, но с теми, кто дерзнет восстать против покровительствуемых ею народов, она сумеет управиться.
На этом переговоры окончились.
Между тем измена царевича и домогательства шаха дали Георгию справедливый повод опасаться нового нашествия, тем более что неприятель вошел уже в Эриванскую область и распускал слух, что идет на Тифлис с единственной целью возвести на престол царевича Александра.
Чтобы успокоить встревоженных жителей, Георгий обратился к императору Павлу с просьбой о помощи, и государь приказал отправить к нему с Кавказской линии еще Кабардинский пехотный полк, под командой генерал-майора Гулякова.
Прибытие полка было как нельзя более кстати, потому что Тифлису действительно угрожала серьезная опасность со стороны Омар-хана Аварского, того самого, который несколько лет назад разорил всю Грузию и теперь с двадцатитысячным скопищем горцев опять приближался к границам Кахетии.
Омар был человек предприимчивый, отважный и храбрый до дерзости. Собственные его владения были невелики, но велико было то значение, которым он пользовался во всем Дагестане, где по малейшему знаку его поднимался весь сброд горских хищников, слепо веривших в неизменное счастье своего любимого вождя.
Известие о приближении Омара произвело всеобщее смятение в Грузии. Но в то время как самая столица готовилась уже искать спасения в бегстве, Лазарев и Гуляков с двумя батальонами русской пехоты поспешно двигались навстречу неприятелю. В Сигнахе к отряду присоединилась грузинская милиция царевичей Баграта и Иоанна, в три тысячи человек, и 5 ноября 1800 года Лазарев уже стоял в шести верстах от неприятельского стана. Но Омар ночью обошел русский лагерь и двинулся прямо к Тифлису. Тогда ближайшей дорогой и форсированным маршем Лазарев опять обогнал лезгин и на рассвете 7 ноября снова очутился перед ними на противоположном берегу реки Иоры, недалеко от кахетинской деревни Кагабети.
Столкновение было неизбежным, и лезгины, переправившись через Иору, с неистовым гиком бросились на русский отряд, но залп и картечь встретили их так удачно, что «немалое число от сего приема начало лбами доставать земли и доискиваться в оной мнимых прав, которых Омар-хан был сильным поборником», – как писал впоследствии Лазарев генералу Кноррингу.
Целый день продолжалась битва, и эта первая решительная встреча горсти русских войск с пятнадцатитысячным скопищем кавказских горцев в пределах Грузии стоила непобедимому до тех пор Омар-хану Аварскому решительного поражения. Так как сражение окончилось ночью, то только на следующее утро глазам победителей открылась истинная картина страшного побоища, испытанного неприятелем. Камыш, кустарники и рвы наполнены были трупами; по всему полю солнечные лучи освещали траву, обагренную кровью; а за рекой стоял еще неприятельский стан с развевающимися знаменами и пестрыми палатками, но он был пуст и мертвенно недвижим: неприятель бежал, не успев ничего спасти из своего имущества. Потери лезгин насчитывали свыше двух тысяч человек. Сам Омар-хан получил тяжелую рану и вскоре умер. Какой-то старшина Искандер был убит, и голова его вместе с громадной головой другого лезгинского богатыря из Дженгутая, как драгоценные трофеи боя, были повержены грузинами к ногам русского военачальника.
Сражение на Иоре навсегда останется памятным в летописях Кавказской войны. Оно замечательно не упорством боя, так как потеря со стороны русских казалась сравнительно незначительной, но решимостью начальников, отважившихся с небольшим отрядом вступить в бой с огромным скопищем лезгин, славившихся своей необычайной храбростью.
Большое счастье, что во главе горсти русских людей, пришедших тогда в Грузию, стояли такие генералы, как Лазарев и Гуляков, имена которых никогда не будут вычеркнуты из славных военных летописей России. Оба они оказались достойными носителями русского имени, и оба впоследствии запечатлели своей кровью братскую помощь, оказанную Грузии. Лазарев погиб в Тифлисе 19 апреля 1803 года, а Гуляков убит за Алазанью спустя несколько месяцев после смерти своего боевого начальника и друга.
«Лазарев и Гуляков, Кабардинский и Эриванский полки – это первые камни того фундамента, – говорит Зиссерман, – на котором построилась вся вековая слава геройской кавказской армии».
Понятно, что громкая победа, одержанная при подобных условиях, сразу доставила русским в крае высокое нравственное влияние, а это влияние было важно особенно потому, что без него, с ничтожными средствами, какими тогда располагали русские в Закавказье, они, конечно, не могли бы там удержаться.
Император Павел пожаловал за эту победу обоим царевичам, Лазареву и Гулякову командорские кресты ордена Святого Иоанна Иерусалимского, а нижним чинам, участвовавшим в бою, по рублю на человека.
Царь Георгий, несмотря на болезнь, сам выехал навстречу отряду, возвращавшемуся в Тифлис, и, сойдя с богато убранного коня, убедительно просил генерала Лазарева принять этого коня в дар и въехать на нем торжественно в город.
К сожалению, это был последний выезд Георгия. Простудившись при встрече войск, он окончательно слег в постель, и врачи не подавали никакой надежды на его выздоровление. Между тем для всех было ясно, что немедленно по кончине Георгия в Грузии начнется междоусобная война между сыновьями и братьями умершего царя и что последние охотнее увидят Грузию даже присоединенной к России, чем отданной царевичу Давиду.
Лучше других понимал это сам умирающий царь и с одра болезни писал императору Павлу, что «Грузия так или иначе должна покончить свое самобытное политическое существование» и что «грузинский народ желает теперь же вступить единожды и навсегда в подданство Российской империи с признанием всероссийского императора за своего природного государя и самодержца».
Императорский манифест последовал в этом смысле в Санкт-Петербург 18 декабря 1800 года, а 28 декабря скончался в Тифлисе Георгий.
Таким образом грузинский престол был упразднен, и династия Багратидов, считавшая за собой целое тысячелетие, перестала царствовать в Грузии. 16 февраля 1801 года все жители Тифлиса, собранные в Сионский собор, присягнули на верность новому своему государю, императору Павлу Петровичу, а 7-го числа то же самое исполнено было армянским населением столицы, сопровождавшим этот обряд особенной пышностью и церемониями.
Утром этого, дня, по первому удару соборного колокола, духовенство, в числе восьми архимандритов и до ста священников, выступило из всех армянских церквей и, соединившись в общий крестный ход, направилось через Тифлис к загородному монастырю Ванк. За этой процессией двое именитейших граждан Тифлиса несли портрет императора Павла, а за ним шествовал сам митрополит в торжественном облачении, но без митры, держа над головой серебряный поднос, а на нем манифест, прикрытый розовым флером. Народ, имея во главе царевича Давида с братьями и генералов Лазарева и Гулякова, шел за крестным ходом тысячными толпами. Патриарх Армении Иосиф, в полном облачении древних святителей, встретил процессию в ограде соборной церкви. Окадив портрет императора, он пал перед ним на землю, поцеловал его и, высоко подняв над головами присутствующих, громогласно произнес: «Да здравствует великий и августейший монарх наш со всем своим домом». Народ отвечал шумными и радостными кликами. Затем процессия двинулась в церковь. Там, перед алтарем, на особом аналое, покрытом богатой парчой, положен был манифест и поставлен портрет императора. Патриарх сам совершал литургию, по окончании же ее отслужен был благодарственный молебен с коленопреклонением, и весь народ приведен к присяге.
Как в этот, так и в предшествовавший день русские офицеры, сопровождаемые казачьим эскортом, ездили по улицам Тифлиса и читали народу манифест на четырех языках: русском, грузинском, армянском и татарском.
По окончании всех церемоний грузинские царевичи Иоанн, Баграт и Михаил Георгиевичи с лицами, уполномоченными еще покойным Георгием, князьями Аваловым и Паливандовым, отправились в Петербург, «чтобы перед лицом русского монарха засвидетельствовать целому свету, что принятие Грузии в подданство России совершилось по общему единодушному желанию всего грузинского народа».
Ожидая этих послов, государь приказал сделать для себя древнее одеяние грузинских царей, не исключая непременной принадлежности его, греческого саккоса, подавшего в свое время повод к известным толкам и догадкам по поводу сходства этой одежды с архиерейским облачением.
Посольство еще находилось в пути и положение Грузии не успело определиться окончательно, когда император Павел скончался. Преемник его, император Александр I, манифестом от 12 сентября 1801 года подтвердил принятие Грузии в подданство России, прибавив, что делает это «не для приращения своих сил, не для корысти и распространения пределов и без того обширнейшей империи в свете, а единственно из человеколюбия, которое налагает на него священный долг внять молению страждущих и отвратить от них скорби учреждением такого правления, которое могло бы утвердить в земле их правосудие, личную безопасность и дать каждому защиту закона».
В то же время государь возвратил Грузии и ее народную святыню – крест из виноградных лоз, врученный Богоматерью в сонном видении святой Нине. Прежде этот крест сохранялся в фамилии грузинских царей и, по свидетельству одного армянского историка, служил у грузин военным знаменем в их войнах против греков. В память побед и чудес, совершенных тогда священным крестом, грузины установили праздник, который и доныне торжествуется церковью в десятый день после Вознесения Господнего. Во времена нашествий вражеских крест сберегался то в Мцхете, то в Анапуре и из этого последнего города был увезен митрополитом Тимофеем в Москву к царевичу Бакару, сыну Вахтанга VI. Внук этого царевича, Георгий, поднес священный крест в дар императору Александру Павловичу, который и повелел препроводить его обратно в Грузию. 9 апреля 1802 года крест был торжественно внесен в Тифлис и, встреченный восторженной радостью народа, положен в Сионском соборе, где сохраняется и ныне, по левую сторону царских врат, в особом киоте, на серебряной доске которого изображена святая равноапостольная Нина.
Но возвратимся опять к событиям в Закавказском крае.
Исполнение своих мудрых и в высшей степени гуманных предначертаний государь возложил на генерал-лейтенанта Кнорринга, назначенного тогда военным губернатором Грузии и командующим войсками на Кавказской линии. К сожалению, Кнорринг не принадлежал к числу тех людей, которые имеют дар возбуждать к себе доверие народа, и сразу извратил самый смысл добровольного присоединения Грузии, придав ему вид какого-то насилия. Приехав в Тифлис, он собрал всех жителей города и, окружив их войсками, приказал присягать на верность новому государю. Эта грубая мера и предосторожности, ничем не вызванные со стороны народа, глубоко оскорбили грузин, которые не захотели присягать под угрозой штыков и разошлись по домам. Тогда по приказанию Кнорринга знатнейшие грузинские князья и дворяне были арестованы, и эти аресты еще более возмутили грузин. Между тем сам Кнорринг вскоре уехал на линию и поручил управление страной известному нам Коваленскому. С его отъездом анархия и неурядица в Грузии еще более усилились.
Между тем лезгины, пользуясь внутренними смутами Грузии, чаще, чем когда-нибудь, стали делать набеги и разорять пограничные села. При таком положении дел два полка не могли поспевать везде, где угрожала опасность; русские войска за Кавказом были усилены.
Еще император Павел Петрович, сознавая недостаточность военных средств в Грузии, приказал отправить туда в начале 1801 года Кавказский гренадерский полк (ныне Грузинский), под командой генерал-майора Тучкова. Стояла еще глубокая зима, и полк, покинув обозы, должен был прокладывать себе путь среди громадных снежных сугробов, сплошь заваливших все горные ущелья. Подвигаясь шаг за шагом, теряя на каждом переходе людей и испытывая такие лишения, полк все-таки пробился через грозное Дарьяльское ущелье и стал наконец бивуаком около кистинской деревни Гвелети. Здесь неожиданно нагнал его фельдъегерь с манифестом о кончине императора Павла, и здесь же, у подножия заоблачного Казбека, при шуме сердитого Терека, по колено в снегу, гренадеры принесли торжественную присягу на верность юному монарху.
С прибытием полка в Тифлис один из его батальонов немедленно отправлен был, под командой подполковника Симановича, в Сурам и Гори для прикрытия границ Картли, а батальон Кабардинского полка, под начальством подполковника Солениуса, расположился в Нижней Кахетии. «Это последнее обстоятельство и было, – как справедливо говорит Зиссерман, – началом той системы, которой русские старались обезопасить Грузию от вторжения соседних горцев, системы, развившейся впоследствии до обширных размеров Лезгинской кордонной линии». С тех же пор начинается и мелкая хищническая война, которая закончилась лишь через пятьдесят девять лет пленением Шамиля. Замечательно, что первые нападения горцев устремлялись по преимуществу на русские табуны, ходившие на Алазани. Так, 6 июня 1801 года лезгины угнали табун в казачьем полку, но рота кабардинцев заставила их бросить добычу; через месяц табуны самих кабардинцев едва не попали в руки хищников и уцелели только благодаря стойкости караульной роты. Зимой лезгины также пытались перейти Алазань, но были отбиты на самой переправе, причем в Кабардинском полку был ранен известный своей храбростью штабс-капитан Габуадзе. Таким образом, как этот батальон, так и батальон гренадерского полка подполковника Симановича, стоявший на турецкой границе, не имели буквально ни минуты покоя. Особенно тревожное выдалось лето 1802 года, когда войска положительно теряли возможность поспевать везде, где появлялся неприятель. Памятным событием этого времени остается геройская защита двадцати человек Кабардинского полка, засевших в ветхой каменной башне Чикаанского поста (близ Алазани) и отбивавшихся в течение многих часов, пока не подоспела выручка. Воодушевление рот, спешивших на помощь, было так велико, что штабс-капитан Габуадзе, незадолго перед тем, как мы видели, раненый, услышав выстрелы с поста, не выдержал, поскакал вперед и на глазах отряда был изрублен лезгинами.
До какой степени и сами лезгины умели умирать, можно судить по следующим примерам.
Однажды, в апреле 1802 года, рота Кабардинского полка, под начальством майора Алексеева, настигла хищников, засевших в крепком ущелье среди неприступных утесов и камней. На предложение сдаться лезгины ответили, что пришли не с тем, чтобы отдаться в плен, и сражались отчаянно. Выпустив последние заряды, они кинулись в кинжалы и все до одного погибли на штыках кабардинцев.
Такой же случай был на турецкой границе в июле того же года, когда Симанович истребил партию известного разбойника Кази-Махмада, наводившего своим именем страх на целую Грузию.
С подобными врагами необходима была необычайная стойкость, нужны были значительные силы, а тут обстоятельства еще усложнялись интригами князей и недостойным поведением некоторых грузинских дворян против русской власти. Примером может служить следующий любопытный случай. Однажды лезгины разграбили большое грузинское селение Хистери, принадлежавшее помещику Мурванову. Оказалось между тем, что этот Мурванов отлично знал о движении лезгин, но, полагая, что они идут на Сурам с намерением напасть на русский гарнизон, не только не предупредил об этом коменданта, но, опасаясь, чтобы крестьяне собственной его деревни не известили русских, перепоил всех допьяна. Лезгины же в самую полночь напали на эту деревню и захватили в ней без труда девяносто шесть человек, а в их числе и самого помещика. Измена и крамола гнездились даже в самом Тифлисе, и только этим обстоятельством можно объяснить себе дерзость лезгин, являвшихся под стенами самых предместий его. Однажды, во время такого лезгинского набега, население столицы встревожено было выстрелами и криками, что горит Авлабарский мост. Все бросились туда и увидели, что мост действительно был облит нефтью и подожжен. Пожар успели вовремя потушить. Тем не менее тифлисцы остались в убеждении, что целью поджога было перервать сообщения города с заречной стороной и этим путем предать Авлабар и Куки на жертву хищным лезгинам.
Беспорядки распространились даже на Военно-Грузинскую дорогу, и сообщения с Тифлисом сделались настолько небезопасными, что Кнорринг, возвращаясь из Грузии на линию, должен был отправить вперед роту пехоты и двести казаков под командой майора Буткова[38]. Самым опасным местом на этом пути считалось Ларское ущелье, находившееся во владении одного из осетинских старшин, Ахмета Дударова, который жил на высокой горе, увенчанной каменным замком. Отсюда, с толпой преданных слуг, он выезжал на разбои, грабил проезжающих и собирал дань с проходивших мимо купеческих караванов. Теперь, как только колонна Буткова показалась в ущелье, Дударов поднял красное знамя – сигнал военной тревоги, но, к счастью, Бутков принадлежал к людям энергичным и решительным. Не давая врагу времени собраться с силами, он бросился в деревню Чим, принадлежавшую Дударову, и все, что было вне укрепленного замка, предал истреблению. Красивая мечеть, единственная в крае, построенная еще во времена Шейх-Мансура, превращена была в развалины, деревня сожжена, часть жителей перебита. А со стороны Владикавказа в это время показались пушки…
Дударов понял бесполезность сопротивления.
Беспокойное состояние края, вместе с бестактными и даже корыстными поступками Коваленского, окончательно ожесточили грузин. Народ, прежде только и думавший о том, как бы отделаться от членов царского дома, опять обратился на их сторону. До императора Александра стали отовсюду доходить слухи о беспорядочном управлении Закавказским краем, и 8 сентября 1802 года высочайшим повелением и Кнорринг, и Коваленский были отозваны, а главнокомандующим в Грузию назначен генерал-лейтенант князь Цицианов.
VII. КНЯЗЬ ЦИЦИАНОВ
А. Пушкин
- Я воспою тот славный час,
- Когда, почуя бой кровавый,
- На негодующий Кавказ
- Поднялся наш орел двуглавый;
- Когда на Тереке седом
- Впервые грянул битвы гром
- И грохот русских барабанов,
- И в сече, с дерзостным челом,
- Явился пылкий Цицианов…
Домантович
- Помянем храбрых ветеранов,
- Вождей Кавказа боевых, —
- Тебя, бесстрашный Цицианов,
- Погибший от врагов своих…
Князь Павел Дмитриевич Цицианов происходил из знатнейшей грузинской княжеской фамилии и находился в близком родстве с последним царствовавшим домом Грузии. В русскую службу вступил еще дед его в царствование Анны Иоанновны; он был убит во время шведской войны под Вильманстрандом, и с тех пор семейство князей Цициановых осталось в России навсегда.
Князь Павел Дмитриевич родился 8 сентября 1754 года в Москве. Он начал военную службу в Преображенском полку, но вскоре переведен был в армию и в 1786 году, вместе с производством в полковники, назначен командиром Санкт-Петербургского гренадерского полка.
Дело под Хотином (31 июля 1788 года), где он сражался со своим полком на глазах Румянцева, сразу выдвинуло князя из ряда сослуживцев. Кагульский герой с восторгом смотрел на быстроту, энергию и распорядительность юного полкового командира и тут же, на самом месте боя, предрек ему блестящую военную карьеру. Но турецкая война не дала Цицианову возможности развернуть в полной мере свои боевые достоинства; полк его вскоре был передвинут в Польшу. Но тем не менее он был уже замечен, и в 1793 году, в день торжества заключения мира, произведен в генерал-майоры.
Армия знала Цицианова, впрочем, не по одним военным заслугам; его любили за тонкий, наблюдательный ум и за острый язык, которого побаивались даже сильные мира. В армии ходила в то время по рукам и читалась тайком его известная сатира «Беседа русских солдат в царстве мертвых», где в разговоре убитых солдат Двужильного и Статного изложена была едкая критика на современные военные события и на Потемкина.
Памятный для русских 1794 год застал Цицианова в Гродно, где, по его выражению, «он стоял с полком, как на ножах», потому что в крае с минуты на минуту ожидали восстания. Кровавая резня, известная под именем Варшавской заутрени, нашла себе отголосок в Вильно и в Гродно. В первом из этих городов войска были застигнуты врасплох и понесли немало утрат, но в Гродно мятеж совершенно не удался. Цицианов, не веривший льстивым польским речам, зорко следил за настроением умов, не допускал наплыва в город праздного люда и держал свой полк постоянно наготове. При первом взрыве мятежа он вывел свои батальоны из Гродно, обложил ими город и под угрозой штурма заставил магистрат выдать главных зачинщиков. На жителей он наложил контрибуцию в сто тысяч рублей, назначив для ее сбора однодневный срок; и страшные жерла орудий, наведенные на улицы, вид батальонов, готовых по первому знаку не оставить камня на камне, заставили поспешить с исполнением требований грозного князя. Слух об этом, облетев окрестности, много способствовал тому, что спокойствие и порядок были сохранены в соседних городах и местечках.
Между тем полк получил приказание выступить к Вильно. Цицианов по пути выгнал из Слонима мятежные банды князя Сапеги, затем командовал всеми войсками, которые штурмовали Вильно, а в августе с одним батальоном быстро перешел в Минскую губернию и у местечка Любавы наголову разбил отряд Грабовского, взяв его самого в плен вместе со всей артиллерией. Подвиги Цицианова так выделились тогда на общем фоне военных действий, что сам Суворов в одном из приказов предписывал войскам «сражаться решительно, как храбрый генерал Цицианов»… Ордена Святого Владимира 3-й степени за Гродно, Георгия на шею за Вильно, золотая шпага с надписью «За храбрость» за поражение Грабовского и полторы тысячи десятин земли за окончание войны были наградами князя Цицианова.
Назначенный императрицей в корпус графа Валериана Александровича Зубова, Цицианов участвовал в Персидском походе и некоторое время был комендантом в городе Баку, где сблизился с Гуссейн-Кули-ханом, сделавшимся впоследствии его гнусным убийцей.
Короткий период царствования Павла Петровича, подобно большей части лиц, отличенных Екатериной, Цицианов провел в отставке. Император Александр снова призвал его на службу, произвел в генерал-лейтенанты и 11 сентября 1802 года назначил инспектором Кавказской линии и главнокомандующим в Грузию. Истомленная борьбой Грузия требовала энергичного, твердого правителя, и в этом отношении выбор Цицианова был безошибочен. С назначением его для Грузии наступают лучшие времена, времена действительной защиты царства русским оружием и полной перемены внутренней и внешней политики, приведшей к покорению всего того, что издавна было враждебно царству и мешало его жизни и правильному развитию. При Цицианове уже не враги разоряют Грузию, а сама Грузия берет в свои руки судьбу окружающих ее народов.
Когда Цицианов прибыл в Тифлис, страна, только что присоединенная к России, была раздираема еще внутренними смутами, во главе которых становился то тот, то другой царевич, домогавшийся сесть на престол Ираклия. Цицианов, сам грузин и близкий родственник царицы Марии, вдовствующей супруги Георгия XIII, урожденной также княжны Цициановой, хорошо знал свою родину и имел то убеждение, что России предстоит одно из двух: или отозвать обратно войска и бросить страну на жертву анархии, или же ввести твердое управление, сообразное с достоинством и нуждами народа, но что в этом случае всех членов грузинской царской фамилии необходимо было выслать из Грузии в Россию.
Получив на то разрешение еще в Петербурге, Цицианов принялся за дело со свойственной ему энергией и настойчивостью. Напрасно царицы притворялись больными, напрасно царевич Вахтанг разыгрывал комедии, бросаясь перед ним на колени: все те, которые не бежали из Грузии, должны были отправиться в Россию. Очередь дошла наконец и до царицы Марии. Она сказалась больной, задумав в тот же день бежать из Тифлиса вместе со своими сыновьями. Цицианов, извещенный заранее о намерении царицы, приказал генералу Лазареву арестовать ее, в то время как генерал Тучков должен был захватить царевичей. Тучков удачно исполнил поручение и в тот же день вывез арестованных в Мцхет, откуда все царское семейство должно было ехать в одном общем поезде. Но не так счастлив был Лазарев. В шесть часов утра 19 апреля он прибыл в дом царицы и объявил ей волю князя Цицианова. Царица приняла его в постели и ответила, что ехать не желает. Тогда Лазарев, оставив при ней одного офицера, сам отправился сделать все нужные распоряжения. Но едва он вышел, как необычайный шум в покоях царицы заставил его вернуться. Там шла ожесточенная борьба: царевич Джабраил и царевна Тамара с кинжалами в руках напали на русского офицера. Лазарев подошел к кровати, на которой лежала царица, чтобы уговорить ее остановить детей, как вдруг в руках самой Марии сверкнул кинжал, и Лазарев, пораженный в бок, мертвым упал на пороге комнаты. Происшествие это наделало тревоги в целом Тифлисе. Все высшие сановники тотчас же съехались к царице, уговаривая ее не противиться воле русского государя, но она ничего не хотела слушать. Тогда полицмейстер Сургунов, завернув свою руку в толстую папаху, решительно и смело подошел к царице и вырвал из ее рук оружие. Царевна Тамара кинулась на помощь к матери с кинжалом в руках, но второпях она промахнулась и ранила самую же царицу в плечо. Царское семейство было арестовано и в тот же день отправлено в Мцхет. Цицианов был справедливо раздражен смертью Лазарева и предписал Тучкову обращаться во время пути с Марией и ее детьми не как с особами царского рода, а как с простыми преступниками.
Тело Ивана Петровича Лазарева предано было погребению с большими почестями в тифлисском Сионском соборе, где впоследствии неподалеку поставлена была гробница и князя Цицианова. А царица Мария по приезде в Россию была заключена в Воронеже в Белгородский женский монастырь и только по прошествии семи лет получила прощение и спокойно дожила свой долгий век в Москве, где умерла в 1850 году восьмидесяти лет от роду.
Прошло сорок семь лет со дня кровавой катастрофы, лишившей Россию доблестного Лазарева, и всепрощающая смерть примирила почившую с русским народом. Все было забыто, все прощено, и прах последней грузинской царицы с торжеством и военными почестями возвратился на родину.
17 июня 1850 года все дороги к Мцхету были покрыты массой народа, стремившегося встретить похоронный кортеж, медленно приближавшийся со стороны Душета. Хоронили царицу Марию Георгиевну. Впереди всех шла конная дружина грузинских князей и дворян со знаменем, окутанным флером; за ней сословные представители царства, многочисленное духовенство и штаб-офицеры, несшие на подушках герб Грузии, орден Святой Екатерины 1-й степени, корону и царскую мантию. Погребальную колесницу, осененную балдахином и также увенчанную царской короной, везли шесть лошадей под черными попонами с гербами почившей царицы. Почетнейшие князья стояли у штангов, массивные серебряные кисти поддерживали чины дипломатического корпуса, а конец порфиры, заменявшей погребальный покров, несли четыре офицера. За колесницей следовали высшие представители власти, родственники царицы и толпы народа. Пехотный полк, шесть орудий и конный отряд жандармов сопровождали шествие.
Унылый перезвон колоколов, рыдающие звуки погребального марша, траурные одежды присутствующих, дымящиеся факелы и, наконец, эта свежая раскрытая могила в сонме царских гробниц, готовая принять еще один венчанный прах для вечного успокоения, – все это производило глубокое впечатление на народ, помнивший еще и прошлое величие, и годы тяжелых бедствий, пережитых им под скипетром царей Багратидов.
У входа в ограду Мцхетского собора, служившего старинной усыпальницей грузинских царей, гроб встретил экзарх Грузии и проводил его в церковь, где всю ночь стояло почетное дежурство, служились панихиды и народ прощался с усопшей царицей. На следующий день были похороны; заупокойную обедню служил сам экзарх, и после торжественной панихиды гроб опустили в могилу при громе пушек и ружейных залпов – и это были последние земные почести той, которая лишена была их в течение своей долгой жизни.
Но возвратимся к давно минувшим временам, когда царице пришлось еще только расстаться с родиной.
Успокоив страну от внутренних беспорядков и междоусобий, Цицианов обратил все свои усилия на внешние дела Грузии. Отлично понимая дух азиатских народов, умевших преклоняться только перед одним аргументом – силой оружия, Цицианов сразу переменил обращение с соседними татарскими ханами и принял по отношению к ним совершенно иную систему, чем та, которой держался до него Кнорринг.
До тех пор русское правительство как бы старалось снискать к себе расположение их подарками и жалованьем. Цицианов отменил и то и другое и сам потребовал от ханов дани. «Страх и корысть – суть две пружины, которыми руководятся здесь все дела и приключения, – писал он императору Александру I. – У здешних народов единственная политика – сила, а лучшая добродетель владельца – храбрость и деньги, которые нужны ему для найма лезгин. Поэтому я принимаю правила, противные прежде бывшей системе, и вместо того, чтобы жалованьем и подарками, определенными для умягчения горских нравов, платить им некоторого рода дань, я сам потребовал от них оной».
Свято держа обещания, Цицианов никогда не расточал своих угроз понапрасну. Он знал, что каждый владелец, в сущности, готов был повторить ответ, данный одним из них русскому главнокомандующему: «Приди и покажи свою силу», – и потому старался прежде всего разъяснить им в своих прокламациях все необъятное величие России и ничтожность их перед ней. Повелительный и резкий тон, с которым он к ним обращался, шел как нельзя лучше к тогдашним обстоятельствам и производил на азиатов сильное впечатление. Слог его писем был оригинален, силен и резок, как дамасская сталь…
«Статочное ли дело, – писал он в одной из своих прокламаций, – чтобы муха с орлом переговоры делала…»
Первыми испытали на себе тяжелую руку князя Цицианова джаро-белоканские лезгины, у которых скрывались беглые грузинские царевичи. Цицианов потребовал их выдачи. В воззвании к лезгинам по этому поводу Цицианов писал между прочим: «Вы – храбрые воины, вы и должны любить храбрых. А кто же храбрее русских? Пуля ваша пяти человек не убьет, а моя пушка картечью или ядром за один раз тридцать человек повалит. Измеряйте все это…»
Получив отказ, князь Цицианов послал генерал-майора Гулякова наказать лезгин. Гуляков быстро достиг Алазани, разбил и уничтожил все, что только осмелилось противостоять ему с оружием в руках, и занял главные селения лезгин. Тогда Цицианов объявил всю область присоединенной к России и обложил ее данью. Так было возвращено Грузии ее древнее достояние, и гроза Закавказья, притон всех дагестанских хищников, вольный Джаро-Белоканский союз потерял свою независимость.
Кахетия, быть может, в первый раз была прочно освобождена от вечного страха лезгинских погромов. Но в то время, как Кахетия была ареной разбоев и грабежей лезгин джаро-белоканских, Картли почти в той же мере страдала от их соплеменников со стороны Ахалцихе. Появление русских за Кавказом скоро должно было положить предел и их хищничеству, и когда, в 1802 году, в Картли появились русские батальоны, под начальством Симановича, и дали несколько уроков дерзкой азиатской коннице, то впечатление от них было настолько сильно, что ахалцихские лезгины в течение целого года не осмеливались тревожить грузинские границы. Но, когда начались приготовления к персидской войне и Симанович ушел со своими гренадерами, а на смену ему в Гори прибыл новый егерский полк, вызванный с Кавказской линии и еще неопытный в азиатской войне, ахалцихские лезгины попытались еще раз воспользоваться хлопотливым для русских временем. Тогда произошел один из тех кровавых эпизодов, которые, при кажущейся неудаче, наносят неприятелю страшное нравственное поражение. Горсть русских солдат, самоотверженно погибших в неизмеримо неравной борьбе, но внесших зато страшное опустошение в ряды неприятеля, показала лезгинам силу беззаветного сознания и исполнения долга, стоящую целой армии и в самых своих ошибках поражающую и зовущую следовать своему примеру. Этот эпизод увековечил имя капитана Секерина, который в ошибочном увлечении своем, поведшем к гибели отряда, дал пример нравственной силы, не знающей отступления перед неудачей. Дело было так.
Выступая под Ганжу, Цицианов, чтобы прикрыть Тифлис со стороны Ахалцихе, поставил в Гори и Цалке два небольших отряда, а так как прямого сообщения между этими пунктами не было, то капитан-исправнику Енохину приказано было немедленно приступить к разработке пути, удобного для движения обозов и артиллерии. В распоряжение Енохина были даны сто восемь грузинских рабочих и прикрытие из девяти казаков и одиннадцати егерей девятого полка.
Работа скоро была окончена. Но когда Енохин (12 июня 1803 года) возвращался домой, то верстах в двадцати от Цалки на него внезапно напала сильная партия в шестьсот – восемьсот лезгин, вышедшая из ахалцихских пределов. Люди Енохина частью были изрублены, частью захвачены в плен, и только сам он и шесть казаков спаслись благодаря быстроте своих лошадей. Они, проскакав в три часа около семидесяти верст, первые явились в Гори с известием, что по правому берегу Куры на деревню Хавли идут лезгины. Несмотря на поздний час – было уже десять часов ночи, – полковник Цехановский (шеф егерского полка), заведовавший горийским кордоном, тотчас же отправил к Хавли навстречу неприятелю тридцать егерей, под командой штабс-капитана Богданова. Но егеря не прошли и трех верст, как получили приказание вернуться и идти в селение Карели, куда, по слухам, направились лезгины и где стояла рота полка Цехановского. В то же время и сам Цехановский, в сопровождении только пяти казаков, поскакал туда же, желая лично присутствовать при первом деле своих егерей с лезгинами. Но и егеря, и он опоздали – катастрофа в Карели уже совершилась.