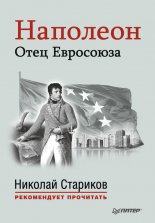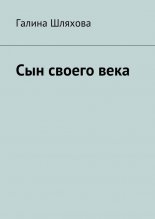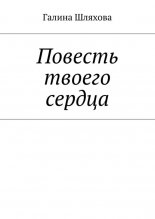Кавказская война. В очерках, эпизодах, легендах и биографиях Потто Василий

Новоявленный пророк хорошо знал почву, на которой действовал; он ловко перемешивал догматическое учение с предписаниями практическо-житейского характера в духе покладистой мусульманской морали. Он знал также, какие опасности ждут на первых шагах пророков-реформаторов ислама в том случае, когда проповедь не поддержана действительной физической силой. На вопросы, откуда он и кто, он гордо отвечал:
– Никто не знает, кто я, и никто этого не узнает. Тайна останется тайной, и враги будут посрамлены. Но для славы Божьей я буду являться в мир всякий раз, когда нечестие станет опасным правоверию. Кто за мной пойдет, тот будет спасен, а кто не пойдет за мной, против того я обращу оружие, которое пошлет мне пророк. Им я накажу нечестивых и обращу неверных.
Несмотря на красноречие проповедника, успех нового учения на первых порах нельзя было назвать блестящим. Последователей у него оказалось всего девяносто шесть человек. Но пророк не падал духом. Разделив их на четыре отряда, он двинулся с этой армией из Амадии завоевывать мусульманский мир.
В наши дни такое войско, несомненно, ночевало бы в кутузке, но сто лет тому назад, и притом в Курдистане, дело разыгралось совсем иначе.
Источники, которыми пользовался профессор Оттино, представляют подвиги Шейх-Мансура, в противоречие русским официальным данным, в таких обширных размерах, которых они в действительности едва ли могли достигать. В случае признания туринских документов неоспоримо подлинными, остается весьма правдоподобное предположение, что Шейх-Мансур имел свои виды и в дневнике, и в письмах преувеличивать значение своих походов. Но так или иначе, походы эти представляются в следующем виде.
В первом же по пути селении пророк собрал жителей, объявил им о своем божественном посланничестве и изложил перед ними догматы нового учения. Признавшие пророка были немедленно зачислены в ряды войска; оказавшиеся неверующими и упорствующими поголовно вырезаны. Тем же упрощенным способом были просвещены светом нового учения жители нескольких селений и городов Курдистана. Способ оказался настолько убедительным, что к укрепленному городку Битлису пророк подступил уже во главе армии в несколько тысяч человек. Город имел двадцать тысяч жителей и вздумал защищаться, но был взят приступом. Турецкий гарнизон истреблен, а самый город отдан на разграбление.
Слава пророка и рассказы о том, как он управляется с закостенелыми грешниками, пронеслись по всему Курдистану и нагнали такой ужас на жителей, что города стали сдаваться уже без сопротивления. Один Ахалцихе, понадеявшийся на свой пятитысячный гарнизон и сильную артиллерию, встретил его оружием. Но город будто бы взят был штурмом, и на дымящихся развалинах его фанатизированные толпы провозгласили пророка Мансуром, то есть Победоносным.
Полчища завоевателя возрастали; к ним примкнули шайки из гор и ущелий Кавказа. Мансур с сорокатысячной толпой двинулся к Арзеруму и занял его без боя. Далее источники приписывают Шейх-Ман суру взятие Карса, поражение на берегах Куры грузинской армии и русского отряда и даже взятие Тифлиса.
После этих громких побед, неоправдываемых, правда, русскими источниками, обещанный Потемкину поход на Константинополь мог уже быть совсем не фантастическим предприятием, Турции могла грозить серьезная опасность. И Мансур писал в одном из своих писем к отцу: «Если угодно Богу, я увижу падение Константинополя, а за ним и падение папского Рима, так как папа римский, константинопольский муфтий и шериф Мекки – одинаковые невежды и обманщики, слепые вожди слепцов. Придет время, и погибнут все Вавилоны». Замечательно, что эти же слова введены были в самый тезис его мусульманского учения.
Какие соображения побудили Мансура оставить в покое турок и перенести свою завоевательную деятельность к границам России – неизвестно. С большим правдоподобием можно предположить, однако, что решение это было вызвано сообщениями его друзей о том, что Россия, Австрия, Франция и Англия не станут выжидать завоевания им Константинополя, а распорядятся и с ним самим. Горы Кавказа между тем представляли собой менее блистательное, но зато более правдоподобное царство и во всяком случае надежное убежище. Но тут он сталкивается с интересами России.
Русские источники иначе передают и происхождение Шейх-Мансура, и его военную карьеру. Тут мы встречаемся, однако, тоже с двумя толкованиями. Достаточно известный русский мусульманский ученый Казем-бек говорит, что Шейх-Мансур был родом из оренбургских татар и получил духовное образование в одном из важнейших центров мусульманской религиозной учености, в Бухаре, откуда он и занес на Кавказ зачатки нового учения. Собственно же русские военные донесения, основанные, вероятно, на показаниях чеченцев, называют Шейх-Мансура уроженцем чеченского селения Алды, где он имел будто бы братьев. Изучив Коран под руководством одного из ученейших мулл Дагестана, он возвратился на родину, где из-за нищеты и бедноты вынужден был пасти скот у своих односельцев. По чеченской легенде, он здесь решился воспользоваться легковерием правоверных. Однажды жители селения Алды узнали, что Мансур видел сон, несомненно доказывающий, что он пророк и избранник Божий.
«Во сне, – говорил Мансур своим братьям, – я видел, что ко мне явились два таинственных всадника и именем Бога велели идти проповедовать народу истины ислама. Я думал уклониться от этого, ссылаясь на свое убожество, но один из всадников сказал мне: «Иди! Аллах будет вещать твоими устами, и народ поверит всему, что ты ему скажешь».
Молва об этом чуде быстро разнеслась по аулу и взволновала народ. А между тем Мансур, запершись в своем доме, три дня провел в посте и молитве. Только по истечении этого срока он вышел на крышу своей сакли и тихим голосом стал созывать к себе односельцев. Когда собрался народ, Мансур стал проповедовать. Он говорил об истинах ислама, о том, что истины эти забыты и попраны чеченским народом, указывал на близость кончины мира, на приближающееся царствование Иссы…
Его воодушевление и страстная речь, льстившая народным инстинктам, поразили пылких слушателей и сразу привлекли к нему толпу последователей. Народ увидел в бедном пастухе действительного избранника, ниспосланного Богом, и слепо поверил новому учению. Алдинцы первые решились бросить взаимные распри, перестали курить табак, пить бузу и составили вокруг Мансура почетную стражу, которая находилась при нем безотлучно.
Появление пророка скоро стало известным и в соседних аулах. Со всех сторон начали сходиться чеченцы, чтобы посмотреть на него. Но он показывался редко, и то не иначе как под густым покрывалом. Неудовлетворенное любопытство заставило сильнее работать воображение, и скоро о Мансуре стали рассказывать необычайные вещи, о которых и сам он никогда не думал. Слава его росла далеко за пределами Чечни: о нем говорили уже на Кумыкской равнине, в горах и в отдаленнейших недрах Дагестана.
Мансур искусно воспользовался настроением умов и, заручившись значительным числом прозелитов, стал проповедовать уже газават – священную войну против неверных. С этих пор его проповедь, теряя мало-помалу религиозный характер, обращается в политическое учение, сделавшееся весьма опасным для русского влияния на Кавказе.
Так изображают судьбу Шейх-Мансура русские источники. Правы ли они, или Шейх-Мансур – итальянский или другой какой-нибудь искатель приключений, сказать наверное невозможно. Можно, однако же, предполагать, что каждый народ и каждый аул Чечни и Дагестана не прочь был назвать себя родиной «великого пророка». Одна из подобных легенд могла дойти в ущерб истине до русских властей и закрыть от них собой дальнейшие, внекавказские похождения Шейх-Мансура.
Русские власти, естественно, могли смотреть на Шейх-Мансура преимущественно с точки зрения влияния его на русские пределы. И в этом отношении все известия, сохранившиеся в донесениях войсковых начальников, носят характер несомненной исторической истины. И вся военная деятельность Шейх-Мансура на Кавказе должна быть описываема и оцениваема только по русским источникам. А эти источники говорят о целом ряде тревог и битв, вызванных учением и деятельностью Шейх-Мансура. Одним из страстных и настойчивых стремлений Шейх-Мансура было соединить в одно все горские народы. На то, чтобы помешать этому, и были направлены все усилия русского оружия. Сознавая необходимость подавить зло в самом его зародыше, Потемкин приказал известному своей энергией командиру Астраханского пехотного полка полковнику Пьери быстрым движением в Алды захватить бывшего тогда в этом ауле Мансура. К сожалению, первая попытка в этом направлении была весьма неудачна.
Присоединив к Астраханскому полку батальон кабардинцев, две роты томцев, сотню терских казаков и два орудия, Пьери прибыл с этими силами на Сунжу и, оставив здесь все тяжести, налегке двинулся далее, к Алдам, до которых, как ему говорили, оставалось только около пяти верст. Пройдя дремучими лесами со стороны Калиновской станицы, Пьери напал на аул врасплох, но Мансур при первых выстрелах успел бежать из селения. Таким образом, главная цель экспедиции не была достигнута, и только богатые Алды были преданы пламени. Полагая, что разрушением Алдов неприятель достаточно наказан, Пьери начал отступать обратно за Сунжу, но это отступление и было причиной гибели отряда. Как только войска втянулись в лес, лежащий между Алдами и Сунжей, чеченцы напали на отряд и почти весь его уничтожили. Сам Пьери был убит, а командир Кабардинского батальона майор Комарский смертельно ранен. С потерей начальников люди расстроились, дрогнули и побежали. Чеченцы преследовали их с необычайной яростью – резали, брали в плен и топили в Сунже. При этом несчастном отступлении отряд потерял оба орудия (впоследствии выкупленные у чеченцев за сто серебряных рублей), восемь офицеров и более шестисот нижних чинов, не считая раненых. Нелишне прибавить, что в числе немногих уцелевших был унтер-офицер князь Петр Иванович Багратион, бывший в тот кровавый день ординарцем при Пьери.
На другой день после поражения отряда Пьери на Сунжу прибыл бригадир Апраксин со значительными силами. Наткнувшись случайно на чеченцев, он преследовал их до Алхановой деревни, сжег ее и, возвратившись в Кабарду, написал напыщенное донесение о подвигах своего отряда. Потемкин остался всем этим весьма недоволен. «Если это были жители только одной алханской деревни, – писал он Апраксину, – то о преимуществе, одержанном над ними столь знатными силами, как ваши, можно бы было сказать покороче, а что касается трофеев, то снятый с мертвого патронташ, нечто, похожее на барабан, и знамя могли бы быть обойдены молчанием».
Несчастное поражение Пьери, первое в ряду немногих, выпавших на долю русских войск на Кавказе, имело для края тяжелые последствия. Весть о печальной участи русского отряда мигом разнеслась по горам, и от всех кавказских племен под знамя пророка устремились новые толпы приверженцев. Мансур между тем торжественно объявил, что в скором времени пойдет на Кизляр. В июле он действительно атаковал Каргинский редут, находившийся верстах в пяти от Кизляра. Небольшой гарнизон оказал ему, однако, такое отчаянное сопротивление, что чеченцы, несмотря на свое огромное численное превосходство, не могли овладеть укреплением и только зажгли прилегавшие к нему деревянные строения. Распространившийся пожар быстро достиг порохового погреба, и укрепление взлетело на воздух, похоронив под своими развалинами геройских защитников. Шейх-Мансур торжествовал эту новую победу и отправился к Кизляру.
Рассказывают, что два казака, бывшие на охоте, случайно наткнулись на горцев, двигавшихся к переправе, и известили крепость. А горцы между тем, как говорят, изменой были заведены в топкое болото с трясинными окнами и попали в очень опасное положение. Настал беспорядок, шум и вопли увеличивались с каждой минутой, наездники теснили друг друга и, стараясь выбраться, тонули в бездонной трясине. Лошади, предчувствуя гибель, фыркали, бились и сбрасывали всадников. К довершению ужаса справа загудели выстрелы. Терские казаки поспели вовремя и, мало-помалу обходя болота, поставили хищников под перекрестный огонь. Немногие из последних, растеряв коней, прорубились на свободу и вплавь перебрались за Терек. Сам Шейх-Мансур едва не утонул в болотах. Мрачный и угрюмый, окруженный толпой безмолвных горцев, переправился он за Терек и пустился вслед за своей шайкой.
Весть о гибели наездников в кизлярских болотах скоро разнеслась по целой Чечне, но Шейх-Мансур не думал отказываться от своего намерения, он только решил сначала усилить свои скопища кабардинцами, давно уже искавшими случая пристать к чеченским хищникам.
С появлением Шейх-Мансура в Кабарде народ, а за ним и князья почти поголовно стали переходить под его знамя. Скоро силы Шейх-Мансура возросли до весьма значительной цифры, и он решился напасть на Григориополис[25], где стоял батальон пехоты под командой храброго подполковника Вреде. 29 июля многочисленные полки неприятеля со всех сторон обложили укрепление и открыли по нему сильный ружейный огонь, на который осажденные почти не могли отвечать, так как горцы искусно пользовались для своего укрытия оврагами и каменьями. Обстоятельство это заставило Вреде придумать весьма остроумный способ для поражения чеченцев. Рассказывают, что он, желая выманить их на более открытое место, стал выпускать из крепости скот, и в ту минуту, как жадные чеченцы кидались за этой добычей, он бил их картечью. Такой маневр удавался довольно долгое время, и тридцать голов скота, выпущенного из крепости в разное время, дорого стоили чеченцам.
Между тем перестрелка длилась до наступления сумерек. Вечером неприятель зажег деревянные постройки, принадлежавшие какому-то полку, и под прикрытием густого дыма стал подходить все ближе и ближе к крепости. Число неприятельских стрелков также увеличилось. Вреде понял опасное положение своего гарнизона и решился поправить дело отчаянной вылазкой. Восемьдесят человек охотников и сто казаков, под прикрытием огня крепостных орудий, с разных сторон выскочили из укреплений и с криком бросились на неприятеля. Нападение было так неожиданно, что чеченцы в страхе бросились бежать, и к утру в окрестностях Григориополиса не было видно ни одного неприятельского всадника.
Поражение Мансура дурно повлияло на умы правоверных горцев, и они начали даже сомневаться в неподложности своего пророка. Видя это и чтобы поправить дело, Мансур поспешил в Чечню, объявляя всем, что идет на Кизляр, который должна постигнуть участь Каргинского редута. Обещание было заманчиво. Богатый город с его хуторами и армянскими лавками, полными товаров, представлял собой привлекательную цель для набега, и горцы на этот раз легко поддались влиянию пророка.
Несмотря на то что в Кизляре собрано было до трех тысяч войска, весть о намерении горцев всполошила всех жителей. В их памяти свежи были недавние погромы кистин, а тут еще новые рассказы о поражении Пьери, о гибели Каргинского редута; о странно-таинственной личности бог весть откуда явившегося чеченского пророка. Очевидно, Шейх-Мансур поразил воображение не одних горцев, а и русских.
Кизлярцы были в унынии. Один из очевидцев той эпохи говорит, что картина была действительно печального свойства: испуганные дети кричали, женщины плакали и, теряя голову, не знали, за что приняться, седые старики сумрачно глядели на семьи и торопливо прятали и убирали пожитки. Многие бежали в Астраханские степи. Казаки, с вечера отправленные за Терек, заклинали друг друга стоять за родные станицы и «падать спиной» в Терек, если не одолеют «пастуха-волка», как они называли Мансура.
Ночь прошла, однако же, благополучно. Под утро, когда после всей этой тревоги жители стали уже забываться сном, вдруг тучи пыли поднялись за Тереком, и в крепости раздалось роковое: «Идут». Крепость вздрогнула, как от удара грома.
Чтобы ободрить народ, русские и армянские священники ходили по улицам города, пели молебны и кропили христиан святой водой. Суета, шум и тревога были повсюду, и лишь русские солдаты молча стояли в своих рядах.
Был уже полдень, когда чеченцы стали переходить через Терек верстах в пятнадцати ниже Кизляра. По донесению гребенских казаков, стоявших в пикетах, их было не менее десяти – двенадцати тысяч. Отсюда вся масса их двинулась к Кизляру. Но как только она добралась до садов, окружающих город, где были хутора, то, не внимая больше голосу своего предводителя, бросилась грабить. Весь день неприятель опустошал сады и только под вечер 20 августа пошел наконец на штурм крепостной ограды, возведенной вокруг форштадта. Пять раз толпы его бросались на приступ и всякий раз были отброшены с огромным для них уроном. Гребенские казаки с атаманом Сехиным и Терское войско с князем Бековичем-Черкасским, оборонявшие вал, покрыли себя в этот день блистательной славой.
Значительные потери заставили Мансура отказаться от намерения овладеть Кизляром открытой силой. Зато на следующий день он вдруг обрушился на Томский пехотный полк, стоявший лагерем вне укрепления, и это была последняя попытка неприятеля. С отступлением томцев в редут горцы встречены были сильным перекрестным огнем со всех батарей и в беспорядке отступили за Терек.
Новая неудача под Кизляром сильно подействовала на сообщников Мансура, увидевших, что предсказания пророка не сбываются, а, напротив, последователи его терпят только одни поражения. Чеченцы первые от него отложились. Шейх-Мансур скрылся в кумыкские селения и стал собирать под свои знамена толпы бездомовников, искателей приключений, вообще людей сомнительного поведения. Между тем восстание в Кабарде, не угасавшее со времени григориополисской осады, принимало все большие и большие размеры; кабардинцы звали Мансура к себе и делали большие приготовления к торжественной встрече пророка. Они предполагали идти с Мансуром на левый берег Малки для опустошения линии и даже Астрахани. Нетерпеливейшие из его сторонников устремились в начале октября на Наур и на Моздок, но были отражены.
В таком положении были дела, когда Потемкин отправил против Мансура командира Кабардинского пехотного полка полковника Нагеля[26] с отрядом из четырех батальонов пехоты, двух эскадронов астраханских драгун, Моздокского казачьего полка и трех сотен казаков: донских, терских и гребенских. Нагелю категорически приказано было или разбить Мансура, или по крайней мере помешать соединению его с кабардинцами.
Противники встретились 30 октября невдалеке от Моздока. Обе стороны сражались с одинаковой храбростью и после пятичасового отчаянного рукопашного боя удержали каждый свои позиции. 2 ноября бой возобновился у Татартуба. Это был в то время один из наиболее значительных кабардинских аулов, следы которого теперь заметны только по одному высокому минарету, доныне красующемуся еще в окрестностях Змейской станицы на старой Военно-Грузинской дороге. Говорят, что в старину на этом месте был значительный город, и если только это тот самый Татартуб, близ которого Тамерлан разбил Тохтамыша в 1395 году, то минарет и аул – древнейшие памятники и, может быть, немые свидетели важнейшего для России исторического события. У этих развалин 2 ноября 1785 года произошел роковой для Мансура Татартубский бой. Огромное двадцатитысячное скопище горцев на заре со всех сторон облегло отряд полковника Нагеля. С фронта наступали чеченцы, слева тавлинцы, а справа шла кабардинская конница под предводительством известного тогда наездника Дола. В то же самое время кумыки, среди которых развевалось большое священное знамя пророка, как туча, шли в тыл, угрожая отрезать отряду отступление. Яростный бой загорелся разом в нескольких пунктах. Выдержав отчаянную атаку тавлинцев, сражавшихся пешком, отряду легко уже было управиться с чеченцами и кабардинцами. Кумыки вступили в дело позднее других, но, двигаясь под прикрытием особых подвижных щитов[27], представляли собой грозную стену, против которой было бессильно даже действие артиллерии.
Тогда храбрый Нагель встретил наступавших штыками и, отняв щиты, обратил неприятеля в бегство. Сам Шейх-Мансур одним из первых оставил поле сражения. Торопясь уйти от преследования, неприятель оставил в горных ущельях все свое имущество, которое и было захвачено войсками. Трофеев также было взято немало, но Потемкин распорядился с ними по-своему. «Знамена их, – доносил он князю Таврическому, – не нашел я достойным поднести вашей светлости, а, обругав их при собрании тех кабардинских владельцев, кои у меня находились в стане, через профоса сжечь приказал».
Таким образом, Татартубский бой являлся блистательной отместкой чеченцам за истребление отряда Пьери, и имя полковника Нагеля, тесно связанное со славным делом поражения Шейх-Мансура, принадлежит истории Кабардинского полка как имя начальника, в школе которого полк начал свои первые боевые уроки в Кавказской войне[28].
Деморализация в разбитых шайках пророка после этого боя была до того велика, что горцы восстали друг против друга. Лезгины резали чеченцев, чеченцы хватали лезгин и, как рабов, продавали в Турцию. Шейх-Мансур ушел за Кубань и там искал покровительства турецких пашей, занимавших приморские крепости. Здесь ему удалось распространить свое влияние на закубанских черкесов. Закубанские горцы вовлечены были в общий поток восстаний и на горячую речь проповедника ответили грозным набегом на Моздокскую линию весной 1786 года. Сильная партия их прорвалась тогда до самого Александровского города, сожгла село Новосельцево, увела в плен до двухсот жителей и угнала девять тысяч голов скота. Вторичная попытка была отражена полковником Муфелем, но, когда настали темные осенние ночи, черкесы перешли Кубань, сорвали пост Безопасный, встревожили Донскую крепость и даже появились на пути к Черкасску. Двухтысячная партия их с турецкой пушкой бросилась ночью 2 ноября на Болдыревский редут на реке Ее, где стояли три донских казачьих полка под командой полковников Бузина, Денисова и Грекова. Что произошло тут – неизвестно; официальные документы говорят только, что казаки были тогда разбиты наголову, полковник Греков и с ним сто пятьдесят донцов взяты в плен и впоследствии перерезаны.
Быть может, к этому событию относится следующая поэтическая песня:
- На линии было на линеюшке,
- На славной было на сторонушке,
- Там построилась новая редуточка;
- В той редуточке стояла командушка,
- Что донская команда казацкая;
- А уж во командочке приказным был Агуреев сын.
- За неделюшку у Агуреева сердечушко не чуяло,
- За другую стало сказывать,
- Как за третью за неделюшку вещевать стало;
- Наехали гости незваные-непрошеные,
- Стали бить и палить во редутушку
- И повыбили всю командушку казацкую;
- Агуреев сын ходит-похаживает,
- Свои белые руки поламывает,
- Буйной головушкой покачивает:
- «Вы сами, ребятушки, худо сделали,
- Не поставили караула, сами спать легли.
- Не бывать вам, ребятушки, на тихом Дону,
- Не видать вам, ребятушки, своих жен, детей,
- Не слыхать вам, казачушки, звону колокольного…»
К счастью, дерзкие набеги закубанских горцев на Северную крепость и на отряд подполковника Финка, стоявшего у Темиш-бека, были отражены с большим для них уроном.
Между тем вскоре началась вторая турецкая война, и смуты, вносимые в Закубанье Шейх-Мансуром, были особенно неудобны. Желая покончить с ним во что бы то ни стало, Потемкин осенью 1787 года двинул к вершинам Зеленчука и Урупа три сильных отряда под командой полковника Ребиндера и генерал-майоров Ратиева и Елагина. Елагин отделил от себя два летучих отряда, поручив их известным своей отвагой полковникам Булгакову и Депрерадовичу, а они, перейдя за Кубань, сражались в течение нескольких дней и положили на месте больше двух тысяч черкесов, сожгли много аулов, отбили громадное количество скота, потеряв сами трех офицеров и до ста пятидесяти нижних чинов. Пока Елагин громил черкесские скопища, Ребиндер первый встретился с Мансуром, стоявшим между Лабой и Урупом. Шестьсот арб, уставленных вокруг, вагенбургом, представляли собой достаточно крепкую ограду против открытого штурма. Ребиндер, услышав притом, как горцы запели предсмертную молитву, заключил из этого, что они твердо решили защищаться до последней крайности. Не желая напрасно терять людей, он выдвинул вперед артиллерию. Ядра, картечь и гранаты быстро разметали оплот, и черкесы бежали сами, оставив свой вагенбург и в нем четыреста трупов.
Ребиндер остановился на ночь около Чильхова коша и здесь, на рассвете 21 сентября, внезапно был атакован всеми силами Мансура. Завязалось жаркое дело. Ростовский конно-карабинерный полк, ударивший на закубанцев, был ими смят и опрокинут, астраханские драгуны подоспели на выручку и, в свою очередь, сбили закубанцев. Когда на пушечные выстрелы подошел сюда генерал-майор Ратиев, дело уже было окончено, и Шейх-Мансур, отступив, остановился в десяти верстах от поля сражения.
На другой день бой возобновился. Но, как ни храбро дрались черкесы с Мансуром во главе, Ратиев рассеял их скопища и предал пламени все окрестные селения, в одном из которых сгорел между прочим и дом самого лжепророка. Наша потеря не превышала пятидесяти человек, но в этом числе русские лишились походного казачьего атамана Янова, раненного двумя стрелами в голову.
Та же неудача преследовала Мансура и в следующем году, когда генерал Текелли разбил его на реке Убынь. Здесь под Мансуром была убита лошадь, и он пешком едва успел спастись от неминуемой гибели или плена.
Покинутый горцами, Мансур опять нашел себе убежище в Анапе. Но крепость эта в 1791 году, после кровопролитнейшего штурма, была взята генералом Гудовичем. Защитники Анапы были истреблены почти поголовно, но в числе немногих пленных находился и Шейх-Мансур, бывший, как говорят, душой всей обороны. В последние минуты боя он заперся в землянке вместе с шестнадцатью своими приверженцами, но землянка была окружена войсками и скоро взята. Плененный Мансур отправлен был в Петербург. Императрица пожелала видеть пленника, и его привезли в Царское Село, где тогда находился двор. Там, как рассказывают, его приказали водить около дворцовой колоннады взад и вперед под окнами, из которых на него смотрела Екатерина.
Мансур сослан был в Соловецкий монастырь. Одни говорят, что Мансур умер там в заточении, другие указывают, что на северо-восточной стороне Соловецкого острова и теперь еще есть следы небольшого, окруженного садом домика, в котором, по словам старожилов, жил какой-то пленный чужеземец, и что этот чужеземец и был Шейх-Мансур. Домик этот теперь обвалился, и время уничтожает его последние остатки. Последнее письмо Мансура, приведенное профессором Оттино, действительно помечено: «Соловецк, 15 сентября 1798 года» и подписано «Джованни Батиста Боэтти, проповедник». В письме этом он просил прощения у своего престарелого отца.
Мансур умер. Но дело его и его мысль не остались без результата, и мюридизм, правда, спустя уже много лет после него, все-таки поднял голову. Он получил широкое развитие, когда во главе движения стал Кази-мулла, а за ним последовательно явились Гамзат-бек и Шамиль – эти последние представители фанатичной секты, стоившей России тридцатилетней борьбы и потоков крови.
XIII. ЗАКАСПИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
(Граф Войнович)
В то время как при генералах Якоби и Суворове, а потом при Потемкине устраивалась на Кавказе по Тереку и по Кубани крепкая граница русской земли, развивались и укреплялись казачьи поселения, еще раз сделана была попытка проникнуть в даль среднеазиатских степей, с целью развития там русской торговли, а если возможно, и проникновения в Индию. Хотя эта попытка, напомнившая петровскую политику и поход Бековича-Черкасского, имела далеко не столь обширные цели, была кратковременна и окончилась опять неудачей, тем не менее она замечательна именно как выражение видов и намерений русского правительства, не оставленных после Петра. Восточное побережье Каспия, бесплодное и пустынное, представляющее собой степь, по которой кочуют киргизы и туркмены, лежало первым пунктом на этом великом пути Русского государства, и правительство русское не раз поднимало вопрос об учреждении там торговых колоний.
Екатерина Великая и дальновидный князь Таврический соорудили экспедицию для занятия крепкого пункта на восточном побережье моря. Есть мнение, что экспедиция эта находится в тесной связи с намерениями Екатерины Великой выполнить еще Петром задуманное дело – завладеть северными провинциями Персии, первым шагом к чему и должно было служить присоединение к России Грузии, уже тогда предвиденное и частью совершившееся два года спустя.
Как бы то ни было, но в 1780 году три военных фрегата, бомбардирский корабль и четыре транспортных бота снаряжались в Астрахани к походу, цель которого облекалась глубокой тайной. Суворов, проживавший тогда в Астрахани, ожидал, что выбор правительства для выполнения предполагаемой экспедиции падет на него. Но, к общему удивлению, 11 июня 1781 года в Астрахань неожиданно прибыл из Петербурга молодой капитан-лейтенант граф Войнович и принял эскадру под свое начальство. Он имел секретное поручение плыть к персидским берегам под видом наказания дербентского и бакинского ханов, а в действительности с целью основать укрепление на одном из островов Каспийского моря и попытаться продолжить торговые пути в Хиву, Бухару и Индию.
Граф Марко Иванович Войнович был родом из приадриатических славянских провинций и с ранней юности посвятил себя мореходству. В русскую службу он вступил во время первой турецкой войны, явившись волонтером в черноморскую эскадру. Храбростью и знанием морского дела он скоро обратил на себя внимание императрицы, которая и назначила его командиром фрегата «Слава». Командуя им, Войнович участвовал во многих делах и за отличия был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
Прибыв в Астрахань и снабдив эскадру всем необходимым, Войнович 8 июля уже вышел с ней в Каспийское море. Миновав Дербент и Баку, он после трехнедельного плавания прибыл в Астрабадский залив и здесь остановился верстах в шестидесяти от города, в небольшой гавани, окруженной высокими горами, на которых лежит вечный снег. Сюда сходились караванные дороги, ведшие в глубину Ирана и в Среднюю Азию. Надо сказать, что Астрабадская и Мазендеранская области уже раз были уступлены России в 1723 году, во время петровского похода, но никогда еще не занимались русскими войсками и вскоре по смерти Петра обратно отданы персидскому шаху.
В то самое время, когда Войнович со своей эскадрой вошел в Астрабадский залив, в Персии происходила междоусобная война за наследство. Сильнейшим из воюющих претендентов был хан Астрабадский ага Мохаммед, основатель нынешней персидской династии. Он овладел уже тогда Астрабадом, Мазендераном, Гиляном, Рештом и осадил город Казвин. К нему и обратился Войнович с секретным предложением. Ага Мохаммед любезно принял посланного к нему офицера и охотно уступил на астрабадском берегу под русское селение урочище Городовин. Он даже дал своих рабочих, уверяя, что и сам он предвидит для страны огромные выгоды от учреждения в ней русской торговой колонии. Войнович немедленно приступил к постройке селения и, под предлогом защиты его от хищных туркменов, поставил ретраншемент, вооруженный восемнадцатью орудиями, снятыми с корабля и с фрегатов. Избранное место по справедливости могло почитаться самым удобным и выгодным пунктом уже потому, что имело, как выше сказано, самой природой хорошо защищенную и выгодно расположенную гавань.
Персияне не препятствовали устройству укрепления и даже, по-видимому, склонны были видеть в нем охрану и для себя от частых и разорительных набегов хищных туркменов.
Такое настроение продержалось, однако, недолго. Ага Мохаммед-хан, вытесненный вскоре из Казвина и Решта, начал опасаться русского соседства и отдал приказ стараться захватить Войновича в плен, рассчитывая силой вынудить у него согласие на уничтожение как пристани, так и укреплений. Случай к этому, по несчастью, скоро представился, и Войновичу пришлось испытать на себе восточное вероломство, некогда погубившее Бековича.
На 15 декабря, день в честь пророка, Войнович и его офицеры были приглашены астрабадским губернатором в гости. Приглашение было принято, и Войнович отправился в сопровождении всех начальников судов, не предвидя ловушки. В Астрабаде русские увидели собранное войско и были встречены таким необыкновенным шумом и криком народа, что сразу стали подозревать измену. Воротиться, однако, было нельзя, приходилось покориться своей участи и выжидать событий. Персияне приняли гостей с почестями. С час прошло в восточных церемониях и обрядах празднества. Офицеры все время сидели как на иголках и торопились выбраться. Наконец Войнович встал, поблагодарил губернатора за гостеприимство и просил его отпустить их домой. Но в ответ на это губернатор грозно объявил, что по повелению аги Мохаммед-хана он должен их арестовать. Присутствующая тут толпа со зверской радостью кинулась на офицеров. Их бросили в темницу, где на несчастных узников тотчас были набиты колодки такой величины и тяжести, что они не могли тронуться с места. Один из участников экспедиции, Радинг, впоследствии описал тяжкое душевное состояние заключенных. Все они глубоко чувствовали, что в лице их наносится оскорбление русскому имени, и мысль, что неосторожность их послужит главной причиной неудачи всей экспедиции, терзала их не менее чем страх близкой гибели.
Между тем в оставшейся на берегу команде, узнавшей о пленении, возникли замешательства. Персияне хотели этим воспользоваться, чтобы овладеть ретраншементом, однако были отбиты с огромным уроном. Им удалось только захватить тридцать человек из партии, находившейся на рубке леса.
Губернатор между тем потребовал от пленных офицеров, чтобы они послали команде приказание разорить все постройки и укрепления на астрабадском берегу, и угрожал, в противном случае, принудить их к тому страшными муками. Войнович ответил, что русский закон воспрещает пленному начальнику отдавать приказания. Он предложил, однако же, освободить одного из старших офицеров, который, возвратившись к эскадре, мог бы распорядиться уже как прямой начальник. Персияне долго колебались в выборе, но наконец отпустили капитан-лейтенанта Баскакова, предупредив его, что если ретраншемент не будет разрушен, то остальные пленные будут преданы мучительной казни.
Когда Баскаков исполнил все требования персиян, они освободили пленных матросов, но офицеров удержали и даже перевезли в город Сари, где участь их должна была решиться народным приговором. Целых две недели несчастные томились между страхом и надеждой, но наконец, по приказанию аги Мохаммед-хана, им возвратили свободу. Восемьдесят шесть верст, разделявших город Сари от пристани, офицеры верхами проскакали без отдыха, пока наконец не были радостно встречены эскадрой, уже потерявшей надежду увидеть их живыми.
Ага Мохаммед-хан скоро раскаялся в своем поступке и обратился к Войновичу с письмом, предлагая новое место под русскую колонию. Но граф не мог уже доверять ему и не хотел иметь никакого дела с человеком, ознаменовавшим себя таким позорным вероломством. Тогда ага Мохаммед отправил посольство в Петербург, но послы его не были приняты императрицей.
До 8 июля эскадра простояла в Астрабадском заливе, а затем, осмотрев приморские места близ Балаханов и Красноводска, прибыла в Баку, встреченная салютом русскому флагу из крепостных орудий. Прибытие эскадры привело бакинских жителей, для которых военные корабли были до того времени невиданной диковинкой, в большой страх: вероломство хана здесь уже было известно, и все ожидали за него возмездия. Дело, однако, ограничилось мирными переговорами насчет русских купцов, торговавших в Баку и Дербенте, после чего эскадра возвратилась в Астрахань.
Экспедиция больше не возобновлялась. Но с той поры на Каспийском море при устье Волги уже постоянно содержалась русская эскадра, служившая не только военным, но и коммерческим целям; а в Энзели основана была русская колония, продолжавшая существовать до 1792 года.
По возвращении в Астрахань Войнович был вызван в Петербург. Его приняли там по наружности прекрасно, дали ему следующий чин и бриллиантовый перстень, однако же с поста сменили и отправили в Херсон. В следующем году он был назначен, впрочем, командиром линейного корабля «Слава Екатерины», а еще через три года – главным начальником Севастопольского флота и порта. В этом звании, произведенный в контр-адмиралы, он участвовал во второй турецкой войне и заслужил орден Святого Георгия 3-й степени. Но когда, по желанию светлейшего Потемкина, на место его начальником Черноморского флота назначен был знаменитый адмирал Ушаков, Войнович, обиженный, вышел и отставку и удалился на родину. Впоследствии, при императоре Павле, он возвратился в Россию и дослужился до чина полного адмирала, но скоро вторично вышел в отставку и умер в неизвестности.
XIV. ГЕНЕРАЛ-АНШЕФ ТЕКЕЛЛИ
После отъезда с Кавказа генерала Потемкина, сохранившего за собой звание кавказского наместника, фактическим начальником кавказских войск остался генерал-аншеф Петр Абрамович Текелли. «Горбоносый, худой и длинный серб», – как описывает его один из русских исторических романистов[29]. Это был опытный боевой генерал, один из лучших кавалеристов своего времени. Происходя от древнего сербского рода, он начал военную службу в Австрии, в рядах венгерских гусар, а в царствование императрицы Елизаветы Петровны в числе многих отличных сербских офицеров перешел в русскую армию при следующих обстоятельствах. Еще в XVII веке, во время войны императора Леопольда с турками, из Турции вышли в австрийские владения до шестидесяти тысяч сербов, которые не только помогли австрийцам освободить от турецкого ига многие венгерские и сербские города, но потом содействовали им и в деле усмирения буйных венгерцев. Отсюда начинается вековая непримиримая вражда венгров к славянам. Притесняемые мадьярами, сербы вынуждены были наконец искать для себя новое отечество и обратились к России. Полковник Хорват первый явился с целым гусарским полком, а вслед за ним стали переходить в русскую службу и другие отличные сербские офицеры, принимаемые тем с большим удовольствием, что помимо своей известной храбрости они могли быть в высшей степени полезны в турецких войнах как знанием местности, так и своими связями с единоземцами. Из них тогда же были образованы гусарские полки, которые и поселены в Заднепровье, в соседстве с Запорожским войском. К числу этих выходцев принадлежал и Текелли.
В семилетнюю войну Текелли заставил говорить о себе как о талантливом партизане, не раз являвшемся достойным соперником Лаудона, Цитена и Зейдлица; на этом поприще он и положил начало своей военной славе. Слава эта утвердилась за ним еще более в первую половину царствования императрицы Екатерины Великой, когда велись непрерывные войны с турками и поляками. Израненный в боях, он возвратился из этих походов в чине генерал-поручика и был украшен орденами Анны 1-й степени и Георгия на шею.
Но в истории России имя Текелли памятно более всего потому, что оно тесно связано с падением Сечи и с уничтожением Запорожского войска. Вот как рассказывает Данилевский об этом замечательном событии.
4 июня 1775 года, на Троицкую неделю, русский корпус венгерского выходца серба генерал-поручика Текелли вместе с Валашским и Венгерскими полками другого серба, генерал-майора Федора Чорбы, двинулся к днепровским порогам. Тут было пятьдесят полков конницы – пикинеров, гусар и донцов, и десять тысяч пехоты. Войско разделилось на отряды и, без огласки занимая по пути главные села, с четырех сторон подошло к Сечи. Празднуя зеленые святки, запорожцы увидели нежданных гостей только тогда, когда они стали уже на возвышенностях вокруг Коша.
– Что, дети, будем делать? – говорил кошевой Колнышевский, разглядев из окна передовые пикеты русской армии. – То, верно, царское войско пришло, чтобы звать нас опять на турок!
– Нет, батько, – отвечали вбежавшие с поля казаки, – русские не зовут нас на турок; их пушки нацелены горлами против Коша.
Текелли подошел к Запорожью ночью, и так как все часовые, по обыкновению, покоились безмятежным сном, то Орловский пехотный полк с эскадроном конницы прошел незаметно через все предместье и без выстрела занял Новосеченский ретраншемент. Наутро Текелли потребовал к себе кошевые власти и предъявил им указ императрицы об упразднении Запорожского войска.
Сечь зашумела. Более пылкие атаманы, ватажки и характерники хотели защищаться, несмотря на наведенные на них пушки, но другие, более рассудительные, мечтавшие о возрождении Сечи в другом месте и виде, уговаривали всех на время покориться. Голос благоразумия, поддержанный кошевыми властями вместе с духовенством, взял верх, и вольная Запорожская Сечь, гордая тем, что никогда никому не покорялась, пала без борьбы и сопротивления.
Текелли стал твердой ногой в занятой Сечи и начал вводить в ней новые порядки. Кошевой Колнышевский, писарь Глоба и некоторые куренные атаманы, как люди, опасные по своему влиянию среди казаков, были вывезены в Россию. Кошевой и писарь были пострижены в иноки, первый – в Соловецкий монастырь, а второй – в Белозерский, где и кончили дни свои в глубокой старости.
Но крутые меры, принимаемые по отношению к запорожцам, сделали, однако, то, что они, один за одним, тайно стали выбираться из Коша. Когда Текелли заметил это, в Сечи уже почти никого не оставалось.
– Где же ваше войско? – кричал Текелли, когда к нему привели какого-то седого сгорбленного деда.
– Как, пане, где? – ответил дед. – Оружие и прочее от нас отобрали, не стало и войска. Одни, кто женат, разбрелись по зимовникам, остальные сиромахи ушли, видно, до Турка.
Из тринадцати тысяч запорожцев, сидевших над Днепром, двенадцать тысяч действительно ушли за Дунай, в Туретчину. Мысль князя Потемкина переселить запорожцев в Россию не удалась: запорожцы выселились сами.
В Петербурге были не совсем довольны таким оборотом дела, но поправить его было уже невозможно, и князь Прозоровский, приехавший сменить Текелли, нашел на месте, где стояла Сечь, лишь степные могилы,
- …что чернеют,
- Словно горы в поле,
- И лишь с ветром перелетным
- Шепчутся о воле… —
по поэтическому выражению народного малороссийского поэта.
Прошло двенадцать лет, и мы видим Текелли на Кавказе уже генерал-аншефом. Потемкин только что уехал в Россию; войска, участвовавшие с ним и походе, не были, однако, распущены, и Текелли решился воспользоваться прекрасной осенью, чтобы еще раз сходить за Кубань и страхом разгрома черкесских жилищ обеспечить себе мирные зимовые квартиры.
13 октября 1787 года двенадцать тысяч русского войска перешли Кубань и в несколько дней истребили все неприязненное население, гнездившееся между рекой Лабой и Снеговыми горами. В то же время донской атаман Иловайский опустошил пространство между Лабой и Кубанью, а кабардинцы, предводимые своим соплеменником бригадиром Горичем[30], привели, в покорность абадзинов, бесленеевцев, башильбаев и кипчакских татар. Пятьсот человек кабардинских панцирников прошли горами даже до Суджук-Кале и, рассеяв там турецкий отряд, отбили две медные пушки, которые в качестве трофеев и привезены были в Георгиевск, ставший со времени Текелли резиденцией главных начальников края. Во время этой же экспедиции кабардинцами было освобождено более ста человек русских пленных и взято тридцать черкесских аманатов, которых Текелли немедленно отправил в лагерь светлейшего князя Потемкина, давно желавшего видеть среди своей свиты воинственных представителей кавказских народов.
В походе Текелли кабардинцы в первый раз являются в рядах русских войск, и этот первый опыт увенчался, казалось, полным успехом. Их подвиги были замечены, про них заговорили, особенно после того, как стало известно, что кабардинцы, оставшиеся дома, помогали охранять терские станицы и даже раз под предводительством Горича-младшего напали на чеченцев, возвращавшихся из набега, и отбили у них весь русский полон. Один Текелли, суровый и всегда осмотрительный, не спешил расточать похвалы кабардинцам – он не доверял их бескорыстной службе. И он не ошибся. Едва кабардинцам объявили отказ на их домогательства получить обратно земли, отошедшие под русские укрепления, как ревность их охладела, и в следующем году они не только не приняли участие в походе Текелли, но в продолжение его даже несколько раз тревожили линию набегами.
Турецкая война между тем разгоралась. Получены были известия, что турки хотят овладеть Тавридой, и князь Григорий Александрович Потемкин, озабоченный этим обстоятельством, предписал Текелли как можно скорее начать военные действия против Суджук-Кале или Анапы.
Разлив Кубани не допустил, однако, открыть кампанию ранее осени 1788 года. Летом небольшие летучие отряды русских войск время от времени появлялись на левой стороне Кубани и производили там поиски. Самый удачный из них был в середине августа, когда бригадир Берхман с небольшим отрядом истребил несколько аулов в земле абадзинов, сжег их хлеба и возвратился с большой добычей. Но главные силы под предводительством Текелли перешли Кубань только 19 сентября несколько ниже теперешней Усть-Лабинской крепости, где был тогда Петровский редут. Неприятель всюду отступал, и только 21 сентября произошло довольно серьезное столкновение, в котором был убит казачий полковник Барабанщиков. Между тем густой дым сигнальных костров, поднимавшихся кругом по вершинам гор, указывал на близкое присутствие горцев. Поэтому Текелли отправил небольшой отряд под командой подполковника Мансурова для рекогносцировки верховий реки Убына. Но едва отряд отошел на один переход, как 26 сентября был атакован восьмитысячным скопищем горцев. Бешеная атака их заставила отряд остановиться; к горцам между тем подошли турецкие войска с восьмью орудиями, и отряд очутился между двух огней. Мансуров, построив пехоту в каре, пять часов отбивался от неприятеля, в то время как на флангах у него кипели горячие кавалерийские схватки. Замечательно, между прочим, то обстоятельство, что терскими и гребенскими казаками в этом бою предводительствовал отважный подполковник Селим-Гирей, родной племянник последнего крымского хана, а турецкой конницей командовал отец Селима, Батый-Гирей, некогда мечтавший овладеть крымским престолом, и им не раз приходилось сходиться в рукопашных схватках. Сын остался победителем и вынудил своего отца покинуть поле сражения; черкесы были разбиты, и гребенцы с боя взяли неприятельское знамя. Вечером на помощь к Мансурову подошел князь Ратиев, а вслед за ним стали показываться и главные русские силы. Появление их окончательно решило участь боя: неприятель отступил, потеряв, как говорят, более тысячи человек. Потери русского отряда были также значительны: из строя выбыло до двухсот пятидесяти нижних чинов.
После этого сражения Текелли вошел в неприступные горные ущелья и, произведя страшное опустошение в жилищах закубанских народов, повернул к Анапе с целью сделать попытку овладеть этой важной крепостью.
14 октября два батальона егерей, поддерживаемые драгунской бригадой и Волжским казачьим полком под командой полковника Германа произвели усиленную рекогносцировку. Заметив приближение наших войск, турки притаились за крепостными стенами, но, лишь только драгунские эскадроны, далеко опередившие пехоту, подошли на пушечный выстрел, они открыли огонь изо всех орудий. В ту же минуту турецкая пехота, высыпавшая на вал, выставила множество знамен и бунчуков. То был как бы условный сигнал, по которому горцы, скрывавшиеся дотоле в лесистых ущельях, вдруг выдвинули против русских одиннадцать орудий и под прикрытием жестокого артиллерийского огня бросились в атаку. Янычары, в свою очередь, вышли из крепостных ворот, чтобы отрезать драгунам отступление. Положение русской конницы было отчаянное. К счастью, в эту минуту подоспели два батальона пехоты, которые приняли драгун на себя и дали им возможность отступить в порядке. Пехоте одной пришлось теперь оспаривать сражение у всей черкесской силы. Сражение завязалось упорное, особенно в деревне Кучугуры, откуда никакие силы янычар и горцев не могли выбить русских егерей, засевших между кустами и каменьями. Им приходилось умирать на месте, не помышляя об отступлении, и они, конечно, были бы подавлены сильнейшим врагом, если бы не подоспел на выручку отряд под предводительством генерал-майора Ратиева. Неожиданное появление свежей русской колонны заставило неприятеля очистить дорогу егерям, которые, отстреливаясь, отошли на гору, под прикрытие артиллерийского огня авангарда. Между тем смерклось, и наступившая ночь прекратила сражение, продолжавшееся более семи часов сряду.
Число турок и горцев, защищавших Анапу, оказалось значительным, и Текелли, понимавший трудность овладения Анапой при господстве турецкого флота на Черном море, отошел за Кубань.
Двухмесячный поход Текелли к Анапе был первым продолжительным серьезным наступательным действием русских в неприятельские земли. Наступление было ведено с большой осмотрительностью, и генерал Текелли, человек очевидно опытный, предусмотрительный, не увлекавшийся желанием громких дел, довольствовался только достижением главной цели – обезопасить русские границы от покушений турок. И цель эта была вполне достигнута. В то же время были исследованы все дороги, ведущие к важной приморской турецкой крепости, собраны сведения о местном населении, о его силе, об отношениях племен друг к другу, и записка Текелли, поданная Потемкину, не лишена интереса даже и поныне.
Окончив экспедицию, Текелли, к общему сожалению, вышел в отставку и в том же 1788 году умер. Прибывший на место его генерал-аншеф граф Иван Петрович Салтыков оставался на линии лишь несколько месяцев и был отозван на пост главнокомандующего финляндской армией.
XV. БЕДСТВЕННЫЙ ПОХОД БИБИКОВА НА АНАПУ
В истории Кавказских войн прошлого столетия совершенно особенное место занимает случайный, стоящий вне общей системы действий, бедственный поход Бибикова на Анапу.
Когда граф Салтыков, назначенный, по случаю начавшейся тогда шведской войны, главнокомандующим армией в Финляндии, уехал с Кавказа и край остался опять под номинальным управлением отсутствующего графа Потемкина, кавказские войска, состоявшие из двух корпусов, Кубанского и Кавказского, некоторое время оставались без общего начальника, какими были Текелли и Салтыков. Этими исключительными обстоятельствами воспользовался один из частных начальников, командир Кавказского корпуса генерал-поручик Юрий Богданович Бибиков; он поспешил стать во главе военных действий на линии, чтобы отважным предприятием успеть выдвинуться до назначения нового начальника, при котором ему пришлось бы довольствоваться скромной второстепенной ролью. Предшествовавшая деятельность Бибикова не обещала, однако же, блестящих результатов от его стремления к славе; он был обязан своим возвышением единственно покровительству графа Панина, при котором находился во время Пугачевского бунта, и во всяком случае не принадлежал к славной плеяде екатерининских генералов, из которой вышла большая часть тогдашних боевых кавказских деятелей.
Целью своего отважного предприятия Бибиков избрал Анапу, очевидно односторонне понимая важность ее значения и не постигая глубоких соображений, заставивших Текелли на время отказаться от завладения ею.
Анапа действительно играла очень большую роль в русско-турецких делах, служа важнейшим пунктом для сношений турок с магометанскими горцами. Ее твердыни высились верстах в тридцати от устьев Кубани, на мысе, омываемом с двух сторон волнами Черного моря. От валов крепости вплоть до подножия Кавказских гор расстилалась обширная равнина, когда-то вся изрезанная колесными дорогами и тропинками, по которым ездили татарские арбы с сельскими продуктами из горных аулов; по тем путям иной раз двигались и целые обозы с яссырями и молодыми девушками, которых горцы доставляли сюда на продажу туркам. С давних времен, когда еще не было Анапы, плодородие этой равнины привлекало сюда массу выходцев из гор для посевов гоми (род мелкого проса), а к мысу, на котором впоследствии поставлена крепость, приставали в голодные годы черкесские кочермы для сбора добровольных приношений хлебов в пользу бедных приморских жителей горной полосы этого края.
Когда Крым был присоединен к России и ногайские племена, кочевавшие по Кубани, выселены, турки, прежде легко сносившиеся с горцами из Крыма через Таманский полуостров, теперь могли рассчитывать только на Черное море и старались укрепиться на его побережье вблизи Кавказских гор. Именно с этой целью они и затеяли построить крепость в земле натхокаджей. Местность, выбранная ими, принадлежала, собственно говоря, небольшому черкесскому племени хегайк, но племя это было истреблено чумой, потеряло свою самобытность и слилось с натхокаджами. Старейшины родов натхокаджийского племени не особенно благоприятствовали намерениям турок и долго не решались дать согласие на постройку крепости; однако же, задобренные подарками и обольщенные обещанием выгод от торговли яссырями, они один за другим мало-помалу стали склоняться на сторону турок. И только один старейшина, из сильного рода Супако, впоследствии прозванный Калебатом, не сдавался ни на какие обещания и упорно противился сооружению крепости на земле своего племени. Он возвышал голос в народных совещаниях, предостерегая соотчичей. «Турция, – говорил он, – не то, что мы. Турция – государство. Она может вести войну с другим государством. По жребию войны крепость может перейти во власть государства более победоносного, а тогда и вся земля, на которой будет стоять завоеванная крепость, законно перейдет в обладание того же государства». Но обаяние турецких подарков было так сильно, что голос одного, при согласии всех, был гласом вопиющего в пустыне: крепость была воздвигнута и названа Анапой. Достойно внимания, что нога Калебата в течение всей его жизни ни разу не была в Анапе. А пока ненавистная ему крепость строилась, он нападал на нее со своими людьми и не раз повреждал и даже совсем прекращал работы, откуда и получил название Калебат, что значит «разоритель крепости».
Самое слово «анапа» происходит от двух татарских слов: «ана» – мать и «пай» – часть, доля. В первое время существования крепости ее иначе и не называли, как Анапай – «материнская часть» или «материнская доля». Происхождение этого названия объясняют обыкновенно тем, что турки, стараясь облегчить участь своих единоверцев, изгнанных из Крыма, отвели им место по Кубани именно под защитой этой крепости; в свое время татары высоко ценили такое покровительство и выразили свою признательность в самом названии Анапы, которая, как заботливая мать, приютила у себя несчастных изгнанников.
С самого начала Анапа (по-черкесски Бугур-Кале – от имени речки, при устье которой она построена) представляла собой редут, окруженный только земляным валом, но в 1781 году французские инженеры построили здесь первоклассную крепость, которая фирманом турецкого султана была названа «ключом азиатских берегов Черного моря» и с этих пор становится центром религиозной пропаганды между черкесскими племенами.
Утвердившись в земле натхокаджей, турки владели, однако же, только тем клочком земли, на котором стояла крепость. Окрестные же места были совершенно от них независимы, и потому крепость постоянно должна была принимать все меры военных предосторожностей, чтобы в один прекрасный день не быть захваченной врасплох своими же друзьями.
Вообще отношения горцев и турок между собой в Анапе поддерживались только торговыми интересами и в особенности торгом красивых невольниц, но против России они всегда естественно являлись верными союзниками. Захватить Анапу значило нанести удар как торговым интересам горцев, так и влиянию на них мусульманской Турции.
Бибиков понимал, какая важная заслуга для России была бы в прочном завладении Анапой, и, спеша до назначения нового начальника связать свое имя с этим подвигом, отважился идти за Кубань с одним своим Кавказским корпусом, налегке, без обозов, рассчитывая довольствовать войска реквизициями.
Решение идти под Анапу и последующие иногда весьма энергичные действия доказывают, что Бибиков был человек предприимчивый и смелый, но что в то же время это был человек несомненно легкомысленный. Он совсем не позаботился ознакомиться даже с характером страны, в которой ему приходилось действовать и которая имела много особенностей, вовсе не принятых им во внимание. В этой стране не было, конечно, заоблачных гор и грозных ущелий с едва проходимыми среди утесов тропами, не было и крепких аулов с каменными башнями, представляющими собой готовые крепости. Но зато здесь на каждом шагу встречались горные речки, вздымавшиеся при таянии снегов и затоплявшие окрестности на многие версты, превращая их в непролазные топи; здесь были дремучие леса с проложенными в них узкими дорожками, пересекавшимися по всем направлениям глубокими и топкими канавами; здесь обитало густое воинственное население лучших наездников, владевшее огромными табунами отличных лошадей. Это население могло окружить неприятеля тучами всадников, следить за каждым его шагом и расстраивать все его предприятия. «Та местность, – говорит один писатель, – такая, что бой вспыхнет на поляне, а кончится в лесу и овраге; тот неприятель таков, что, если хочет биться, трудно против него стоять, а если не хочет, трудно его настигнуть».
Время для похода выбрано было Бибиковым самое неудобное. Войска стали собираться в январе 1789 года, когда глубокие снега лежали на равнинах и не было нигде подножного корма. Кубань перешли еще по льду, но лед уже был не крепок, и в воздухе ощущалась близость весны, вместе с которой должны были начаться для отряда неминуемые бедствия.
Первые дни похода прошли довольно спокойно. Встречались только слабые аулы кабардинцев, которые не могли оказать сопротивления. Но чем дальше продвигался отряд, тем сопротивление неприятеля становилось упорнее. На зов известного Шейх-Мансура, скрывавшегося тогда за Кубанью, стали стекаться большие партии горцев, вскоре явилась поддержка от турок, и 15 февраля гром русских пушек впервые огласил пустынные и дикие места, в которых никогда еще не были русские. Черкесы были разбиты, но зато с этих пор начались ежедневные нападения на отряд. А между тем наступила весна, и препятствия, чинимые природой, с каждым днем становились непреодолимее. Войска то целый день брели по колено в студеной воде, которая образовывалась почти моментально от действия весеннего солнца, то вынуждены были останавливаться вследствие горных метелей и вьюг, бушевавших по нескольку дней сряду. То сильная оттепель превращала ручьи в бурные реки, и приходилось везде строить мосты, то сильнейший мороз и гололедица препятствовали кавалерии сдвинуться с места. Там раскапывали дорогу среди высоких снеговых сугробов, здесь настилали гать, чтобы перебраться через затопленные водой луга, или взбирались на голые скалы, куда на канатах поднимали за собой повозки и орудия. Дров не было, сухари на исходе, а лошадей давно уже кормили старыми рублеными рогожами.
Черкесы, зная о бедственном положении русского отряда, решились преградить ему путь в одном из тесных горных проходов. К счастью, они опоздали. Первая колонна прошла благополучно, и только уже вторая, генерала Булгакова, наткнулась на завал и очутилась под перекрестным огнем турецких орудий. Но генерал Булгаков (впоследствии начальник Кавказской линии) был из числа тех людей, которых мужество возрастает по мере опасности. Увидев, что в его положении нет другого выхода, кроме победы, он кинулся вперед и, овладев батареей, проложил дорогу штыками.
После этого случая многие стали советовать Бибикову вернуться. Но ослепленный случайной удачей, он двигался вперед и вперед к восточному берегу Черного моря, где стояла Анапа – предмет его тайных надежд и смелых замыслов. Черкесы между тем продолжали упорные битвы: в каждой долине происходил конный бой, из-за каждого куста, оврага и перелеска русских осыпали пулями, каждую высоту приходилось очищать штыками. Солдаты сражались с беспримерным мужеством. Смело можно сказать, что в этом необычайном походе каждый рядовой заслужил звание героя. Но, побеждая неприятеля, войска не могли победить другого противника – голод: сухарей давно уже не было, и люди питались кореньями и сырой кониной.
Наконец 21 марта, после сорокадвухдневного марша, проведенного среди борьбы и лишений, в самый канун Светлого Христова воскресенья, русские вышли из гор в долину, расстилавшуюся до самых стен Анапы. Несмотря на усталость, ночь проведена была в молитве: в полках служили заутрени, и радостный гимн «Христос воскрес» торжественно звучал под чужим, мрачным и покрытым свинцовыми тучами небом. К утру погода переменилась: снег повалил хлопьями, закрутила вьюга и ударил такой мороз, что в лагере замерзло до двух сотен лошадей. Между тем с первым проблеском дня войска построились в колонны и в торжественном молчании двинулись к крепости. Сорокатысячный гарнизон высыпал на валы, запестревшие множеством знамен и бунчуков, десятки турецких орудий открыли огонь, и около колонн запрыгали гранаты и ядра.
Солдаты бодро продвигались вперед; в их рядах, по рассказу очевидца, слышались даже остроты насчет того, что-де турки хоть и басурмане, а вот христосуются с нами калеными ядрами. Но вот барабаны вдруг загремели отбой, войска остановились и на расстоянии пушечного выстрела от крепости разбили свой лагерь. В это самое время турки, в виду целого отряда, спустили с крепостной стены какого-то всадника на белой лошади. Ему, как оказалось впоследствии, поручено было проскакать мимо нашего лагеря и уведомить горцев, в какой именно час и с какой стороны они должны напасть на русских одновременно с турками.
Угадывая это намерение, русские употребили все средства, чтобы захватить всадника: за ним гнались по пятам, пересекали ему дорогу, метали в него дротиками, стреляли из ружей и пистолетов.
Но он, словно заколдованный, успел вырваться из круга обступавших его казаков и скрылся в горах. Теперь нужно было ожидать ежеминутного нападения.
И действительно, на следующий день полторы тысячи турок, выйдя из крепости, бешено атаковали русский лагерь. Гром пушечных выстрелов, далеко отозвавшихся в горах, послужил сигналом, по которому горцы в бесчисленном множестве кинулись с тыла. Поставленные между двумя противниками, русские бились лицом на две стороны. «И, надо сказать правду, – говорит участник этого боя, – непостижимо, как они уцелели, и не только уцелели, а еще остались победителями!» Особенно отличился при этом поручик Мейнц, в глазах всего отряда с одним эскадроном врубавшийся в массы турецкой кавалерии. И турки и черкесы вынуждены были наконец отступить. Казаки преследовали их по пятам, и шесть тысяч вражеских тел устлали поле сражения.
Но радостный день победы грустно окончился для самих победителей. Ослепленный блеском удачи, Бибиков не хотел довольствоваться уже пожатыми лаврами и отдал приказание идти немедленно на приступ Анапы. Солдаты смешались с толпами бегущих и быстро достигли крепости. Но турки, не заботясь о своих беглецах, заперли ворота и встретили русских убийственным ружейным огнем. Будь у русских лестницы, Анапа, вероятно, была бы взята. Но лестниц не оказалось! Ночь между тем опускалась на землю, и русские, жестоко пораженные картечью, стали отступать, оставя на поле до шестисот человек убитыми.
Но этим бедствие еще не кончилось. Черкесы, наблюдавшие издали, что произойдет под Анапой, как только увидели, что русские отступают, вихрем понеслись на отряд и ударили в шашки. Мрак ночи увеличивал общее смятение, и трудно сказать, что сталось бы с расстроенным русским войском, если бы спасение его не приняли на себя два храбрых майора, Веревкин и Офросимов. Жертвуя собой, первый из них с двумя батальонами пехоты, а второй с батареей бросились навстречу черкесам и, заслонив отряд своей грудью, дали ему время кое-как дотянуться до лагеря.
За днем кровопролитного сражения наступила бурная ночь. С одной стороны русского лагеря бушевало море, с другой – шум, свист и вой ветра в лесах и горных ущельях. Страшная гроза усугубляла ужас ночи. Но турки, со своей стороны, боялись не грозы, а нового приступа, и всю ночь простояли на валах, стреляя время от времени из пушек.
Три дня провели русские под стенами Анапы. Наконец Бибиков собрал военный совет, на котором большинство голосов высказалось за отступление, так как голод и недостаток в боевых припасах не позволяли думать о новом приступе. Лишь только отдан был приказ отступать и войска стали сниматься с позиции, в лагерь явился какой-то турецкий невольник и поднес Бибикову пшеничный хлеб, сказав, что паша посылает этот хлеб главнокомандующему, чтобы тот не умер с голода в дороге. И эту дерзкую выходку пришлось оставить без внимания.
Отступление сопровождалось еще большими бедствиями. Чтобы достичь Кубани, была избрана кратчайшая дорога, по которой вел Текелли. Но здесь надо было переходить густой лес, а за ним непроходимую, узкую и глубокую речку, через которую только в одном пункте был перекинут небольшой мост. И счастье, что Бибиков успел захватить этот мост прежде, чем подошли к нему горцы, намеревавшиеся в этом пункте отрезать отступление. Едва последние ряды солдат перешли речку, показались горцы и турки. Уничтожить мост уже не было времени, и Бибикову оставалось только задержать неприятеля артиллерийским огнем. Началась настоящая бойня. Целый час шестнадцать орудий вперекрест били картечью по мосту, и целый час черкесы и турки, как бешеные, ломились на мост, заваливая его своими трупами. Только громадные потери заставили наконец упрямого неприятеля отказаться от нападения. Мост был сожжен, и отряд, положив между собой и горцами неодолимую преграду, стал отступать спокойнее. Теперь ему предстояла главным образом борьба с природой, но и эта борьба была такова, что о ней с трепетом помышляли самые бесстрашные воины.
Весна в этом году стояла ранняя и дружная; горные ручьи превратились в бурные реки; овраги и долы наполнились водой. Везде была невылазная грязь, мокроть, и люди не пытались даже сушить свое платье. В одном месте войскам пришлось сделать переход в четырнадцать верст в воде по самое горло; солдаты коченели от холода, некоторые теряли сознание, падали и погибали, прежде чем им успевали подать какую-нибудь помощь. Бибиков тогда напал на мысль переменить направление, перейдя на другую, хотя окружную, но более сухую горную дорогу. Но против этого восстали все офицеры, говоря, что солдаты, изнуренные голодом, не вынесут этого пути и сделаются жертвой черкесов. Более всех противился перемене дороги известный Офросимов – у него не осталось и по пяти зарядов на оружие. Бибиков арестовал Офросимова и даже приковал его к пушке. Тогда взбунтовались солдаты: они легли на землю и кричали: «Пусть будет, что угодно Богу и матушке царице, а дальше мы идти не можем». Собрался новый военный совет, и Бибиков вынужден был наконец подчиниться общему решению. Офросимова освободили, и войска двинулись опять к высокому нагорному берегу Кубани, который уже маячил в синеве далекого туманного горизонта. Но отряду пришлось и тут испытать горькое разочарование: глубокая и быстрая река, разлившись на необозримое пространство, бешено катила пенящиеся волны, ворочая громадные камни и унося, как щепы, вырванные с корнями дубы и чинары, – и переправы не было.
Между тем горцы опять настигли отряд, и опять начались ежедневные схватки, не всегда успешные для русских. Так, в одной из них Уральский полк потерял всех своих лошадей и очутился пешим. Положение отряда, прижатого к Кубани, было безвыходное, но все же отбиваться от горцев легче было стоя на месте, нежели в походе, что неизбежно случилось бы, если бы отряд пошел по пути, выбранному Бибиковым. К счастью, дух в полках сохранился превосходный. Минутное неудовольствие людей не оставило по себе заметного следа; солдаты опять были теми же бодрыми, храбрыми и терпеливыми солдатами, готовыми сто раз пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти честь русского знамени и своего начальника. Днем они сражались, ночью с чисто русской сметкой мастерили летучие паромы из камыша, в котором, к счастью, недостатка не было. Скоро паромы были готовы, и на этих-то утлых плотах отряд совершил свою невероятную переправу. Правда, некоторые из этих плотов опрокинулись, и люди, бывшие на них, потонули, некоторые унесены были быстротой течения в Черное море, но большинство добралось-таки до русского берега. Орудия спасены были все, и отряд не оставил в руках неприятеля ни одного трофея.
Так кончился этот поход, не без основания сравниваемый одним из современников с походом Кортеса в Мексику.
Общую потерю бибиковского отряда показывают различно. По официальным донесениям, она не превышала тысячи ста человек, но по другим известиям, изо всего восьмитысячного войска вернулись только три тысячи на ногах и тысяча совершенно больных, причем из последних большая часть умерла.
Слух о бедственном положении Бибикова за Кубанью дошел до светлейшего князя Потемкина, и командиру Кубанского корпуса генерал-лейтенанту барону Розену приказано было поспешно идти за Кубань, чтобы разыскать отряд и помочь ему выйти на линию. Розен, однако, встретил Бибикова уже на правом берегу вне всякой опасности. Из его донесения Потемкину видно, что он нашел Кавказский корпус в совершенном расстройстве. «Офицеры и нижние чины, – писал он, – находятся в таком жалком виде, который выше всякого выражения; все они опухли от голода и истомлены маршами, стужей и непогодой, от которых не имели никакого укрытия. Солдаты и офицеры лишились в этом походе всего своего имущества и остались в рубищах, босые, без рубах и даже без нижнего белья, которое погнило на людях».
Скоро узнала подробно о походе и императрица.
«Экспедиция Бибикова, – писала она князю Потемкину, – для меня весьма странна и ни на что не похожа; я думаю, что он с ума сошел, держа людей сорок дней в воде, почти и без хлеба; удивительно, как единый остался жив. Я почитаю, что не много с ним возвратилось; дай знать, сколько пропало – о чем я весьма тужу. Если войска взбунтовались, то сему дивиться нельзя, а более надо дивиться сорокадневному их терпению. Сие дело несколько схоже с Тотлебеновым и Сухотиным в прошедшую войну».
Назначено было и формальное следствие. Бибиков сентенцией военного суда был отставлен от службы, но отряд, отличившийся мужеством в битвах и перенесением тяжких трудов и лишений в походе, награжден был особенной серебряной медалью на голубой ленте с надписью «За верность».
XVI. НАШЕСТВИЕ БАТАЛ-ПАШИ
(Генерал Герман)
Вторая турецкая война (1787–1792), во время которой Турция еще живо чувствовала потерю Крыма, естественно, не могла не поставить вопрос об обратном его завоевании. При неудачах на Дунае Турции представлялось единственно возможным действовать для этой цели только с Черного моря да с кавказских его побережий, а таким образом устье Кубани и крепость Анапа силой самих обстоятельств выдвигаются в тот момент Кавказской войны опять на первый план. К несчастью, выполнение мысли турок о нападении на Крым совпало с неудачной экспедицией Бибикова, которая поставила весь Кавказский корпус, расстроенный большими потерями, в решительную невозможность мешать приготовлениям турок в течение всего 1789 года. Между тем Батал-паша, назначенный сераскиром над всеми войсками для покорения Тавриды, деятельно готовился к открытию кампании. Турецкие десанты давно уже высадились на берега Черного моря: пятитысячные гарнизоны занимали Суджук и Анапу, сильный отряд при восьми орудиях расположился на левом берегу Кубани около устья реки Зеленчук, где были развалины старого турецкого окопа Аджи-Кале. И все кавказские народы призывались к единодушному ополчению против России.
В то же самое время сильный турецкий флот с десантными войсками приближался к берегу Тавриды, и Крыму угрожала серьезная опасность быть атакованным с моря и с суши. Но истребление турецких кораблей эскадрой контр-адмирала Ушакова в Еникольском проливе дало иной оборот кампании – экспедиция в Тавриду расстроилась. Не имея возможности проникнуть туда сухим путем без содействия флота, Батал-паша решился обратить свое оружие на Кавказскую линию, рассчитывая, что не трудно будет разбить остатки Кавказского корпуса, уцелевшие от экспедиции Бибикова, и затем, ворвавшись через южную границу в Россию, привлечь снова к оттоманским бунчукам счастье, оставившее их на придунайских равнинах.
Замыслы у Батал-паши были обширные. Он полагал, что при первых успехах его на Кавказской линии легко будет поднять всех мусульман, живущих под скипетром Русской империи, и что при этих условиях ему возможно будет отторгнуть от России древние татарские царства или, по крайней мере, распространить мятеж по Волге и Уралу до самой Сибири.
Дела принимали серьезный оборот, а тут случилось, что назначенный на место графа Салтыкова новый командующий войсками на линии генерал-аншеф де Бальмен прибыл в Георгиевск больным, слег в постель и не мог сам предводительствовать войсками. Обстоятельство это могло ослабить в действиях кавказских войск необходимое единство распоряжений. И действительно, как мы увидим, вся тяжесть борьбы с Батал-пашой пала не на весь Кавказский корпус, а на один отряд генерала Германа, которому и принадлежит вся слава баталпашинского погрома.
Генерал-майор Герман, собственно Герман фон Ферзен, был родом саксонец, но носил русское имя Иван Иванович и по своему уму, привычкам и образу жизни был чисто русский человек. Как выдающийся по своим способностям офицер, он еще подпоручиком был назначен в Генеральный штаб, и после первой турецкой войны, давшей ему случай отличиться, на него возложены были важные по тому времени поручения – составить карты и военные обозрения русских границ с Польшей, с Финляндией и с Персией, а также по Уралу и Дону. В чине подполковника перейдя в Кабардинский полк, отправлявшийся тогда на Кавказ, он является руководителем постройки Георгиевска и других редутов и крепостей по Моздокско-Азовской линии. Впоследствии он командовал на линии же Владимирским полком, а затем бригадой. Четырнадцать лет, проведенных Германом на Кавказе, представляют собой ряд непрерывных экспедиций, походов и дел с неприятелем; можно поистине сказать, что все это время он не выходил из огня, избираемый всегда для выполнения самых важных боевых операций, и его отвага вошла в поговорку между солдатами. За экспедицию Текелли в Анапу он был произведен в генералы и назначен командиром бригады, расположенной в Георгиевске и состоявшей из трех полков: Кабардинского, Владимирского и Казанского. В этом-то звании и застало его нашествие Батал-паши.
Весь Кавказский корпус, наскоро укомплектованный чем только было возможно, двинулся к Кубани навстречу врагу тремя отдельными отрядами. Один из них, под начальством генерала Булгакова, стал между Кубанью и рекой Кумой; другой, бригадира Беервица, – у Прочного окопа, а третий, именно генерала Германа, расположился на самой Куме, при Песчаном броде, верстах в шестидесяти от Георгиевской крепости.
22 сентября, как рассказывает Герман в своих записках, он возвратился из Георгиевска, куда ездил повидаться с умирающим графом де Бальменом. В лагере он застал всех в большой тревоге. Рассказывали, что Батал-паша, сосредоточив под свои знамена до пятидесяти тысяч турок и горцев при тридцати орудиях, перешел Лабу и стоит уже на Урупе. Это известие привез один из абазинских князей, родственник подполковника Мансурова; он сам видел Батал-пашу и разговаривал со многими горскими князьями, съехавшимися в турецкий стан, чтобы участвовать в походе на русскую линию. Из собранных им в турецком лагере сведений можно было заключить, что Батал-паша намерен идти в Кабарду и рассчитывает на тайную помощь персидского шаха, который в то время стоял с войсками на Сунже и только ждал благоприятной минуты вмешаться в русско-турецкую распрю.
Чтобы лучше следить за неприятелем, Герман в тот же день оставил Песчаный брод и в два дневных перехода передвинулся к берегам Кубани. Все татарские аулы, встречавшиеся на пути, были пусты, и это могло служить зловещим признаком: неизвестно было, передались ли жители неприятелю или ушли к русским.
Сильные разъезды, высланные из отряда, ходили вверх и вниз по Кубани, но нигде ничего подозрительного не видели. Ночь прошла спокойно, а 24-го числа Герман, сделав еще рекогносцировку окрестностей, стал на крепкой и возвышенной позиции у Кубанского редута. Здесь в первый раз услышаны были далеко за рекой неприятельские сигнальные выстрелы из больших орудий. Русские разъезды ходили за Кубань до Зеленчука, но далее проникнуть не могли, потому что везде встречали сильные неприятельские партии. Они видели большую пыль в долине между Большим и Малым Зеленчуком и дым сигнальных костров, яркими звездами светившихся по вершинам гор. Очевидно было, что неприятель приближается. Герман приказал трем отборным казакам пробраться ночью к турецкому лагерю и разведать насколько возможно о силах неприятеля. Казаки вернулись на свету и объявили, что главная турецкая армия стоит верстах в двадцати пяти за Малым Зеленчуком, но что передовые отряды ее перекинуты за Каменные горы и стерегут ущелья, обеспечивая открытый путь к Кубани. Как в этот, так и на следующий день в лагере происходили беспрерывные тревоги: неприятельские конные отряды неоднократно подходили к русскому лагерю верст на десять, останавливались, делали рекогносцировки и уходили. Опасаясь, чтобы неприятель не переправился ниже, у Каменного брода, и не отрезал отступления к Георгиевску, Герман отодвинулся верст на пятнадцать назад и стал на реке Подпаклее. На соединение с ним скоро подошла колонна Беервица. Таким образом, боевая сила отряда возросла до трех тысяч шестисот человек пехоты и конницы при шести полевых орудиях, и это было все, что русские могли противопоставить пятидесятитысячному полчищу. Отряд Булгакова находился верстах в восьмидесяти у Прочного окопа, а весь Кубанский корпус сосредоточен был на Лабе и, как оказалось впоследствии, не имел даже сведений о нашествии неприятеля.
28 сентября утром разъезды прискакали с известием, что все неприятельские силы двинулись от Зеленчука к Кубани. В полдень турки переправились на русский берег реки и, остановившись у Каменного брода, стали укреплять позицию. Между тем Тахтамышские горы, через которые лежал их путь в Кабарду, остались почему-то не занятыми ими. Все эти обстоятельства дали повод генералу Герману предположить: 1) что силы Батал-паши не все находятся в сборе – иначе он не преминул бы атаковать наш слабый отряд не останавливаясь; 2) что, укрепляя брод, он готовит себе свободный путь к отступлению – следовательно, трусит, и 3) что Тахтамышские высоты, оставленные им без внимания, свидетельствуют о том, что он или совсем не разумеет своего ремесла, или слишком самонадеянно рассчитывает на свои силы.
Эти соображения дали генералу Герману решимость самому предупредить неприятеля в Тахтамышских горах и удержать их за собой до прибытия Булгакова, которому еще накануне сообщены были подробные сведения о движении неприятеля. Герман выступил в десять часов вечера. Но темная осенняя ночь, ненастье и отсутствие опытных проводников испортили дело: отряд, по-видимому хорошо знакомый с местностью, на которой он только что перед этим стоял лагерем около месяца, сбился с дороги и только под утро выбрался наконец к Подпаклее. Продолжать движение днем было немыслимо, и отряд остановился верстах в десяти от турецкого лагеря.
Неприятель весь день занимался укреплением своей позиции и не трогался с места. Вечером замечено было, однако, некоторое движение по дорогам, ведущим на Белую Мечеть, но разгадать, в чем заключались намерения неприятеля, было трудно. Двигаясь по этой дороге, он мог идти в Кабарду, оставив на Куме сильный пост для наблюдения за русскими, мог атаковать Георгиевскую крепость и мог, наконец, окружить русский отряд, отрезав ему все пути к отступлению. Во всяком случае, генерал Герман видел, что если Батал-паша успеет захватить в свои руки верховья Кумы и утвердиться у Белой Мечети, то соединение его с кабардинцами будет обеспечено – и для Кавказской линии могут возникнуть серьезные опасности.
Наступила ночь. Ожидая нападения, отряд не ложился спать; разъезды ходили по всем направлениям, а кругом лагеря в траве лежали пехотные секреты. Шум неприятельского движения был слышен до самой зари и как бы указывал, что времени терять нельзя. Белая Мечеть, этот узел дорог, расходящихся оттуда в Кабарду и Георгиевск, лежала от турецкого лагеря только на один переход. «Положение, – говорит сам Герман, – в котором я находился, не могло продолжаться долго. Все приготовлено было к какому-нибудь важному приключению на этой границе, и все возвещало мне о его приближении».
Сравнивая свой малочисленный отряд с теми силами, которые, по слухам, составляли войска Батал-паши, Герман видел ясно, что одна быстрота может доставить ему победу, и положил немедленно ударить по туркам. Стало светать. «Я собрал, – рассказывает Герман, – своих сотоварищей и, объяснив им наше критическое положение, сказал, что я не могу ожидать прибытия Булгакова, а должен атаковать неприятеля немедленно, и что если я дам свободу Батал-паше еще на один только день, то потеряю Куму, а может быть, и всю кавказскую границу». Решимость начальника сообщилась всем его подчиненным, и наступление решено было единодушно.
30 сентября около восьми часов утра тронулся авангард, составленный из семисот человек с двумя орудиями под командой опытного в боях и храброго майора князя Орбелиани. Он имел приказание занять командные высоты над рекой Тахтамыш и держаться на них до последнего человека. Вслед за ним двинулись из лагеря остальные колонны. В это самое время пришло известие от генерала Булгакова, что он надеется к ночи быть у Кубанского редута. Но жребий был уже брошен: наш авангард стоял в сильнейшем огне, и вырвать его оттуда не было возможности.
«Как только тронулись войска, – замечал в своих записках Герман, – пошел дождь, а у русских это счастливая примета, которая и сбылась в этот день больше, нежели ожидать было можно».
Часов в десять утра вся местность около Танлыцких и Тахтамышских вершин зачернелась массами турок и горцев. Это были главные силы Батал-паши, которые приспели к месту боя почти одновременно с русскими. Боевая линия турок растянулась по-над речкой Тахтамыш и встретила русских сильнейшим огнем из тридцати орудий. Против них выдвинута была батарея майора Офросимова. Два часа продолжалась жестокая канонада; наконец Офросимову удалось подбить неприятельские орудия, и турецкий огонь приметно стал ослабевать по всей линии. В то же самое время черкесская конница, стремившаяся обскакать русских с флангов и с тылу, была разбита и прогнана полковником Буткевичем. Этим решительным моментом Герман воспользовался, чтобы перейти в наступление.
Драгуны полковника Муханова, стоявшие на правом фланге, первые понеслись в атаку и врезались в неприятельскую пехоту; их поддержали егеря Беервица. В то же время наш левый фланг под начальством полковника Чемоданова потеснил правое крыло неприятеля, а удар бригадира Матцена в центре решил победу. И сорок тысяч турок и черкесов, наголову разбитые тремя тысячами русских, обратились в бегство, бросив лагерь, обозы и артиллерию.
Но самым важным результатом этой победы было пленение Батал-паши. Как только началось преследование, Донской казачий полк под командной восемнадцатилетнего юноши, войскового старшины Луковкина[31], ворвался в турецкий стан и отбил два знамени и пушку, а сам Луковкин в сопровождении своих ординарцев наскочил на сераскира и взял его в плен вместе со всей свитой. Ожесточенные казаки рубили всех и, вероятно, Батал-пашу постигла бы та же участь, если бы не спасли ему жизнь подоспевшие егеря Беервица[32]. Потеря неприятеля была громадная и считалась тысячами убитых, так как малочисленность русского отряда не позволяла ему брать пленных. Со стороны русских общий урон не превышал полутораста человек убитыми и ранеными.
Так кончился день, который останется навсегда памятным в истории Кавказского края. Впоследствии близ места этой славной битвы была основана станица Хоперского казачьего полка, которая в честь ее и названа Баталпашинской. Зиссерман в своей «Истории Кабардинского полка» справедливо замечает, что станицу следовало бы назвать не Баталпашинской, а Германской, по имени победителя, а не побежденного.
Остатки турецкого войска, бежавшие от Каменного брода, были добиты окончательно Кубанским корпусом барона Розена, встретившим их на левой стороне Кубани. В этой экспедиции Нижегородский драгунский полк под начальством князя Щербатова разыскал и сжег все магазины и провиантские склады, заготовленные в аулах для турецкой армии. Горцы, не успевшие предупредить набег, отрезали, однако, драгунам отступление и окружили их в тесном горном ущелье. По счастью, нижегородцы, не потеряв присутствия духа, спешились и проложили себе дорогу штыками.
Впоследствии Герман, указывая причины поражения турок, писал в своих записках следующее: «Первая и главная ошибка Батал-паши состояла в том, что он остановился на Кубани и без всякой надобности потерял целых три дня, в продолжение которых мог бы быть у самого Георгиевска. Тогда, хотя бы турецкая армия и была разбита в полевом сражении, все-таки большая часть Кавказской линии едва ли была бы спасена от погрома. Во время сражения турки также сделали три важные ошибки: они не употребили всех своих сил, чтобы отбить у нас Тахтамышские горы, пока мы не успели еще на них утвердиться, не заняли высот, лежавших у нас на левом фланге, которых мы не могли занять по своей малочисленности, и, наконец, приняли бой на такой невыгодной местности, где артиллерия их не могла нанести нам значительных потерь…
В свою очередь и мы, – замечает Герман, – не были безупречны в своих распоряжениях. Так, например, мы знали, и знали довольно верно, что Батал-паша стоит на Лабе, а между тем не только не позаботились сосредоточить все свои силы, а, напротив, отправили целый корпус за Кубань, где он простоял без всякой пользы… Мне также, – говорит он далее, – не следовало бы бросать свою позицию у Кубанского редута: я этим открыл Кубань и при других условиях мог подвергнуть нашу границу чрезвычайной опасности».
Блистательная победа над сорокатысячной армией, которую турки собирали два года для нанесения русским решительного удара, имела громадные последствия для края. Она не только загладила дурное впечатление, произведенное неудачным походом Бибикова, но и утвердила надолго среди кавказских племен убеждение в непобедимости русских и подготовила падение Анапы. Императрица Екатерина пожаловала Герману за этот подвиг орден Святого Георгия 2-й степени, даваемый в весьма редких случаях, и пятьсот душ в Полоцкой губернии. Храбрый Луковкин был награжден премьер-майорским чином, а Беервиц, Чемоданов, Буткевич и Муханов получили ордена Святого Георгия 4-й степени.
Умирающий граф де Бальмен имел утешение, получив известие об этой победе за несколько часов до своей кончины. Дрожащей рукой он подписал последнее донесение свое к императрице и в тот же день, 1 октября 1790 года, скончался на сорок девятом году от рождения.
Имя графа теперь почти никому не известно на Кавказе. Но оно заслуживает памяти как имя главнокомандующего в смутное и богатое событиями и результатами время, когда положен был конец горделивым замыслам Порты, стремившейся ниспровергнуть на Кавказе русское владычество. Смерть графа де Бальмена прошла до такой степени незамеченной, что даже могила его, могила главнокомандующего всеми кавказскими войсками, долгое время оставалась неизвестной, и уже нашему поколению принадлежит честь открытия ее.
В Георгиевске, в полуверсте от предместья, называемого Тифлисской слободкой, на юго-запад от крепости есть небольшое, давно покинутое кладбище, состоящее из нескольких могил, почти уже сровнявшихся с землей. Три-четыре надгробных памятника, полуразрушенных временем, уныло смотрят своими остатками, и старое грушевое дерево, тоже иссохшее и покривившееся, одиноко сторожит приют забвения и смерти. На одной из этих могил долго лежала разбитая пополам чугунная плита, не привлекавшая к себе ничьего внимания. Но в 1858 году бывший тогда полицмейстером в Георгиевске М. Ф. Федоров случайно прочитал на этой плите: «Здесь погребено тело командующего Кавказским корпусом графа Антона Богдановича де Бальмена». О своей находке Федоров немедленно сообщил в Тифлис, и князь Барятинский, бывший в то время кавказским наместником, пожелал почтить память своего отдаленного предместника. Он приказал возобновить могилу покойного графа, поставить на ней памятник и устроить вокруг него решетку из старого оружия и чугунных пушек, хранившихся в георгиевском арсенале.
Тогда же возобновлена была и трогательная эпитафия во вкусе XVIII века, которая может служить прекрасной характеристикой личности покойного графа.
«Прохожий! – сказано в ней. – Сей был твой друг, ибо между добродетелями, которые он почитал и которым следовал, благодеяния и человеколюбие занимали в нем первейшую степень; они были столь драгоценны сердцу его, что даже в первом восторге победы он щадил кровь побежденного неприятеля. Почти же и ты сию гробницу, которую супруга, орошенная слезами, воздвигла над ним, и пожелай, чтобы сей друг человечества, сей достойный и добрый гражданин почивал в покое».
Нам остается сказать несколько слов о дальнейшей судьбе главного героя описанных событий, генерала Германа, и о печальных обстоятельствах, незаслуженно омрачивших на склоне дней жизнь одного из лучших генералов суворовского времени.
Оставив Кавказ в 1791 году, Герман, после недолговременной службы в войсках, расположенных в Литве и Польше, назначен был генерал-квартирмейстером всей русской армии. В этом звании он произвел осмотр берегов Черного моря для изыскания мер против враждебных покушений французского флота и заслужил особую признательность императора Павла I. Император предназначал его даже для командования русскими войсками в Италии, но за назначением туда Суворова Герман, произведенный в генералы от инфантерии, получил в команду десантный корпус, которому было поручено вместе с англичанами очистить Голландию от французов, в то время как Суворов должен был очистить от них Италию.
Последнее отделение десантных войск, при которых находился сам Герман, высадилось на берег в месте расположения английских войск, в окрестностях Бергена, вечером 7 сентября 1799 года. На вопрос одного из своих генералов, где остановить полки, Герман лаконично ответил: «На плечах французов!» Приходилось действительно там останавливать их, потому что главнокомандующий союзными войсками герцог Йорский назначил общую атаку неприятельской позиции на другой день, 8 сентября, с рассветом; говорят, однако, что герцог, узнав о поздней высадке русских, предложил отменить диспозицию, чтобы дать время войскам отдохнуть и приготовиться к бою. Герман ответил, что находит это ненужным. И он был прав, как показали последствия; войска дрались с таким увлечением, которое исключало всякую мысль об устали и отдыхе, и если геройские усилия их не увенчались успехом, то причину этого нужно искать, скорее всего, в характере и действии союзников.
Ночь, предшествовавшая кровавому бою, как нарочно наступила темная, ненастная, тучи заволокли небо, шел дождик, а русские, усталые, еще не оправившиеся от трудного морского плавания, вовсе не ложились спать, ожидая рассвета, с которым должна была начаться атака. Герман между тем взвесил все шансы предстоящего боя. Он понимал, что перед ним была не турецкая орда, которую он разбил на Кубани, а опытные, закаленные в боях французские полки. Но так как численность французов не превышала русские силы, то весь вопрос сводился для него к тому, как бы скорее и с наименьшей потерей добраться до неприятельской позиции; о том же, что неприятель мог дать отпор и устоять против штыкового удара, ему не приходило и в голову. Зная далее, что ему предстояло начать движение по двум плотинам под сильнейшим картечным огнем неприятельских батарей, он прежде всего хотел избежать потерь, сопряженных с открытой атакой теснин среди белого дня, и решился произвести внезапное ночное нападение. С этой целью он вопреки диспозиции повел свои войска за два часа до рассвета.
Под покровом ночи войска атаковали неприятеля с таким необычайным мужеством, что выбили его моментально из трех ретраншементов, взяли штыками несколько батарей, завладели тремя укрепленными деревнями и ворвались в самый Берген, ключ неприятельской позиции. Весь бой происходил на протяжении пятнадцати верст. Четырнадцать отбитых пушек, тысяча пленных и более двух тысяч убитых неприятелей служили доказательством предусмотрительного расчета генерала Германа, достигшего столь блистательного успеха с потерей лишь нескольких человек убитыми и ранеными.
В Бергене успехи русских, однако же, остановились. Англичане не приходили на помощь. Так прошло четыре часа. Французы между тем успели стянуть сюда значительные силы и сами перешли в наступление. Тогда в небольшом и тесном городке произошла ожесточенная битва. Французские колонны с разных сторон повели атаку, и им удалось наконец ворваться на площадь. Дело кончилось тем, что из всех трех командовавших генералов Жеребцов был убит картечью, Сутгоф ранен, а сам корпусный командир, отрезанный от войска, внезапно очутился в плену. Потеряв начальников, русские войска смешались и отступили, оставив в руках неприятеля знамя и двенадцать орудий. Только к одиннадцати часам утра подошли наконец англичане, но восстановить проигранную битву для них не представлялось уже возможности.
«Главное несчастье для нас, – писал герцог Йорский в своем донесении, – заключалось в потере храброго Германа, который пользовался таким уважением и доверием войска. Останься он цел, он дал бы иной оборот сражению».
Французы также оправдывали Германа, приписывая поражение его единственно тому, что англичане, выставив русских вперед, не поддержали их своевременно.
Но, несмотря на все эти отзывы самих иностранцев, не скрывающих изумления стремительной и бурной атакой русского корпуса, император Павел, огорченный первыми дошедшими до него известиями, отдал приказ об исключении Германа со службы.
Пленный генерал содержался в крепости Лилль. На просьбу об освобождении его под честное слово французский военный министр Бертье ответил, что Герман может быть отпущен не иначе как по возвращении во Францию всех генералов, взятых в Италии. Пораженный своей фатальной неудачей, Герман впал в глубокую задумчивость, перешедшую в тяжелую нервную болезнь, едва не стоившую ему жизни. По заключении мира он возвратился из плена, был снова зачислен на службу и вскоре умер в Петербурге.
Обвинение в неудаче Голландского похода и до сих пор тяготеет еще на памяти доблестного генерала. Под обаянием славы итальянских побед Суворова современникам Германа естественно было ставить ему в укор несчастную случайность, созданную медлительностью союзников. Но потомству, ближе знающему дело, можно быть беспристрастнее и отдать должное храброму, энергичному генералу и в самом поражении доставившему славу и блеск русскому оружию.
XVII. ГРАФ ГУДОВИЧ
(Падение Анапы)
Когда граф Павел Сергеевич Потемкин, с 1787 года только носивший звание кавказского наместника и не имевший никакого влияния на дела края, был в 1791 году окончательно отчислен с Кавказа, на место его получил назначение граф Иван Васильевич Гудович. Новый наместник принадлежал к небольшому числу серьезно образованных людей прошлого столетия. Он слушал университетские лекции в Кенигсберге, Галле и Лейпциге и потому, на основании еще регламентов Петра Великого, был принят на службу 1 января 1759 года прямо офицером. Близость к всесильному при Елизавете Петровне графу Шувалову, у которого он был адъютантом, а потом протекция в лице его родного брата, генерал-адъютанта и любимца нового императора Петра III, способствовали настолько возвышению Гудовича, что на четвертом году службы он был уже полковником и командиром Астраханского пехотного полка. С кончиной Петра Гудович лишился своего значения при дворе, но блестящие способности молодого человека не могли остаться незамеченными и в новое царствование.
Поход в Польшу в 1763 году, с корпусом генерала Штофельна, дал Гудовичу случай оказать весьма серьезную услугу правительству и выказать свои способности. Военное начальство командировало его в Галицию с секретным поручением склонить некоторых польских магнатов к выбору на польский престол Станислава Понятовского, и благодаря поддержке и влиянию таких людей, как гетман Ржевусский и князь Чарторижский, Гудович блистательно исполнил поручение.
Спустя четыре года мы видим Гудовича вместе с полком уже в Турецкой кампании, где каждый шаг его ознаменовывается блестящей храбростью. Так, 11 июля 1869 года, под Хотином, он с одним батальоном своего полка отбил сильную вылазку из крепости, а в августе с тем же самым батальоном выручил русский авангард, разбитый в Рачевском лесу, отнял назад четыре орудия, взятых турками, и со своими ничтожными силами нанес решительное поражение девятитысячному турецкому корпусу.
В следующую кампанию Гудович с неменьшим отличием участвует в сражениях под Ларгой, Кагулом и на Браиловском приступе. Румянцев поручил ему отдельный отряд из пяти батальонов пехоты, эскадрона ахтырских гусар и четырех казачьих полков, с которыми он должен был очистить от турок Валахию. Гудович разбил турецкий корпус, встретивший его под стенами Бухареста, взял два знамени и четыре орудия и на плечах бегущего неприятеля занял столицу Валахии. Особенно отличились в этом сражении кавказский уроженец Горич и донец Проневич, которые во время кавалерийской атаки изрубили байрактаров (знаменщиков) и овладели знаменами. За это блистательное дело Гудович был произведен в генерал-майоры.
Восстановив в Валахии законное правительство, Гудович получил приказание отправиться в отдельный корпус генерал-аншефа Олица. Здесь, 20 апреля 1771 года, он участвовал в приступе Журжи, командуя средней штурмовой колонной. В самом разгаре приступа, когда Олиц внезапно заболел, а оба колонных начальника генералы де Молле и Гротенгельм выбыли из фронта ранеными, Гудович принял начальство над корпусом и после кровопролитного боя взял крепость, где пятнадцать орудий и восемнадцать знамен достались в руки победителей. По смерти Олица Гудович был утвержден командиром отдельного корпуса и на зиму оставлен в Валахии.
С открытием кампании 1772 года корпус Гудовича поступил под общее начальство князя Репнина, стоявшего тогда под крепостью Турно. Во время этой осады турки внезапно атаковали Журжу, и малодушный комендант ее, не дождавшись помощи, сдал крепость неприятелю. Неожиданное появление отряда Гудовича, посланного на выручку к Журже, всполошило турок, и комендант выслал парламентера объявить Гудовичу, что если войска его начнут нападение, то русский гарнизон, еще оставшийся в Журже, вопреки капитуляции будет перерезан.
– Поезжайте назад, – ответил Гудович парламентеру, – скажите, что если эти несчастные забыли завет наших предков: «Лечь костьми, ибо мертвые срама не имут», – то они не братья наши, и мы их презираем. Турки могут делать с ними все что угодно.
Однако же атаковать крепость, в которой засели двенадцать тысяч турок, Гудович не решился. Только в июле русские войска под общей командой генерала Эссена вторично подступили к Журже, штурмовали ее вопреки советам Гудовича, но были отбиты с огромной потерей: около двух тысяч русских солдат пало на валах укреплений и семь пушек сделались добычей неприятеля. Сам Гудович был ранен в правую ногу. Он не хотел, однако же, оставить армию и участвовал в кровопролитном сражении 20 октября на реке Дембовице, последствием которого было поражение армии сераскира и сдача Журжи, стоившей русским в этом году так много крови.
Этим закончились действия Гудовича в первую турецкую войну. Начав поход молодым полковником, он окончил его генерал-майором с Анненской лентой и Георгием на шее. Имя его приобрело популярность в армии; и если его горячий, суровый и недоступный характер не всегда нравился подчиненным, то никто из них не мог отказать ему в уважении. Пятнадцать лет мирного времени Гудович провел в звании начальника дивизии, а потом генерал-губернатора и наместника Рязанской и Тамбовской губерний. В это время он был произведен в генерал-поручики и награжден орденами Святого Александра Невского и Владимира 1-й степени.
Вторая турецкая война снова вызвала Гудовича на ратное поле. Командуя отдельным отрядом, он взял укрепленное место Гаджибей (нынешняя Одесса), затем принудил к сдаче крепость Килию и подступил к Измаилу. Но Измаил был не Килия и не Гаджибей. Грозные стены его защищались сорокатысячным гарнизоном под начальством мужественного сераскира, решившегося умереть, а не сдаться. 20 ноября Гудович донес Потемкину, что овладеть Измаилом в настоящем году невозможно. Потемкин ответил присылкой Суворова – и неприступная крепость была взята штурмом. Гудович уже не участвовал в этом приступе: он был отозван в главную квартиру, где некоторое время состоял без должности. Между тем императрица пожаловала ему за взятие Килии чин генерал-аншефа, а вслед за сим, 12 ноября 1790 года, назначила его кавказским наместником.
Гудович прибыл в резиденцию наместничества, в город Георгиевск, 26 января 1791 года, а спустя несколько месяцев он уже блестяще вписал свое имя в летописи Кавказских войн покорением Анапы – этого крепкого разбойничьего гнезда, высылавшего на русские пределы целые орды хищных горцев и уже два раза заставившего русские войска испытать неудачу.
Нашествие Батал-паши было свежо в памяти Кавказских войск и убеждало Гудовича в необходимости скорейшего разрушения этого разбойничьего притона. И скоро он, во главе пятнадцати батальонов и двух казачьих полков с пятьюдесятью орудиями, был под стенами Анапы.
Участь крепости была решена 22 июня 1791 года. Рекогносцировки убедили наместника, что крепость с суши превосходно защищена семью бастионными фронтами, соединенными между собой куртинами; что широкий ров, опоясывая ее полукругом и упираясь своими концами в обрывистый берег Черного моря, достигает нескольких саженей глубины, выложен камнем, а в некоторых местах даже просто высечен в каменистом грунте. Гудовичу известно также, что Анапу защищает пятнадцатитысячный отборный турецкий корпус и что в городе находится известный агитатор Шейх-Мансур, присутствие которого, по его влиянию на умы мусульман, могло заменить собой не одну тысячу войска.
Ночью 16 июня Гудович обложил Анапу, а на следующий день с утра батареи открыли по ней огонь. Гудович торопился с приступом, сознавая, что положение его корпуса может сделаться отчаянным. Перед ним были грозные твердыни, уже видавшие перед собой русские силы. За ним собирались отчаянные полчища горцев, готовые отрезать отступление или броситься в тыл русским, чтобы поставить их между двумя огнями. К тому же имелись сведения, что турецкий флот спешит на помощь Анапе и что он уже только в двух или трех переходах от нее.
День 21 июня прошел в приготовлениях к штурму. Войска разделились на четыре колонны, из которых одна, под командой генерала Загряжского, расположившись тылом к Анапе, приготовилась отражать нападение горцев, а остальные, под начальством генералов Булгакова, Депрерадовича и барона фон Шица, назначались на приступ. Гудович ездил по войскам и воодушевлял солдат рассказами о грозном измаильском штурме; и солдаты, вдохновляясь на этой глухой окраине отечества славой своих далеких сослуживцев, кипели желанием боя и обещали друг другу или взять Анапу, или умереть под ее стенами. В их положении, впрочем, другого выхода и не было.
В глухую полночь с 21 на 22 июня со всех русских батарей началась жестокая канонада. Турки отвечали не менее сильным огнем. И русские колонны при громе пушек и шуме морского прибоя двинулись к Анапе.
Первые две колонны, спустившись в ров и приставив лестницы, быстро, «по-измаильски», взобрались на стены и, несмотря на стойкое сопротивление турок, проникли в крепость. Третья колонна, генерала Шица, попала под сильный перекрестный огонь и была отброшена назад с огромным уроном. Но, устроившись, она повторила атаку и после жестокого боя утвердилась на правом бастионе. Воодушевление русских войск было так велико, что многие начальники, например полковники Чемоданов, Муханов, Келлер, Веревкин, Самарин, граф Апраксин и подполковник Нелидов, будучи ранены, и иные по несколько раз, не оставили строя. Гудович обратил особенное внимание на артиллерийского майора Меркеля, старого георгиевского кавалера, которому ядро раздробило руку и который, несмотря на это, до конца распоряжался действиями своих батарей.
Между тем турки сопротивлялись так упорно, что к шести часам утра почти весь главный русский резерв уже был израсходован, и Гудович ввел в дело остальную конницу, состоявшую из четырех полков под начальством бригадира Поликарпова. То были полки: Тираспольский конно-егерский и драгунские – Владимирский, Астраханский и Нижегородский. Они пронеслись в карьер под смертоносной тучей картечи и, спешившись в воротах крепости, оттеснили турок от окраин города. Поднимавшееся солнце застало еще кровавое побоище в домах и на улицах Анапы.
Между тем восемь тысяч черкесов спустились с гор и всей массой обрушились на горсть линейных казаков, стоявших впереди отряда Загряжского. Но «отменно храбрые гребенские и терские казаки, – как говорит Гудович в своем донесении, – не подались ни шагу назад». К ним скоро подоспел на помощь подполковник Львов с Таганрогским драгунским полком и врезался во фланг черкесской коннице. В то же время казаки, предводимые Загряжским и полковником Спешневым, пошли в атаку с фронта, и неприятель, охваченный с обеих сторон, побежал. Оправившись, горцы возобновили нападение, но, несмотря на все усилия, они не могли уже прорваться, чтобы ударить в тыл штурмующим колоннам.
Анапа была взята. Первые минуты, последовавшие за взятием крепости, были ужасны. Победители, раздраженные долгим сопротивлением и понесенными потерями, думали только о мщении. Более восьми тысяч турок были перерезаны в самой Анапе, столько же погибло и потоплено в море, и из всего анапского гарнизона спаслось на лодках едва ли более полутораста человек. Пленных взято было не много, но зато в их числе находились комендант Анапской крепости, его помощник – сын знаменитого Батал-паши, в то время жившего пленником в России, и, наконец, Шейх-Мансур.
Разграбленный город доставил солдатам богатую добычу. Восемьдесят три пушки, двенадцать мортир, сто тридцать знамен и несколько бунчуков составили трофеи этой славной победы. Русские потеряли на этом штурме девяносто три офицера и до четырех тысяч нижних чинов, следовательно, половину отряда.
Кровопролитный анапский приступ, совершенный годом позже измаильского, хотя и не получил такой же громкой и всеобщей известности, но, по справедливости, стоил Гудовичу едва ли не больших усилий, чем измаильский Суворову. Достаточно сказать, что Измаил был окружен со всех сторон русскими войсками, тогда как Гудович мог обложить Анапу только с суши, а с моря она имела возможность всегда получить подкрепление; Суворов знал одного неприятеля, бывшего впереди его, в стенах крепости, – Гудович поставлен был между двумя огнями и бился лицом в две разные стороны; при неудаче Суворов мог всегда отступить – Гудович был окружен, и в случае отступления неминуемо погиб бы со всем своим отрядом.
Едва Анапа пала, как показался сильный неприятельский флот и стал на якоре верстах в пятнадцати от берега. Было уже довольно темно, и турки, еще не зная, что судьба Анапы уже решена, отправили в гавань три кирлангича, которые вместе с экипажами и были захвачены русскими. На флоте об этом ничего не знали, но на следующий день, увидев множество плывущих тел, которые волны прибивали к самым кораблям, турки поняли, в чем дело, и, подняв паруса, поспешно удалились. В то же самое время получено было известие, что турки оставили Суджук-Кале, и Гудович занял его без боя. Обе крепости были срыты, батареи их взорваны, рвы и колодцы засыпаны, пороховые погреба и палисады уничтожены, и самые дома жителей истреблены огнем до основания. Таким образом, один день промедления – и Гудович ввиду прибытия флота должен бы был отказаться от приступа и отступить без успеха, так как штурмовать Анапу под огнем многочисленной морской артиллерии, конечно, не представлялось бы возможным.
Императрица достойно оценила блистательный подвиг, пожаловав Гудовичу орден Святого Георгия 2-й степени и золотую, украшенную лаврами и бриллиантами шпагу, а несколько позже, в день заключения мира, и орден Святого Андрея Первозванного. Генералы Загряжский, Булгаков, Шиц и бригадир Поликарпов получили ордена Святого Георгия 3-й степени, а полковники Самарин, Апраксин, Веревкин и капитаны Пищевич и Бачурин – тот же орден 4-й степени. Бачурин, офицер четвертого батальона Кавказского егерского корпуса, обратил на себя внимание тем, что, уже раненный, первым вскочил на батарею и, видя невозможность удержать ее, собственноручно заклепал несколько пушек, а остальные с помощью людей опрокинул вверх лафетами или сбросил с барбетов.
Покончив с Анапой и возвратившись в Георгиевск, Гудович деятельно занялся устройством русской пограничной линии. Он начал с того, что обуздал кабардинцев, введя у них родовые суды и преследование за такие преступления, которые до сих пор подлежали только духовному суду шариата, а в народе считались даже доблестями. К ним принадлежали взаимные набеги, кровомщение и даже куначество, обязывавшее защищать в своем доме каждого, не исключая убийцы.
Новая юрисдикция, не совсем понятная для горцев, вторгавшаяся в область их вековых народных обычаев, вызвала среди кабардинцев общее неудовольствие. Но прежде чем вспыхнуло готовящееся восстание, Гудович ввел в Кабарду войска, арестовал зачинщиков и выслал в Россию двух наиболее влиятельных из них владельцев Атажукиных. Это были братья Адиль и Измаил Гиреи, из которых последний был тогда подполковник и имел Георгиевский крест.
Для лучшего прикрытия русских границ Гудович проектировал устройство новой линии от верховьев Кумы по сухой границе и по Кубани до устья Лабы. На этом пространстве он думал расположить ряд укрепленных казачьих станиц – по примеру того, как это сделано было на Тереке. К сожалению, мысль его обратить в поселенных казаков те донские полки, которые служили на Кавказе, вызвала среди них открытый бунт, и казаки, оставив своих старшин, но забрав знамена, ушли на Дон и там произвели всеобщее смятение.
Один из современников этих событий, новочеркасский священник Рубашкин, оставивший свой дневник, рассказывает в нем, что в Новочеркасск прибыло более тысячи казаков из полков Поздеева, Луковкина и Кашкина. 31 мая 1792 года до трехсот человек ворвались в залу к атаману Иловайскому, требуя, чтобы им показали именной указ, «за что» Гудович принуждал их поселиться на Кавказской линии. Казаки требовали войскового круга, и Иловайский уступил. Но едва окончилось в кругу чтение некоторых бумаг и писем Гудовича о поселении на Кубани двенадцати новых станиц, как казаки кликнули: «Отымай дела!» «И тут, – прибавляет повествователь, – была штурма…»
Правительство вынуждено было послать регулярные войска для водворения спокойствия, но, несмотря на то, только через три года удалось отправить на Кавказ тысячу донских семей, из которых Гудович образовал новый Кубанский линейный казачий полк, поселенный на проектированных им местах по Кубани в шести станицах: Усть-Лабинской, Кавказской, Григориополисской, Прочноокопской, Темнолесской и Воровсколесской. При двух из этих станиц, Усть-Лабинской и Кавказской, возведены были сильные крепости, первая – на два батальона и семьдесят шесть орудий, а вторая – на один батальон и двадцать семь орудий.
В области внешних сношений деятельность Гудовича была направлена на то, чтобы заставить Персию исполнять договоры и не стеснять русскую торговлю. Но скоро дела на персидской границе приняли весьма неблагоприятный для нас оборот. Один из братьев гилянского владельца, Муртаза-Кули-хан, спасаясь от его преследований, нашел себе убежище в русском селении, основанном при Энзелинском порту с торговыми целями лет за десять перед этим во времена экспедиции графа Войновича. Напрасно жители Гилянской провинции требовали выдачи принца. Им ответили отказом и даже поспешили отправить его на купеческой шхуне в Баку. Но едва судно вышло на рейд, как значительные силы гилянцев напали на селение. Пятьдесят русских солдат под командой поручика Евдокимова, поддержанные пушечным огнем с купеческих судов и военных ботов, геройски отразили нападение.
Тогда гилянцы приступили к правильной блокаде селения. Семь дней держалась команда в осаде, но на восьмой, когда не стало провианта и пороха, забрала с собой жителей и, сев на суда, отплыла на остров Саре.