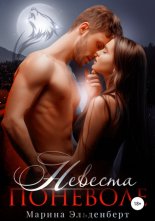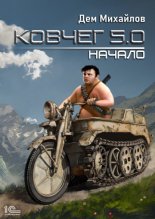Ада, или Отрада Набоков Владимир

Часть первая
«Все счастливые семьи более или менее различны, все несчастливые более или менее похожи друг на друга», замечает великий русский писатель в начале своего знаменитого романа («Anna Arkadievitch Karenina» в английском преображении Р. Дж. Стоунлоуэра, товарищество с ограниченной ответственностью «Гора Фавор», 1880). Это утверждение едва ли имеет какое-либо отношение к нашему повествованию, семейной хронике, первая часть которой ближе, пожалуй, другому сочинению Толстого, «Дтству и Отрочеству» (выпущенному по-английски в 1858 году издательством «Понтий Пресс» под названием «Childhood and Fatherland», то есть «Детство и Отечество»).
Дарья (Долли) Дурманова, бабка Вана по материнской линии, была дочерью князя Петра Земского, губернатора Бра-д’Ора, американской провинции на северо-востоке нашей обширной и разнообразной страны. В 1824 году князь женился на франтоватой светской особе, ирландке Мэри О’Рейли. Долли, их единственное дитя, родилась в Бра, и в 1840 году, нежных и своенравных пятнадцати лет от роду, обвенчалась с генералом Иваном Дурмановым, комендантом Юконской крепости и мирным помещиком, владевшим землями в Северн Тори (Сверныя Территорiи), этом лоскутном протекторате, который до сих пор любовно называют «Русской» Эстотией, гранобластично и органично смешанной с «Русской» Канадией, иначе называемой «Французской» Эстотией, где не только французские, но также македонские и баварские поселенцы наслаждаются чудным климатом под звездами нашего полосатого американского флага.
Дурмановы, впрочем, облюбовали Радугу, имение, расположенное вблизи городка с тем же названием, за пределами собственно Эстотиландии, на атлантическом отрезке материка, между фешенебельной Калугой (Нью-Чешир, С.Ш.А.) и не менее роскошной Ладогой (Майн), где они владели особняком и где родились трое их детей: сперва сын, умерший молодым и знаменитым, а затем двойня девочек с неуживчивыми характерами. Долли унаследовала материнскую красу и темперамент, но также и одну закоренелую родовую черту – эксцентричный и порой удручающий вкус, нашедший свое выражение, к примеру, в именах, которые она дала дочерям: Аква и Марина («Отчего не Тофана?» – со сдержанным утробным смешком спрашивал жену славный, награжденный ветвистыми оленьими рогами генерал и коротко откашливался с напускным безразличием – страшился вспышек ее гнева).
23 апреля 1869 года, во влажной и теплой, сетчатой от мороси зеленой Калуге, страдающая своей обычной весенней мигренью двадцатипятилетняя Аква сочеталась узами брака с манхэттенским банкиром старинного англо-ирландского рода Волтером Д. Вином, уже давно состоявшим в прерванной и вскоре вновь возобновившейся (спорадически) любовной связи с ее сестрой Мариной. Та, в свою очередь, в 1871 году вышла за двоюродного брата своего первого любовника, тоже Волтера Д. Вина, столь же богатого, но много менее блестящего господина.
«Д.» в имени мужа Аквы означал Демон (форма от Демьян или Дементий), и так его домашние и величали; в свете же он был известен главным образом как Ворон Вин или просто Черный Волтер, в отличие от мужа Марины, Волтера Дурака или попросту Рыжего Вина. Сугубое увлечение Демона состояло в коллекционировании Старых Мастеров и молоденьких метресс. Он, кроме того, любил зрелые каламбуры.
Мать второго Волтера, Данилы или Дана Вина, в девичестве носила фамилию Трумбэлл, и он имел склонность пространно пояснять, если только какой-нибудь охотник затравить зануду не сбивал его, как в ходе американской истории английский «bull» (бык) превратился в новоанглийский «bell» (колокол). В силу тех или иных причин он на третьем десятке «начал свое дело» и довольно бойко выбился в известного манхэттенского торговца картинами. Живопись его мало увлекала, во всяком случае на первых порах, к тому же ни коммерческой жилки, ни нужды растрясать на ухабах своей «работенки» солидное состояние, унаследованное от череды значительно более предприимчивых и решительных Винов, у Данилы не было. Признаваясь в том, что деревенская жизнь ему не по душе, он провел в Ардисе, своем великолепном имении вблизи Ладоры, лишь несколько тщательно затененных летних уик-эндов. Столь же редко с отроческих лет посещал он и другое свое поместье, расположенное на северной стороне Китеж-озера, под Лугой, вмещавшее и практически состоявшее из этой странно прямоугольной, притом совершенно естественной водной глади, для пересечения которой по диагонали окуню требовалось тридцать минут (как он однажды установил по часам) и которой он владел вместе со своим кузеном, бывшим в юности заядлым рыболовом.
Интимная жизнь бедного Данилы не отличалась ни сложностью, ни прелестью, но так вышло (он вскоре позабыл, при каких именно обстоятельствах, как забываешь мерки и цену любовно сшитого пальто, поносив его, от случая к случаю, два-три сезона), что наш негоциант удобно влюбился в Марину, семью которой знавал еще с тех времен, когда та владела Радужской усадьбой (впоследствии проданной г-ну Элиоту, дельцу-еврею). Как-то весенним днем 1871 года, поднимаясь вместе с Мариной в лифте первого манхэттенского десятиэтажного здания, он сделал ей предложение; на седьмом этаже («Отдел игрушек») был с негодованием отвергнут, вниз спустился в одиночестве и, желая проветрить чувства, отправился в контр-Фогговом направлении в тройной тур вокруг света, всякий раз повторяя, будто ожившая параллель, один и тот же маршрут. В ноябре 1871 года, когда он строил свои вечерние планы с тем же самым грязноватым, но любезным чичероне в костюме цвета caf-au-lait, которого он уже дважды нанимал все в том же генуэзском отеле, ему подали на серебряном подносе аэродепешу от Марины (пересланную с недельным опозданием его манхэттенской конторой, где ее по недосмотру новой служащей упрятали в долгий ящик с пометкой RE AMOR). Марина кратко извещала Данилу, что выйдет за него после его возвращения в Америку.
Согласно уцелевшему вместе с другими старыми бумагами на чердаке Ардис-Холла воскресному приложению к «Калужской газете», на юмористической странице которой как раз начала печататься серия рисованных историй «Доброй ночи, малыши!», о давно позабытых теперь Нике и Пимпернелле (очаровательных брате и сестрице, деливших узкую кровать), брачная церемония Вин – Дурманова состоялась в 1871 году в день св. Аделаиды. Двенадцать лет и приблизительно восемь месяцев спустя двое нагих детей, он – темноволосый и смуглый, она – темноволосая и молочно-белая, склонившись в луче жаркого солнца, падавшего из чердачного окна, под которым громоздились пыльные картонные коробки, случайно сопоставили эту дату (16 декабря 1871 года) с другой (16 августа того же года), косо нацарапанной задним числом рукою Марины в углу официальной карточки (стоявшей в плюшевой малиновой рамке на большом письменном столе ее мужа в библиотеке), – неотличимой от газетного снимка, с той же трафаретно волочащейся по земле эктоплазменной фатой невесты, слегка вздувшейся на паперти из-за бриза и облепившей панталоны жениха. Девочка появилась на свет 21 июля 1872 года в Ардисе, родовом поместье ее предположительного отца в графстве Ладора, и в силу какой-то неясной мнемонической причины была записана под именем Аделаида. Вторая дочь, на сей раз бесспорно Данова, родилась 3 января 1876 года.
Кроме этого старого иллюстрированного приложения ко все еще выходящей, но давно выжившей из ума «Калужской газете», наши озорные Пимпернелл и Николетта наткнулись в полумраке того же чердака на катушку с лентой, оказавшейся (по словам поваренка Кима, что станет ясно из дальнейшего) предлинным микрофильмом, отснятым глобтроттером. Пленка запечатлела всякие причудливые базары, раскрашенных херувимчиков и писающих мальчиков, возникавших трижды в разных ракурсах и в новых гелиоцветовых тонах. Разумеется, человеку, который собирается остепениться и создать семью, не следует хвастать определенного рода интерьерами (как, например, групповыми сценами в Дамаске – вот сам Данила, вот непрерывно дымящий сигарой археолог из Арканзаса, обладатель необыкновенного шрама на стороне печени, вот три толстые шлюхи, вот пеждевременный «гейзерок» старика Арчи, как смешно назвал эту конвульсию третий участник вечеринки мужского пола, некий бравый британец); и все же во время познавательного медового месяца, проведенного в Манхэттене, Дан много раз демонстрировал молодой жене большую часть этой ленты, к которой прилагались заметки строго фактического рода, не всегда легко отыскиваемые из-за выпавших или перепутанных закладок в нескольких путеводителях, разбросанных кругом.
Впрочем, лучшую свою находку дети обнаружили в другой картонной коробке, в более глубоком слое прошлого. Небольшой зеленый альбом с аккуратно вклеенными цветами, набранными самой Мариной или подаренными ей в горном курорте Эксе, недалеко от Брига, Швейцария, где она жила некоторое время до замужества (по большей части в наемном шале). Первые двадцать страниц этого гербария украшали мелкие растения, беспорядочно собранные в августе 1869 года на муравчатых склонах над шале, или в парке отеля «Флори», или же в саду близлежащего санатория («мой nusshaus», как его прозвала бедная Аква, «Приют» или «Дом», как более сдержанно его именует Марина в своих пометках о месте, где было сорвано растение). Эти начальные страницы не представляли большой ботанической или психологической ценности, а полсотни последних страниц альбома и вовсе остались пустыми; но срединная часть, с заметно убывающим числом образцов, оказалась сущей мелодрамой в миниатюре, разыгранной призраками мертвых цветов. Образчики находились на одной стороне альбомного листа, а заметки Марины Dourmanoff (sic) – en regard.
Ancolie Bleue des Alpes, Экс в Вале, 1.IX.69. От англичанина в отеле. «Водосбор альпийский. Цвет ваших глаз».
Epervire auricule. 25.X.69, Экс, ex horto д-ра Лапинера. Сорвана в стенах его альпийского сада.
Золотой [гинкго] лист: выпал из книги «Правда о Терре», которую Аква подарила мне перед возвращением в свой Приют. 14.XII.69.
Рукотворный эдельвейс, принесенный моей новой нянькой с запиской от Аквы, пояснявшей, что он взят с «мизерной и диковатой» рождественской ели в Приюте. 25.XII.69.
Лепесток орхидеи, одной из 99 орхидей – скажите пожалуйста! – присланных мне вчера, Спешная Доставка, c’est bien le cas de le dire, с виллы «Армина» в Приморских Альпах. Отложила десяток, чтобы отнесли Акве в ее Дом. Экс в Вале, Швейцария. «Снегопад в хрустальном шаре судьбы», как он говорил. (Дата стерта.)
Горечавка Коха, редкость, принесена лапочкой Лапинером из его «безмолвного гентиариума». 5.I.1870.
[Синяя чернильная клякса, случайно принявшая форму цветка, или же нечто вымаранное и подправленное химическим карандашом.] Compliquaria compliquata var. aquamarina. Экс, 15.I.70.
Причудливый бумажный цветок, найденный в сумочке Аквы. Экс, 16.II.1870. Сложен одним пациентом Дома, который уже больше не ее.
Горечавка весенняя (printanire). Экс, 28.III.1870, с лужайки у дома моей няньки. Последний день здесь.
Юные открыватели так прокомментировали это диковинное и отталкивающее сокровище:
«Из этого я вывожу, – сказал мальчик, – три главных обстоятельства: что еще незамужняя Марина и ее замужняя сестра провели зиму в моем lieu de naissance, что у Марины был ее собственный доктор Кролик, pour ainsi dire, и что орхидеи были посланы Демоном, предпочитавшим жить у моря, своей темно-синей прабабки».
«Могу добавить, – сказала девочка, – что лепесток относится к обычной онцидиум папилио – орхидее-бабочке; что моя мать была еще безумнее своей сестры; и что бумажный цветок, с таким высокомерием отвергнутый, вполне убедительно воспроизводит ранневесенний подлесник, виденный мной в изобилии на прибрежных калифорнийских холмах в прошлом феврале. Доктор Кролик, наш местный натуралист, упомянутый тобой, Ван, ради скорого повествовательного извещения, как могла бы назвать этот прием Джейн Остин (Вы ведь помните Брауна, не так ли, Смит?), определил, что образчик, привезенный мною в Ардис из Сакраменто, это “Bear-Foot”, B, E, A, R, “медвежья лапа”, любовь моя, не моя или твоя, или стабианской цветочницы – намек, который твой отец, а, согласно Бланш, также и мой, раскусил бы вот так (по-американски щелкает пальцами). И будь благодарен, – продолжала она, обнимая Вана, – что не привожу его научного названия. Между прочим, другая лапа – Pied de Lion – с той жалкой рождественской елки – сделана тем же, полагаю, несчастным китайским юношей, приехавшим на лечение из самого Баркли-колледжа».
«Отлично, Помпеянелла (ты видела ее, рассыпающую цветы, на репродукции в одном из альбомов дяди Дана, я же любовался ею в музее Неаполя прошлым летом). А теперь не пора ли нам, девочка, снова натянуть тенниски и шорты и спуститься вниз? Зароем или сожжем этот альбом прямо сейчас. Согласна?»
«Согласна, – ответила Ада. – Уничтожить и забыть. Но у нас еще целый час до чая».
Относительно «темно-синей» аллюзии, повисшей в воздухе:
Бывший вице-король Эстотии, князь Иван Темносиний, отец прапрабабки двух наших детей, княжны Софьи Земской (1755–1809), и прямой потомок Ярославских князей дотатарских времен, носил это имя с тысячелетней историей. Оставаясь невосприимчивым к роскошным переживаниям генеалогической осведомленности и равнодушным к тому обстоятельству, что болваны относят как безразличие, так и горячность в этом вопросе в равной мере к проявлению снобизма, Ван не мог не испытывать эстетического волнения из-за бархатного фона своего происхождения, который он всегда различал сквозь черную листву фамильного древа как утешительное вездесущее летнее небо. В поздние годы он уже не мог перечитывать Пруста (как никогда не мог вновь насладиться приторным вкусом тягучей турецкой нуги) без того, чтобы не накатила волна пресыщения и не начала саднить мучительная изжога; и все же его любимый пассаж сохранил свою прелесть, тот, пышный, пурпурный, об имени Германт, к оттенку которого в призме его ума примешивался смежный ультрамарин, приятно дразня его артистическое тщеславие.
Примешивался смежный? Неудачно. Переписать! (Более позднее замечание на полях рукою Ады Вин.)
Роман Марины с Демоном Вином начался в день ее, его и Данилы Вина рождения, пятого января 1868 года, когда ей исполнилось двадцать четыре, а обоим Винам – по тридцать лет.
Как актриса Марина не обладала ни одной из тех поразительных способностей, которые делают мастерство перевоплощения даже более ценным – во всяком случае, пока длится представление, – чем такие огни рампы, как бессонница, фантазия, дерзкое искусство; и все же тем вечером, с настоящим мягким снегом, падающим по ту сторону плюша и раскрашенных холстов, La Durmanska (платившая легендарному Скотту, своему импресарио, семь тысяч долларов золотом в неделю только за рекламу да еще вознаграждавшая его премилой премией за каждый ангажемент) с самого начала балаганной эфемериды (американской пьесы, состряпанной каким-то претенциозным поденщиком из знаменитого русского романа) была так воздушна, так прелестна, так привлекательна, что Демон (не вполне джентльмен в амурных делах) побился об заклад со своим соседом по креслам в партере, князем N., последовательно подкупил череду лакеев в артистических уборных, после чего в cabinet recul (как французский писатель предыдущего века мог бы загадочно назвать этот чулан, в котором держат всякий хлам, сломанную трубу и пуделевый обруч давно забытого клоуна, а еще множество пыльных склянок с разноцветным топленым салом) овладел ею между двух сцен (главы третья и четвертая в искалеченном романе). В первой она разделась за полупрозрачной ширмой, явив грациозный силуэт, вышла в соблазнительно-тонком пеньюаре и провела остаток жалкой сцены за обсуждением со старой няней в эскимосских унтах своего соседа-помещика, барона д’О. Следуя бесконечно мудрому совету крестьянки, она, присев на краю постели к ночному столику с гнутыми ножками, написала гусиным пером любовное письмо, которое еще целых пять минут читала вслух томным, но громким голосом – неизвестно кому и зачем, поскольку нянька задремала на чем-то вроде матросского сундука, а зрителей больше интересовало сияние искусственной луны на голых руках идышащей груди безнадежно влюбленной девицы.
Еще до того, как старуха-эскимоска, шаркая, унесла письмо, Демон Вин покинул свое обитое розовым бархатом кресло и отправился выигрывать пари, рассчитывая на успех не без оснований: Марина, целованная девственница, была увлечена им со времени их последнего танца на новогоднем балу. К тому же тропическая луна, в лучах которой она только что купалась, пронзительное сознание собственной красоты, воодушевление ее героини и вежливые аплодисменты почти полного зала сделали ее особенно беззащитной перед щекоткой Демоновых усов. Да и времени у нее оставалось довольно, чтобы переодеться к следующей сцене, которая открывалась долгим интермеццо русской балетной труппы, нанятой Скотти и доставленной в двух спальных вагонах из самого Белоконска, Западная Эстотия. В великолепном фруктовом саду несколько веселых молодых садовников, наряженных отчего-то грузинами, трескали ягоды малины, а группа столь же невозможных девушек-служанок в шароварах (по-видимому, кто-то оплошал, исказив слово «самовары» в аэродепеше импресарио) деловито собирала с плодовых деревьев мармелад и арахис. По незримому вакхическому знаку они все вдруг пустились в бешеный пляс под названием курва, иначе «Пышкина ленточка», как значилось в дурацкой программке, ужасные ляпсусы которой едва не свалили Демона Вина (дрожь во всем теле, легкость в чреслах и розово-красная банкнота князя N. в кармане) с кресла.
Его сердце пропустило удар и не пожалело о прекрасной потере, когда она вбежала в сад, распаленная и взволнованная, в розовом платье, сорвав третью сидячую овацию клаки, благодарившей за мгновенное исчезновение идиотских, но колоритных трансфигурантов из Ляски или Иверии. Ее встреча с бароном д’О., явившемся с боковой аллеи, при шпорах и в зеленом фраке, каким-то образом прошла мимо сознания Демона, настолько его поразило мимолетное чудо этой короткой бездны абсолютной реальности между двух фальшивых вспышек сфальсифицированной жизни. Не дожидаясь окончания сцены, он поспешил из театра в хрустящую хрустальную ночь, и снежинки звездными блестками усыпали его цилиндр, пока он шел домой, на соседнюю улицу, чтобы распорядиться о роскошном ужине. К тому времени, как он на санях с бубенцами вернулся за своей новой любовницей, последнее действие с балетом кавказских генералов и преображенных золушек подошло к своему внезапному концу: барон д’О., теперь в черном фраке и белых перчатках, стоял на коленях посреди пустой сцены, держа в руках стеклянную туфельку, – все, что оставила ему ветреная красавица, ускользнув от его запоздалых ухаживаний. Клакёры уже начали уставать и поглядывать на часы, когда Марина, в черном плаще, скользнула в объятия Демона и в его лебединые сани.
Они кутили, путешествовали, сорили деньгами, ссорились и сходились вновь. К следующей зиме он заподозрил, что она ему неверна, но не мог вычислить соперника. В середине марта, за деловым обедом с экспертом по предметам искусства, легкого нрава долговязым и обаятельным малым в старомодном фраке, Демон, ввинтив монокль, щелкнул замками особого плоского футляра, извлек из него небольшого размера рисунок пером и акварелью и сказал, что полагает (на самом деле знал наверняка, но хотел, чтобы его уверенность была оценена по достоинству), что это неизвестный образчик нежного искусства Пармиджанино. Художник изобразил нагую деву с похожим на персик яблоком в ладони приподнятой руки, сидящую бочком на оплетенном вьюнком выступе. Рисунок был тем более дорог его первооткрывателю, что напоминал Марину, когда она, вызванная аппаратом из отельной ванной комнаты, присев на подлокотник кресла и прикрыв трубку, спрашивала своего любовника о чем-то, что он не мог разобрать из-за шума воды, заглушавшей ее шепот. Едва лишь барон д’Онски взглянул на это поднятое плечо и на кое-какие изгибы и ложбинки с нежной растительностью, как Демон утвердился в своем подозрении. Д’Онски был известен тем, что не проявлял никакого эстетического возбуждения при виде даже самого обворожительного шедевра, но тут, отложив увеличительное стекло, будто отняв маску от лица, он неприкрытым взором, с улыбкой смущенной отрады, принялся ласкать бархатистое яблочко, впадинки и мшистые прелести обнаженной девушки. Не согласится ли господин Вин сей же час уступить ему рисунок, господин Вин, пожалуйста? Господин Вин не согласится. Конски (данное ему за глаза прозвище) остается довольствоваться тщеславной мыслью, что, по крайней мере до сего дня, лишь он да счастливый владелец – единственные во всем свете люди, способные наслаждаться этим произведением en connaissance de cause. Рисунок был возвращен в его особый интегумент; однако после четвертой рюмки коньяку д’О. попросил позволения взглянуть в последний раз. Оба были слегка навеселе, и Демон спрашивал себя, стоит ли, должно ли отметить это довольно, в общем, тривиальное сходство райской девы с молодой актрисой, которую его гость, без сомнения, имел удовольствие видеть на сцене в «Евгении и Ларе» или в «Леноре Вороновой» (оба спектакля разнес в пух и прах один «отвратительно неподкупный» молодой критик). Нет, не стоило: такие нимфы действительно весьма схожи друг с другом из-за своей изначальной прозрачности, поскольку сходство двух молодых тел, как двух капель воды, это всего лишь следствие журчания природной невинности и двуличности зеркал, вот моя шляпа, его засаленней, но у нас один и тот же лондонский мастер.
На другой день Демон завтракал в любимой своей гостинице с одной дамой из Богемии, которой прежде не знал и которой больше никогда не встречал (она желала получить его рекомендацию для службы в отделе стеклянных рыб и цветов бостонского музея). Завидев Марину и Акву, безучастно скользивших через зал в модной отрешенности и голубоватых мехах, с Даном Вином и ковыляющим дакелем позади, богемская дама, прервав свой поток, нашла нужным заметить:
«Занятно, как эта ужасная актрисочка напоминает “Еву у клепсидрофона” с известного рисунка Пармиджанино».
«Он какой угодно, но только не известный, – тихо сказал Демон, – и вы не могли его видеть. Вам не позавидуешь, – добавил он, – человеку стороннему, наивному, который или которая вдруг сознает, что замаралась в грязи чужой жизни, должно быть, здорово не по себе. Вы узнали об этом рисунке, упомянутом в частной беседе, от самого небезызвестного д’Онски или от кого-нибудь из его друзей?»
«Его друзей», ответила злополучная дама.
Во время допроса в темнице Демона Марина, заливисто смеясь, начала было плести затейливую паутину лжи, но разрыдалась и во всем созналась. Она клялась, что с этим покончено и что барон (телом жуткая развалина, а духом – истинный самурай) отбыл на жительство в Японию. Из более надежных источников Демон выяснил, что Самурай отправился вовсе не в Японию, а в фешенебельный Ватикан, римский курорт, откуда он через неделю или около того должен был вернуться в Аардварк, Массачусетс. Поскольку благоразумный Вин предпочитал убить соперника в Европе (поговаривали, будто дряхлый, но несокрушимый Гамалиил намеревался сделать все, чтобы запретить дуэли в Западном полушарии – то ли ложный слух, то ли быстрорастворимый утренний каприз президента-идеалиста, так как в конечном счете из этого ничего не вышло), он нанял самый быстрый петролет, какой только можно было сыскать, настиг барона в Ницце, на редкость свежего с виду, проследовал за ним в книжную лавку Гунтера и на глазах у ее невозмутимого и скучающего английского владельца хлестнул бледно-лиловой перчаткой опешившего барона по лицу. Вызов был принят. Подыскали двух местных секундантов. Барон настоял на шпагах, и после обильного пролития голубых кровей (польской и ирландской – что-то вроде американской «Обагренной Марии», как эту смесь именуют в барах), обрызгавших оба волосатых торса, беленую террасу, ступени, ведущие в забавной постановке Дугласа Д’Артаньяна назад, к обнесенному стеной саду, фартук случайно попавшейся на пути молочницы и рукава рубашек обоих секундантов, любезного мосье де Паструил и мерзавца полковника Сент-Алина (St. Alin), разнявших запыхавшихся противников, Конски скончался – не из-за «полученных ран», как неверно доносили слухи, а от гангренозных последтвий одной из самых незначительных из них, – вполне возможно, нанесенного им самому себе укола в пах, вызвавшего нарушение кровообращения, восстановить которое не удалось и после нескольких операций, сделанных ему в продолжение двух или трех лет затянувшегося пребывания в Аардваркском госпитале Бостона, городе, в котором, по совпадению, он в 1869 году женился на уже известной нам богемской даме, теперь хранительнице стеклянной биоты в местном музее.
Марина приехала в Ниццу спустя несколько дней после дуэли, выследила Демона на его вилле «Армина», и в экстазе примирения оба позабыли об уловках, уберегающих от зачатия, что привело к крайне интересному положенiю, без которого, собственно, эти горестные заметы никогда не обрели бы своей узорной связности.
(Ван, я доверяю твоему вкусу и таланту, но вполне ли мы уверены, что нам следует возвращаться в тот порочный мир с таким рвением? Ведь он, в конце концов, мог существовать лишь онирологически, Ван. Пометка на полях рукою Ады в 1965 году; легко перечеркнута ее позднейшим дрожащим почерком.)
Эта безрассудная пора оказалась не самой последней, но самой короткой, продлившись всего четыре или пять дней. Он простил ее. Он обожал ее. Он мечтал на ней жениться – при условии, что она немедленно покончит со своей театральной «карьерой». Он обличал посредственность ее дарования и вульгарность ее окружения, она же в ответ кричала, что он чудовище и дьявол. К десятому апреля уже Аква стала его сиделкой, а Марина улетела обратно, на репетиции «Люсиль», еще одной никчемной драмы, ожидавшей своего провала на подмостках еще одного ладорского театра.
«Adieu. Пожалуй, так будет лучше, – писал Демон Марине в середине апреля 1869 года (передо мной, вероятно, копия письма, переписанного его каллиграфическим почерком, или собственно непосланный оригинал), – ибо каким бы блаженством ни сопровождалась наша семейная жизнь и сколько бы ни продлилась эта блаженная жизнь, один образ я никогда не смогу ни забыть, ни простить. Позволь сути сказанного дойти до твоего сознания, дорогая. Позволь мне повторить это в таких выражениях, которые актриса сможет оценить. Ты улетела в Бостон навестить старушку тетку – клише, но в данном случае правда, – а я отправился проведать свою тетку на ее ранчо близ Лолиты в Техасе. Как-то ранним февральским утром (около полудня chez vous) я из придорожной кабины, цельный хрусталь которой был залит слезами после грандиозной грозы, позвонил в твой отель, чтобы просить тебя немедленно прилететь, поскольку я, Демон, шумящий смятыми крыльями и клянящий автоматический дорофон, не могу жить без тебя и поскольку я мечтал, чтобы ты увидела вместе со мной, прижимаясь ко мне, оцепенение ярких пустынных цветов, отысканных прошедшим дождем. Твой голос звучал далеко, но нежно; ты сказала, что обнажена, как Ева, погоди минутку, накину penyuar. Вместо этого ты, зажав мое ухо ладонью, обратилась к мужчине, с которым, полагаю, провела ночь (и которого я бы растерзал, кабы не жаждал его оскопить). Итак, вот он, эскиз, созданный в пророческом экстазе молодым художником из Пармы в шестнадцатом веке для фрески нашей судьбы и совпадающий, за исключением яблока ужасного познания, с образом, повторенным в сознании двух мужчин. К слову, твоя сбежавшая горничная была найдена полицейскими в здешнем борделе и будет препровождена к тебе, едва ее как следует накачают ртутью».
Подробности «Эль-катастрофы» (и я не имею в виду Элизиум) в beau milieu минувшего столетия, имевшей исключительное значение как для определения, так и для очернения понятия «Терра», слишком хорошо известны в историческом отношении и слишком непристойны в отношении духовном, чтобы посвящать им много места в книге, предназначенной юным любителям тайн и тайным любовникам, а не экспертам или эксгуматорам.
Разумеется, теперь, после того как прошел (лишь в той или иной мере!) великий период анти-Эльских реакционных заблуждений и наши маленькие глянцевитые машины, да благословит их Фарабог, вновь тарахтят себе по-своему, как то было в первой половине девятнадцатого века, сам географический аспект этого дела обнаруживает свою искупительную комическую черту, вроде тех узоров латунной маркетри в брик-а-Браках и прочих сусальных пакостях, которые назывались «искусством» нашими безъюморными предками. Поскольку, действительно, всякий отметит нечто в высшей степени смехотворное в самих конфигурациях того, что торжественно преподносилось как многокрасочная карта Терры. Вдь обхохочешься, стоит только подумать, что «Россия», вместо того чтобы быть причудливым синонимом Эстотии, американской провинции, протянувшейся от Северного полярного и более не порочного круга до собственно владений Соединенных Штатов, на Терре – название страны, словно бы переброшенной фортелем континентов через сдвоенный океан – ну не умора ли? – на другое полушарие, где она растянулась по всей территории современной Татарии от Курляндии до Курил! К тому же (что еще абсурднее), если в земных пространственных терминах Амероссия Авраама Мильтона была расколота на составные части, с реальными водами и льдами, разделявшими скорее политические, нежели поэтические понятия «Америка» и «Россия», то в отношении времени возникли более сложные и даже еще более нелепые расхождения – не только оттого, что история каждой части амальгамы не вполне соответствовала истории каждой из их копий в их разъединенном состоянии, но и оттого, что между двумя мирами так или иначе существовал разрыв в добрую сотню лет, разрыв, отмеченный престранной путаницей указателей направлений на перекрестках проходящего времени, когда не всё случившееся одного мира соотносится с еще не случившимся другого. Именно вследствие этого, кроме прочего, «научно непознаваемого» схождения отклонений, умы bien rangs (не склонные шутить с чертями) отвергли Терру как блажь или мираж, умы же расстроенные (готовые очертя голову броситься в бездну) приняли ее за подтверждение и знак собственной иррациональности.
Впоследствии сам Ван Вин, предавшись пылким изысканиям в области террологии (бывшей в то время отраслью психиатрии), выяснил, что даже глубочайшие мыслители, философы чистейшей воды, Паар из Чуза и Запатер из Аардварка, терзались противоречивыми чувствами, допуская возможность того, что где-то существует «гнилой землицы нашей порочное зерцало», – как с благозвучным остроумием выразился один ученый муж, пожелавший остаться безымянным. (Гм! Странно-странно, как говаривала бедная м-ль Л., обращаясь к Гавронскому. Приписка рукой Ады.)
Были те, кто утверждал, что расхождения и «ложные наложения» между двумя мирами слишком многочисленны и слишком глубоко вплетены в клубок последовательных событий, чтобы теория сущностного тождества не запятналась банальной фантазией; им возражали, что расхождения лишь утверждают живую органическую реальность иного мира, что совершенное подобие подразумевало бы зеркальность, а значит, спекулятивность феномена, и что две шахматные партии с одинаковыми начальными и заключительными ходами на одной доске, но в двух сознаниях могут разветвляться в бесконечное многообразие вариантов на каждой срединной стадии их необратимо сходящегося развития.
Скромному повествователю приходится напомнить все это тому, кто сейчас перечитывает предыдущий пассаж, поскольку в апреле (мой любимый месяц) тысяча восемьсот шестьдесят девятого (и нисколько не mirabilis) года, в день св. Георгия (согласно слезливым мемуарам м-ль Ларивьер), Демон Вин женился на Акве Дурмановой – со злости и из жалости, не столь уж редкой смеси чувств.
Были ли они приправлены чем-нибудь еще? Марина с извращенным тщеславием утверждала в постели, что на чувства Демона, должно быть, повлияло своего рода «кровосмесительное» (что бы этот термин ни значил) удовольствие (в значении французского plaisir, изрядно отдающего добавочным позвоночным вибрато), когда он нежил, и смаковал, и деликатно раздвигал, и осквернял разными неудобосказуемыми, но упоительными способами плоть (une chair), принадлежавшую сразу и жене, и любовнице, смешанные и сияющиепрелести двух единоутробных пери, Аквамарина одновременно единая и сдвоенная, мираж в эмирате, бесценный самоцвет, оргия эпителиальных аллитераций.
По правде говоря, Аква была не такой хорошенькой и гораздо более чокнутой, чем Марина. Четырнадцатилетний срок ее жалкого замужества состоял из все удлинявшихся периодов пребывания в различных санаториях. Небольшую карту европейской части Британского Содружества – скажем, от Шотландо-Скандинавии до Ривьеры, Алтара и Палермонтовии, – а также внушительную часть С.Ш.А., от Эстотии и Канадии до Аргентины, можно было довольно густо испестрить эмалевыми флажками с красным крестиком, отмечающими – в собственной Аквиной Войне Миров – места ее бивуаков. Одно время она подумывала поискать хотя бы немного здравости («чуточку серого, пожалуйста, вместо этой сплошь непроницаемой черноты») в таких англо-американских протекторатах, как Балканы и обе Индии, и даже попытать счастья на двух южных континентах, процветающих под нашим совместным господством. Разумеется, суверенный ад Татарии, в те времена протянувшейся от Балтийского и Черного морей до Тихого океана, оставался для туристов недоступным, хотя названия Ялта и Алтын Таг звучали до странности привлекательно… Однако ее истинной целью была Терра Прекрасная, и туда-то, верила Аква, она унесется на длинных стрекозьих крыльях после своей смерти. Ее горькие записки к мужу, славшиеся из различных приютов безумия, бывали подписаны так: «Мадам Щемящихъ-Звуковъ».
После первой схватки с умопомрачением в Экс-ан-Вале она вернулась в Америку и потерпела жестокое поражение, в те дни, когда Ван еще сосал грудь совсем юной кормилицы, почти ребенка, Руби Блэк, рожденной Блэк, которой тоже суждено было сойти с ума, поскольку стоило лишь какому-нибудь нежному и хрупкому созданию сблизиться с ним (к примеру, Люсетте в свое время), как его неминуемо постигали горе и страдания, если, конечно, у этого создания в жилах не текла стойкая демонская кровь его отца.
Акве еще не исполнилось и двадцати, когда свойственная ее натуре экзальтация начала обнаруживать признаки отклонения. Хронологически начальная стадия ее умственного расстройства совпала с первым десятилетием Великого Откровения, и хотя она могла бы с той же легкостью найти другую тему для своей мании, из данных статистики следует, что Великое и для иных Невыносимое Откровение вызвало в мире большее число помешательств, чем даже религиозный фанатизм в Средние века.
Откровение может быть опаснее кровавой революции. Повредившиеся умом отождествляли «Планету Терру» с понятием «тот свет», и этот «Мир Иной» смешивался не только с «Миром Потусторонним», но и с Миром Реальным вокруг нас и внутри нас. Наши чародеи, наши демоны – благородные сияющие существа с прозрачными когтями и мощным взмахом крыльев; однако Нововеры шестидесятых годов девятнадцатого века страстно призывали нас представить себе сферу, в которой наши чудесные друзья вконец опустились, сделавшись всего лишь злобными и порочными монстрами, омерзительными бесами с черными мошонками хищников и ядовитыми зубами змей, осквернителями и мучителями женских душ, в то время как на противоположной стороне космического переулка радужная дымка ангельских духов, населяющих сладостную Терру, воссоздавала все позабытые, но еще плодотворные мифы былых верований, с переложением для мелодиона всех какофоний всех богословий и пророчеств, когда-либо порожденных болотами нашего достаточного мира.
Достаточного для твоей цели, Ван, entendons-nous. (Заметка на полях.)
Бедняжка Аква, чье воображение было легкой добычей для юродивых и христиан, живо воображала себе рай младшего псаломщика, Америку грядущего: алебастровые здания в сто этажей, напоминающие красивые мебельные лабазы, набитые высокими белыми шкафами и приземистыми рефрижераторами; она видела гигантских летающих акул с глазами по бокам, способных всего за ночь перенести паломников по черному эфиру через весь континент, от темного к сияющему морю, а после вернуться в Сиэтл или Уорк. Она слышала волшебные музыкальные шкатулки, говорящие и поющие шкатулки, которые заглушали ужас мысли, возносили девушку-лифтера, спускались с углекопом, восхваляя красоту и благочестие, Деву и Венеру, в обителях пустынных и скорбных. Непостижимой силой магнетизма, обличаемой злостными законниками в этой нашей захудалой державе, да и вообще всюду – в Эстотии и Канадии, в «германской» марке Кеннензи и в «шведской» Манитобогане, в мастерской краснорубашечника-юконца и на кухне краснокосыночной лясканки, и во «французской» Эстотии, от Бра-д’Ора до Ладоры, а там и на всем пространстве двух наших Америк, как и на всех прочих потрясенных континентах, – на Терре пользовались так же свободно, как водой и воздухом, библиями и метлами. Двумя-тремя столетиями раньше Аква легко нашла бы себе место в когорте горючих ведьм.
В сумбурные студенческие годы она бросила модный Браунхильский колледж, основанный не самым почтенным ее предком, чтобы с другими энтузиастами (что также было модно) участвовать в одном из проектов Общественного Содействия, зачинавшихся на Сверныхъ Территорiяхъ. При живейшей поддержке Мильтона Авраама она открыла в Белоконске «Другсторий» (аптекарский магазин «Дружба») и там же болезненно влюбилась в женатого человека, который после одного лета плебейской страсти, скупо отпускавшейся Акве в его гарсоньерке (фордовом доме на колесах), почел за лучшее бросить любовницу, чем искушать судьбу, рискуя своим положением в мещанском городке, в котором местные воротилы по воскресеньям играли в «гольф» и состояли в «ложах». Кошмарный недуг, поверхностно и небрежно определенный в ее случае (а также применительно к другим несчастным) как «крайняя форма мистической мании в сочетании с экзисступлением» (иными словами, обычное помешательство), завладевал ею постепенно, отступая в периоды экстатической благости и преодолевая всё более редкие и короткие участки зыбкого здравомыслия, с внезапно находившими на нее грезами о беспечной вечности.
После ее смерти в 1883 году Ван подсчитал, что за тринадцать лет, принимая во внимание каждый случай предположительного присутствия и все печальные визиты к ней в различные госпитали, а также ее неожиданные вторжения среди ночи (когда она, на всем пути вверх по лестнице борясь с мужем или хрупкой, но проворной английской гувернанткой, встречаемая радостным лаем старого аппенцеллера, прорывалась наконец в детскую – без парика, босоногая, с окровавленными ногтями), он видел ее или находился подле нее в конечном счете не долее срока вынашивания человеческого плода.
Вскоре зловещая мгла скрыла от нее радужную даль Терры. Одна стадия распада сменялась другой, еще более мучительной, поскольку человеческий мозг может сделаться наилучшим пыточным застенком из всех, им самим изобретенных и испробованных – за миллионы лет, в миллионах стран, на миллионах воющих созданиях.
У нее развилась болезненная чувствительность к плеску проточной воды, напоминающему порой (подобно току собственной крови в предморфическом состоянии) обрывки человеческой речи, все еще звучащей в ушах, когда моешь руки после коктейля с незнакомыми людьми. Заметив однажды этот продленный, стойкий, а в ее случае скорее нетерпеливый и игривый, но, конечно, совершенно безобидный отзвук той или иной недавней беседы, она почувствовала, как у нее по спине побежали мурашки от мысли, что вот она, бедняжка Аква, вдруг открыла такой простой способ записывать и передавать звучащую речь, в то время как все эти технические специалисты (так называемые яйцеголовые) во всем мире выбиваются из сил, создавая удобные в использовании и прибыльные для производителей, но по-прежнему такие сложные и дорогие гидродинамические телефоны и прочие убогие приспособления взамен тех, что канули къ чертямъ собачьимъ вместе с запрещенным к упоминанию «ламмером». Вскоре, однако, ритмически безупречная, но вербально довольно невразумительная болтовня водопровода начала приобретать слишком много уместного смысла. Внятность речи текущей воды росла пропорционально злобности ее инсинуаций. Она принималась вещать вскоре после разговора Аквы с кем-нибудь или после чьи-нибудь слов, не обязательно обращенных к ней, слов напористых и выразительных – человек с быстрым характерным голосом и очень своеобразными или иностранными интонациями, какой-нибудь навязчивый краснобай на дрянной вечеринке, или журчащий монолог в дурацкой пьесе, или дорогой голос Вана, или обрывок стихотворения, услышанного на лекции, мой мальчик, мой милый, любовь моя, сжалься, но особенно более текучие и flou (расплывчатые) итальянские стихи, к примеру, те, которые читал эдак нараспев полурусский, полусумасшедший старый доктор, постукивая молоточком по ее коленкам и оттягивая ей веки, лот, ток, веки, реки, ballatetta, deboletta… tu, voce sbigotitta… spigotty e diavoletta… de lo cor dolente… con ballatetta va… va… della strutta, destruttamente… mente… mente… довольно, остановите пленку, иначе гид продолжит показывать, как он делал этим утром во Флоренции, тот нелепый столп, увековечивающий, по его словам, память об «ильмо», который покрылся листвой, когда под его сенью, градуально густевшей, проносили каменно-тяжелое тело мертвого св. Зевса; или та карга из Арлингтона примется без умолку наставлять своего молчащего мужа, пока мимо проносятся виноградники, и даже в туннеле («…они не могут так поступать с тобой, скажи им, Джек Блэк, ты просто скажи им…»). В воде, наполнявшей ванну (или хлеставшей в душе), слишком много было от Калибана, чтобы звучать членораздельно – или же, быть может, ей просто зверски хотелось изойти горячей струей и избавиться от адского жара, а не отвлекаться на пересуды; но иные речистые ручейки становились все более требовательными и гадкими, и когда в своем первом «Доме» она услыхала, как один из самых отвратительных приходящих докторов (тот, который читал наизусть Кавальканти) словоохотливо излил отвратительные предписания на жидком немецком (с русским акцентом) в ее отвратительное биде, она решила вовсе перестать пользоваться проточной водой.
Но эта стадия тоже миновала. Иные муки так основательно заменили названную ее именем пытку, что когда она однажды, в один из периодов просветления, слабой рукой нажала на рычажок купели с питьевой лимфой, прохладный источник ответил на собственном наречии, без капли издевки или иронии: «Finito!» Тогда-то в сознании Аквы между тусклых изваяний мыслей и воспоминаний и начали шириться мягкие темные ямы, ямищи, несказанно ее терзавшие; умственная судорога и телесная боль сомкнули рубиново-черные длани – одна принуждала ее мечтать о здравом рассудке, другая – молить о смерти. Рукотворные вещи утрачивали свое значение или наполнялись каким-нибудь чудовищным смыслом: одежные «плечики» казались в самом деле обезглавленными теллурийцами, складки сброшенного пинком одеяла становились горестно глядящим лицом с ячменем на набрякшем веке и унылым укором в углах мертвенно-бледных губ. Попытка постичь данные, каким-то образом извлекаемые гениями из положения стрелок хронометров или трелей репетиров, стала столь же безнадежной, как попытка разобрать язык жестов тайного общества или китайский напев молодого студента с гитарой (не китайской), которого Аква знавала в ту пору, когда она или ее сестра разрешилась лилово-розовым младенцем. Однако ее безумие, ее величество безумие, сохраняло трогательное кокетство сумасшедшей королевы: «Знаете, доктор, мне, кажется, скоро понадобятся очки. Вот уж, в самом деле (надменный смех), – никак не разберу, что там показывают мои часики… Ради всего святого, да скажите же, что там на часах! Неужели! Ровно полдень – но как полдень может быть ровным? Ах, ни в каком смысле, ни в каком. Смысл и замысел – слова-близнецы, у меня сестра-близнец и сын-близнец. Знаю, вам не терпится осмотреть лепестки моего рододендрона, волосатая альпийская роза в ее альбоме, сорванная десять лет тому назад» (показывает десять пальцев – восторженно, горделиво, да, именно десять!).
Затем страдания сделались нестерпимыми, доводя ее до совсем уже кошмарных состояний с криками и рвотой. Она пожелала (и ей в том не отказали, хвала госпитальному брадобрею Бобу Рику), чтобы ее черные кудри сбрили до аквамариновой щетины, поскольку ей казалось, будто они растут внутрь ее пористого черепа и курчавятся внутри. Составные кусочки неба или стены все время распадались, и как бы тщательно она их ни соединяла – неосторожный толчок или локоть сиделки легко разобщали эти невесомые фрагменты, вместо которых возникали непостижимые пустоты неизвестных предметов или изнанки шашек «Скрэббла», которые она никак не могла повернуть внутренней осмысленной стороной, поскольку руки были связаны за спиной санитаром с черными глазами Демона. Но вот страх и боль, как двое детей в шумной игре, с последним пронзительным хохотом унеслись прочь, чтобы заняться друг другом за кустарниковой зарослью, как в «Анне Карениной» графа Толстого, роман такой, и опять на некоторое время, на короткое время, в доме стало очень тихо, и у их матери было то же имя, что и у матери Аквы и Марины.
Порой Акве мнилось, будто ее мертворожденный ребенок мужского пола, проживший в ней всего шесть месяцев, изумленный зародыш, резиновая рыбка, которой она разрешилась в ванне, в lieu de naissance, обозначенном в ее снах просто как Х, погибший из-за того, что она со всего лыжного лету наскочила на припорошенный пень лиственницы, каким-то чудом выжил и был привезен ей с поздравлениями от сестрицы в Nusshaus (завернутый в насквозь мокрую от крови вату, но живой и совершенно здоровенький), с тем чтобы его записали в метрическую книгу как ее сына, Ивана Вина. В другие дни она бывала убеждена в том, что то был ребенок сестры, рожденный вне брака во время изнурительно долгой, но все же необычайно романтичной метели в горном пристанище на Секс-Руж, где некто д-р Альпинер, практикующий врач и любитель горечавки, суша сапоги, сидел в провиденциальном ожидании у грубой красной печки. Менее чем два года спустя, в сентябре 1871-го, – ее непокорное сознание все еще хранило с дюжину дат – вышло недоразумение, когда она сбежала из своего нового пристанища и каким-то чудом добралась до памятного загородного дома мужа (притворилась иностранкой: «Signor Konduktor, ай вант go Lago di Luga, hier geld»). Воспользовавшись тем, что Демон принимал сеанс массажа в солярии, она прокралась в их бывшую спальню, где испытала приятное потрясение: ее гигиеническая пудра в полупустом флаконе с надписью яркими буквами «Quelques Fleurs» все еще стояла на ее ночном столике; ее любимая огненно-красная ночная сорочка лежала смятая на покрывале, и для нее все это означало, что то был лишь короткий черный кошмар, затмевавший лучезарную правду, что все это время она, Аква, спала с мужем в одной постели, – с того самого зеленого и дождливого дня рождения Шекспира; для большинства же остальных людей, увы, это значило, что Марина (оставленная фильмовым режиссером Г. А. Вронским ради очередного хлопающего ресницами Христосика, как он называл хорошеньких юных актрис) уверила себя, что c’est bien le cas de le dire было бы преотлично принудить Демона развестись со свихнувшейся Аквой и жениться на ней, Марине, которой чудилось (счастливо и справедливо), что она вновь на сносях. Марина провела с Демоном рукулирующий месяц в Китеже, но стоило лишь ей самодовольно заикнуться о своих планах (как раз перед приездом Аквы), как он вышвырнул ее из дома. Еще позже, на последнем коротком витке своего безотрадного существования, Аква отбросила все эти сомнительные воспоминания и в роскошной «санастории» в Центавре (Аризона) стала читать и перечитывать, набожно и блаженно, письма сына. Он писал к ней неизменно по-французски, называя ее «petite maman», и все возвращался к той замечательной школе, в которую должен был отправиться по достижении тринадцати лет. Она слышала его голос сквозь ночной звон в ушах во время новых, полных планов, последних, самых последних бессонниц, и это утешало ее. Обычно он называл ее по-русски «мамочкой», делая ударение на первом слоге, или по-английски «mama», выделяя последний слог на французский манер. Говорят, что в трехъязычных семьях нередко рождаются тройни и геральдические драконцы; но теперь уже не оставалось никаких сомнений (не считая, быть ожет, разве тех, которые имелись в ненавистном, давно мертвом, пребывающем в аду сознании Марины), что Ван был именно ее, ее, Аквы, любимым сыном.
Не желая погружаться в новый рецидив после этого благословенного состояния совершенного душевного покоя, но зная, что оно долго не продлится, она поступила, как другая страдалица в далекой Франции, в гораздо менее светлом и привольном «Доме». Некто д-р Фройд, один из начальствующих кентавров – он мог быть эмигрировавшим братом (с искаженной в паспорте фамилией) д-ра Фройта из Синьи-Мондьё-Мондьё, городка в Арденнах, или, что вернее, являлся этим самым человеком, поскольку оба происходили из Вьены (Изер) и были единственными сыновьями своих матерей (как и ее сын), – применил, или, скорее, вменил терапистский метод, укрепляющий «групповое» чувство, по которому лучшим пациентам дозволялось помогать санитарам и сестрам, ежели они «испытывали таковую склонность». Аква, в свой черед, в точности повторила хитроумный трюк смышленой Элеоноры Бонвар, а именно вызвалась заправлять постели и мыть стеклянные полки шкапчиков. Этот «Асториум» в Сен-Таврусе, или как там его именовали (не все ли равно – такие мелочи забываешь очень быстро, когда тебя носит в бесконечном ничто), был, пожалуй, посовременнее, с более изысканным видом на пустыню, чем тот холодный дом, гнуспиталь в Мондефройде, но в обоих местах полоумный пациент мог в два счета обставить круглого дурака-доктринера.
Ей потребовалось меньше недели, чтобы накопить две сотни пилюль различной силы действия. Многие из них она уже пробовала – наивные успокоительные и те, что валят с ног от восьми до полуночи, и несколько видов первоклассных снотворных, оставляющих вас с хрупкими конечностями и свинцовой головой после восьмичасового небытия, и тот наркотик, сам по себе восхитительный, но немного убийственный, если его запить глотком дезинфицирующего средства под коммерческим названием «Морона»; и еще была круглая пилюля, фиалкапсула, напоминавшая ей – что было очень забавно – те шарики юной гитаночки-волшебницы в испанской сказке (любимой ладорскими школьницами), которыми она усыпляла всех ловцов и их гончих в начале охотничьего сезона. А чтобы какой-нибудь стервец не воскресил ее, воротив с полпути обратно, Аква решила обеспечить себе максимально долгий срок неприкосновенного беспамятства где-нибудь за пределами стеклянного дома. Осуществлению этой второй части замысла неожиданно способствовал другой агент или двойник Изерского профессора, некто д-р Зиг Хайлер, почитавшийся всеми за отличного малого и практически гения – в том же расхожем смысле, в каком безалкогольное пиво практически пиво. Те пациенты, которые дрожаньем век и других более или менее интимных частей тела подтверждали наблюдавшим их студентам-медикам, что Зиг (слегка кривобокий, но не безобразный малый) является им во сне в образе «папаши Фига», мастера хлопать девиц по задницам и метко плевать в урны, определялись в разряд выздоравливающих и получали, после пробуждения, дозволение участвовать в обычных групповых развлечениях на свежем воздухе, к каковым относились и пикники. Лукавая Аква дрогнула, изобразила зевок, открыла свои ярко-голубые глаза (с тем же примечательным контрастом саржево-черных зрачков, которым отличались и глаза ее матери Долли), натянула свободные желтые штаны и черное болеро, прошла через сосновую рощицу, большим пальцем поднятой руки остановила мексиканский грузовик, доехала до подходящего ущелья, заросшего чапаралем, и там, написав короткую записку, безмятежно принялась поедать многоцветное содержимое своей сумочки, захватывая его горстями, как деревенская русская девушка, лакомящаяся ягодами, только что собранными в лесу. Она улыбнулась, мечтательно тешась мыслью (вполне «каренинской» по тону), что ее исчезновение, пожалуй, заденет людей так же сильно, как внезапное, таинственное, никем никогда не объясненное прекращение юмористической колонки в воскресной газете, которую читают годами. То была ее последняя усмешка. Ее очень скоро нашли, но она умерла даже быстрее, чем можно было ожидать, и наблюдательный Зигги, все еще облаченный в мешковатые, защитного цвета шорты, отметил, что сестра Аква (как почему-то все ее называли) лежит так, будто ее погребли в доисторическое время, в позе зародыша, – комментарий, показавшийся важным его студентам, как, возможно, и моим.
Обнаруженную у нее предсмертную записку, адресованную мужу и сыну, мог бы составить и самый здравомыслящий человек на той или этой планете.
Aujourd’hui (heute – ой ли!) я, эта умеющая вращать глазами кукла, заслужила псикитческое право насладиться натур-мортом в обществе герра д-ра Зигга, сестры Иоанны Грозной и нескольких «пациентов» в подзаборном бору, где я заприметила, Ван, точно таких же скунсовидных белок, которых твой Темносиний предок привез в парк Ардиса, где тебе еще предстоит нагуляться вволю. Стрлки часовъ [the hands of a clock], даже когда они встали, должны знать и передать самым глупеньким ручным часикам, на чем именно они остановились, иначе это вовсе не циферблат, а только белая физиономия с накладными усами. Так и человкъ должен знать, где он, в каком месте, и сообщить другим, – в противном случае он даже не клокъ человка, не чело и не веко, ни то ни се, а только «a tit of it» [одно название], как бедняжка Руби, Ванечка мой, говорила о своей скудной правой титьке. Я, несчастная Princesse Lointaine, а теперь trs lointaine, не знаю, где нахожусь. Посему я должна сгинуть. Так что, adieu, мой милый, милый мой сын, и прощай, бедный Демон, я не знаю ни даты, ни времени года, но сегодня резонно и, без сомнения, сезонно, стоит ясный день с ручейком хорошеньких маленьких муравьев, стекающихся отведать моих ярких пилюль.
[Подписано: ] Сестра своей сестры,
которая теперь изъ ада
«Если мы хотим, чтобы солнечные часы жизни показали нам свою стрелку, – прокомментировал Ван, развивая метафору в розовом саду поместья Ардис в конце августа 1884 года, – мы всегда должны помнить, что могущество, достоинство, упоение человеческое состоят в том, чтобы одолевать и презирать тени и звезды, которые скрывают от нас свои тайны. Только нелепая сила боли вынудила ее сдаться. И я часто думаю, насколько было бы убедительнее, эстетически, экстатически, эстотически говоря, – если бы она в самом деле была моей матерью».
Когда в середине двадцатого века Ван начал восстанавливать свое глубинное прошлое, он скоро заметил, что те детали его детства, которые действительно были важны (для особой цели, преследуемой этой реконструкцией), лучше всего поддавались осмыслению, а зачастую только и могли быть разъяснены лишь после того, как они вновь возникали на разных более поздних стадиях его отрочества и юности – в виде тех внезапных сопоставлений, которые, освещая часть, осеняют и целое. Вот отчего его первая любовь имеет здесь преимущество перед его первой травмой или кошмаром.
Ему только что исполнилось тринадцать. Он никогда еще не покидал благополучного отчего крова. Он никогда еще не задумывался о том, что такое «благополучие» не может считаться чем-то само собой разумеющимся, вроде готовой метафоры, которой принято начинать книжки о мальчике и школе. На соседней от школьного двора улице мадам Тапирова, вдова-француженка, говорившая по-английски с русским акцентом, держала магазин всякой изысканной всячины и более или менее антикварной мебели. Как-то ясным зимним днем он зашел в него. Хрустальные вазы с алыми розами и золотисто-бурыми астрами возвышались там и тут в передней части магазина – на золоченой деревянной консоли, на сиявшем от лака комоде, на кабинетной полке или просто на ковровых ступенях, ведущих на второй этаж, где величественные платяные шкапы и вычурные буфеты окружали диковинную группу из нескольких арф. Он удостоверился в том, что цветы искусственные, и подумал, странно, что такого рода подделки всегда стремятся соблазнить исключительно зрение, вместо того чтобы сымитировать также маслянистую влагу живых лепестков и листьев, тем самым обманув и осязание. На другой день он зашел спросить о какой-то вещице(теперь, восемьдесят лет спустя, затерявшейся в памяти), которую хотел не то починить, не то дублировать, и узнал, что она еще не готова или не получена. Уходя, он коснулся полураскрытого бутона розы, и, вопреки ожиданию, его озадаченные пальцы ощутили не стерильную текстуру, а прохладный живой поцелуй надутых губок. «Моя дочь, – сказала г-жа Тапирова, заметив его удивление, – всегда добавляет несколько настоящих к этим фальшивкам pour attraper le client. Вам достался джокер». Он столкнулся с ней в дверях, школьницей в сером пальто, с русыми локонами до плеч и прелестным лицом. В другой раз (поскольку какой-то части той вещи, кажется, рамке, требовалась целая вечность для исцеления, или же саму вещь, как выяснилось в конце концов, невозможно было раздобыть) он увидел ее, свернувшуюся с учебниками в кресле – из домашней обстановки, а не из той, что была выставлена на продажу. Он так никогда и не заговорил с ней. Он любил ее без памяти. Это продолжалось, должно быть, по меньшей мере шесть школьных месяцев.
То была любовь, естественная и таинственная. Менее таинственным и значительно более гротескным страстям, которые не смогли искоренить несколько поколений школьных учителей, в Риверлейне отдавалось предпочтение до самого 1883 года. В каждом дортуаре имелся свой катамит. Шайка мальчишек-иностранцев, по большей части греков и англичан, предводимая Чеширом, отличным игроком в регби, не давала проходу и беспрестанно мучила одного истеричного юношу из Упсалы, косоглазого и широкоротого, с почти болезненно неуклюжими конечностями, но с удивительно гладкой кожей и круглыми сливочными прелестями бронзиниевского купидона (того, крупного, которого восхищенный сатир обнаруживает в будуаре дамы). Частью из бравады, частью из любопытства, Ван, преодолевая отвращение, холодно наблюдал за их грубыми оргиями. Вскоре, однако, он оставил этот эрзац ради более здравого, хотя столь же безжалостного развлечения.
Стареющая женщина, торговавшая леденцами и «Лаки-Луисовыми» журнальчиками в угловой лавке, которую школьникам традиционно не возбранялось посещать, наняла молоденькую поденщицу, и Чешир, сын рачительного лорда, тут же выведал, что эту толстую маленькую девку можно купить за зеленый русский доллар. Ван одним из первых воспользовался ее благосклонностью. Услуги оказывались на задах лавки после ее закрытия, в полумраке, среди ящиков и мешков. Сказав ей, что ему шестнадцать и что он распутник, хотя он был четырнадцатилетним девственником, наш отчаянный гуляка все же не избежал конфуза, когда, подбадривая свою неопытность, лишь запачкал гостеприимный коврик у входа тем, что она с радостью помогла бы ему внести внутрь. Дело пошло на лад шестью минутами позже, после того, как Чешир и Зографос сменили один другого; но только на следующей половой вечеринке Ван по-настоящему начал наслаждаться ее податливостью, нежностью ее мягкой хватки и отзывчивой вибрацией. Он знал, что она была только жирной розовой шлюшкой, и локтем отводил ее лицо, когда она тянулась поцеловать его в конце, и быстрым движением руки проверял, на месте ли бумажник в заднем кармане, заметив, что так делает Чешир; и все же, когда последний из приблизительно сорока спазмов пришел и ушел обычным путем осыпающегося времени и его поезд катил мимо черных и зеленых квадратов полей в Ардис, он поймал себя на том, что наделяет нежданной поэзией ее убогий образ, кухонный запах ее рук, влажные ресницы во внезапном озарении Чешировой зажигалки, и даже скрипучие шаги старой глухой миссис Гимбер, доносившиеся из ее спальни наверху.
В элегантном отделении первого класса, вложив руку в перчатке в бархатную стенную петлю, особенно остро ощущаешь себя человеком светским, как ощущал он, обозревая искусный ландшафт, искусно проносящийся мимо. Однако блуждающий взгляд пассажира то и дело застывал на мгновение, когда он прислушивался к легкому зуду там, внизу, который, как он надеялся (и его надежда, слава Логу, оправдалась), был всего лишь следствием незначительного раздражения эпителия.
Около трех часов пополудни он сошел с двумя чемоданами в солнечное умиротворение маленькой деревенской станции; отсюда петлистая дорога вела в Ардис-Холл, в который он приехал погостить впервые в жизни. На воображаемой миниатюре ему рисовалась ожидающая его оседланная лошадь; не было даже двуколки. Станционный смотритель, дородный, черный от солнца человек в коричневом мундире, был уверен, что Вана ждут с вечерним поездом, не таким скорым, как этот, зато имеющим чайный салон. Через минуту позвоню в усадьбу, добавил он, подавая сигнал нетерпеливому машинисту. В этот самый миг к перрону подкатил наемный экипаж, и рыжеволосая дама, держа в руках соломенную шляпу и смеясь своей спешке, подбежала к вагону и едва успела взойти, как поезд тронулся. Что ж, Ван воспользуется этим средством передвижения, предоставленным ему случайной складкой в текстуре времени, и сядет в старую коляску. Получасовая поездка не была лишена приятности. Путь пролегал через сосновые леса и вдоль скалистых оврагов, где в цветущем подлеске гомонили птицы и другая живность. По его ногам скользили солнечные пятна и кружева теней, ссужавшие свой зеленый блеск потерявшей пару медной пуговице на хлястике кучерского камзола. Проехали Торфянку, сонную деревушку, состоявшую из нескольких изб, мастерской по луженью подойников да утопающей в жасминовых кущах кузницы. Автомедон приветственно махнул рукой невидимому приятелю, и чуткий шарабанчик слегка вильнул, вторя его жесту. Теперь мчали по пыльной проселочной дороге, идущей вдоль полей. Дорога шла то под гору, то в гору, и на каждом подъеме старенький заводной таксомотор сбавлял ход, будто вот-вот уснет, и нехотя одолевал свою слабость.
Тряслись по булыжной мостовой Гамлета, наполовину русской деревни, где шофер вновь помахал, на этот раз мальчишке, взобравшемуся на вишню. Березы расступились, пропуская их на старый мост. Блеснула Ладора, с ее руинами черного замка на утесе и яркими разноцветными крышами вдали, вниз по течению, чтобы вновь и вновь потом возникать в памяти на протяжении всей его жизни.
Растительность приобрела более южный вид, когда узкая дорога начала огибать парк Ардиса. За следующим поворотом, на благородном возвышении старых романов, возник романтичный дворец. То была великолепная усадьба в три этажа, выстроенная из светлого кирпича и темно-красного камня, которые при том или ином освещении словно обменивались оттенками и составом. Несмотря на разнообразие, раскидистость и оживленность высоких деревьев, давно заменивших два ровных ряда стилизованных саженцев (намеченных скорее мыслью архитектора, чем отмеченных глазом художника), Ван сразу узнал Ардис-Холл по двухсотлетней акварели, висевшей в отцовской гардеробной: стоящая на холме усадьба, обращенная к условной луговине, с двумя крошечными людьми в треуголках, беседующими вблизи стилизованной коровы.
Ван приехал в то время, когда никого из членов семьи в доме не было. Дежурный слуга принял у него поводья. Ван прошел под готический свод зала, где Бутейан, старый лысый дворецкий, отрастивший неподобающие его званию усы (выкрашенные в цвет мясной подливы), увидев его, всплеснул руками, – в прошлом он служил камердинером у отца Вана, – «Je parie, – сказал он, – que Monsieur ne me reconnat pas», – и принялся рассказывать о том, что Ван и так вспомнил, о фарманекене (коробчатый воздушный змей, его теперь не сыскать и в самых крупных музеях старинных игрушек), которого Бутейан однажды помог ему запустить на заросшей лютиками поляне. Оба посмотрели вверх: крошечный красный прямоугольник на мгновение косо повис в синем весеннем небе. Зал славился своими расписными потолками. Для чая еще слишком рано: желает ли Ван, чтобы он сам разобрал и разложил его вещи, или позвать горничную? О, пусть кто-нибудь из горничных, – сказал Ван, быстро перебрав в уме содержимое своих чемоданов: какой из предметов в багаже школьника мог бы смутить горничную? Фотография обнаженной Айвори Ревери (манекенщицы)? Да кому какое дело, теперь, когда он стал мужчиной.
По совету дворецкого он отправился на tour du jardin. Идя по вьющейся между деревьев дорожке, неслышно стпая по мягкому розовому песку своими форменными полотняными туфлями на каучуковой подошве, он набрел на даму, в которой с отвращением узнал свою бывшую французскую гувернантку (усадьба просто кишела призраками!). Она восседала на зеленой скамье под персидской сиренью, держа в одной руке парасоль, а в другой книгу, которую читала маленькой девочке, а та ковыряла в носу и с мечтательным удовлетворением оглядывала палец, прежде чем обтереть его о край скамьи. Ван решил, что это, должно быть, Арделия, старшая из двух его кузин, с которыми он должен был познакомиться во время каникул в Ардис-Холле. На самом деле то была Люсетта, младшая девочка, обыкновенный ребенок лет восьми, с блестящей челкой рыжевато-русых волос и усеянной веснушками кнопкой носа; она недавно оправилась от весенней пневмонии и все еще имела тот странный отрешенный вид, который дети, особенно озорные, сохраняют какое-то время, соприкоснувшись со смертью. Мадемуазель Ларивьер взглянула на Вана поверх зеленых очков – и ему пришлось вынести еще одну теплую встречу. В отличие от Альберта, она нисколько не изменилась с тех пор, как трижды в неделю приходила в городской особняк Черного Вина с полной сумкой книг и маленьким дрожащим пуделем (уже издохшим), которого нельзя было оставлять одного. Его глазки блестели, помнится, как грустные черные маслины.
Все трое направились обратно в дом – гувернантка, под муаром зонтика все еще качавшая в кручине воспоминаний головой с крупным носом и выдающимся подбородком, Люси, со скрежетом волокущая садовую мотыгу, подобранную по дороге, и юный Ван в элегантном сером костюме и мягком галстуке, заложивший руки за спину и глядящий на свои легко и бесшумно ступающие ноги, которые он зачем-то старался ставить в линию.
К крыльцу подкатила виктория. Из нее вышла дама, похожая на мать Вана, и темноволосая девочка лет одиннадцати-двенадцати, в сопровождении семенящей таксы. Ада несла охапку полевых цветов. На ней было белое платье и черный жакет, ее длинные волосы были схвачены белым бантом. Он больше ни разу не видел ее в такой одежде, и впоследствии, упоминая это платье и жакет в ретроспективном воскрешении образов, неизменно слышал от Ады, что они ему, должно быть, привиделись, поскольку у нее никогда не было подобных вещей и она никогда не надевала черный жакет в такие жаркие дни, но Ван оставался верен этому изначальному впечатлению.
Лет десять тому назад, незадолго до или вскоре после его четвертого дня рождения и к концу долгого пребывания его матери в санатории, «тетя» Марина как-то набросилась на него в публичном парке, когда он стоял у большой клетки с фазанами. Она посоветовала его няне не вмешиваться не в свое дело и повела Вана к киоску со сладостями возле оркестровой раковины, где купила ему изумрудную палочку мятной тянучки и сказала, что, если только его отец пожелает, она заменит ему маму и что нельзя кормить птиц без разрешения леди Амхерст – во всяком случае, так он ее понял.
Теперь они пили чай в красиво обставленном углу в остальном весьма аскетичного главного зала, из которого наверх вела парадная лестница. Они сидели на обитых шелком стульях вокруг изящного стола. Черный жакет Ады и розово-желто-голубой букет, составленный ею из анемонов, чистотела и водосбора, лежали на дубовом табурете. Собаке досталось больше кусочков пирога, чем обычно. Прайс, старый лакей со скорбным выражением на лице, принесший сливок к землянике, походил на учителя истории Вана, «Джиджи» Джонса.
«Он похож на моего учителя истории», сказал Ван, когда слуга ушел.
«Я очень любила историю, – сказала Марина. – Мне нравилось отождествлять себя со всякими знаменитыми женщинами. У тебя божья коровка на тарелке, Иван. Особенно с известными красавицами – второй женой Линкольна или королевой Жозефиной».
«Да, я заметил – не отличить от настоящей. У нас дома есть такой же сервиз».
«Сливок? Надеюсь, ты говоришь по-русски?» – спросила Марина Вана по-русски, наливая ему полную чашку чая.
«Неохотно, но совершенно свободно, – ответил Ван, слегка улыбнувшись. – Да, побольше сливок и три куска сахара».
«Мы с Адой разделяем твои экстравагантные вкусы. Достоевский предпочитал пить чай с малиновым вареньем».
«Пах!», вырвалось у Ады.
Над Мариной на стене висел ее портрет кисти Трешама, довольно удачный, изображавший ее в пышной шляпе, в какой она репетировала Охотничью Сцену десять лет тому назад, – романтично широкополой, с радужным крылом и большим наклонным плюмажем, серебристым, с черной каймой, – и Ван, вспомнив клетку в парке и свою мать где-то в ее собственной клетке, испытал странное ощущение таинственности происходящего, как если бы истолкователи его судьбы сошлись для секретного совещания. Лицо Марины в тот день было подкрашено так, чтобы напоминать ее прежний облик, но моды сменились, ее ситцевый сарафан был простоват, золотисто-каштановые локоны поблекли и уже не струились вдоль висков, и ничто в ее облачении или украшениях не напоминало взмаха ее стремительного хлыста на картине и безупречного узора ее сверкающего плюмажа, переданного Трешамом с орнитологической тщательностью.
Не так уж много осталось в памяти с того первого чаепития. Он подметил уловку Ады, которая прятала ногти, сжимая кулак или протягивая руку за бисквитами ладонью вверх. Все, о чем говорила ее мать, казалось ей или скучным, или неприличным, и когда та завела речь о Тарне, иначе называемом Новым Водоемом, он заметил, что Ада уже не сидит рядом с ним, но стоит чуть поодаль, спиной к чайному столику, у открытого окна, а рядом с ней на стуле худенькая в боках такса – тоже смотрит в сад поверх растопыренных передних лап, и Ада тихо спрашивает ее, что она там унюхала.
«Тарн виден из окна библиотеки, – сказала Марина. – Сейчас Ада покажет тебе все комнаты в доме. Ада?» (Она произнесла ее имя на русский манер, с двумя глубокими, темными «а», что напоминало звучание английского «ardor» – жар, страсть, отрада.)
«Отсюда тоже виден его блестящий краешек», сказала Ада, оборачиваясь и, pollice verso, указывая Вану направление. Он поставил чашку, вытер губы тонкой вышитой салфеткой, сунул ее в карман брюк и подошел к темноволосой белорукой девочке. Когда он наклонился над ней (Ван был выше на три дюйма, и эта разница еще удвоилась ко дню ее венчания по православному обряду, когда его тень держала сзади над ее головой свадебный венец), она повернула голову так, как должен был сделать он, чтобы поймать верный угол, и ее волосы скользнули по его шее. В его первых мечтах о ней повторение этого прикосновения, такого легкого, такого короткого, приводило к тому, чему мечтатель не мог противостоять, и, как поднятая вверх сабля подает сигнал к залпу, вызывало неистовое и неизбежное разрешение.
«Допей чай, сокровище мое», позвала Марина.
Затем, следуя ее предложению, дети отправились наверх. «Отчего ступени так громко скрипят, если только двое детей поднимаются по лестнице? – подумала она, глядя на балюстраду, по которой синхронно перебирали две левые руки, удивительно похоже хлопая и скользя по дереву, как брат с сестрой на первом уроке танцев. – В конце концов, мы же с сестрой близнецы, все это знают». Еще один такой же плавный взмах, чтобы одолеть две последние ступени, она впереди, он сзади, и вновь наступила тишина. «Старомодные страхи», сказала Марина.
Ада показала своему застенчивому гостю большую библиотеку на втором этаже, гордость Ардиса и ее любимое «пастбище», куда ее мать никогда не заглядывала, довольствуясь несколькими томами «Тысячи и одной лучшей пьесы» у себя в будуаре. Рыжий Вин, неврастеник и трус, обходил библиотеку стороной, боясь столкнуться с призраком своего отца, умершего там от сердечного удара; он, кроме того, не находил ничего более удручающего, чем бесконечные собрания сочинений бесчисленных авторов, хотя и не был против того, чтобы заезжий гость выразил свое восхищение высотой книжных шкафов и длиной картотечных ящиков, темными картинами маслом и белыми бюстами, десятью резными ореховыми стульями и двумя благородными столами, инкрустированными черным деревом. На лектерне в косом ученом луче солнца лежал ботанический атлас, раскрытый на цветной иллюстрации с изображением орхидей. Нечто вроде дивана или оттоманки, обтянутой черным бархатом, с двумя желтыми подушками, помещалось в алькове, под окном с зеркальными стеклами, из которого открывался прекрасный вид на регулярный парк и рукотворное озеро. Пара подсвечников, обычных фантомов из металла и сала, стояли снаружи, или так казалось, на широком оконном карнизе.
Ведущий из библиотеки коридор привел бы наших безмолвных исследователей к комнатам г-жи и г-на Вин в западном крыле, если бы они продолжили свой осмотр в этом направлении. Вместо того полусекретная узкая лестница, спрятанная за поворотным книжным шкафом, вывела их по спирали на верхний этаж: она, с бледными ляжками, поднималась первой, шагая через ступень, а он на три крутых ступени позади нее.
Спальни и смежные с ними помещения оказались более чем скромными, и Ван не мог не посетовать на то, что был, по-видимому, еще слишком юн, чтобы занять одну из двух гостевых комнат рядом с библиотекой. Оглядев отталкивающие предметы, которым предстояло окружать его во время одиночества летних ночей, он с ностальгией вспомнил роскошь своего дома. Все поражало его, все как будто предназначалось для униженного кретина: убогая монастырская кровать со средневековым изголовьем из грубой доски, произвольно скрипящий платяной шкап, низкий комод поддельного красного дерева с висячими звеньями ручек (одной не хватало), сундук для пледов и одеял (застенчивый перебежчик из бельевой) и старое бюро, подвижная куполообразная крышка которого была или заперта, или сломана; он нашел в одном из его бесполезных отделений отвалившуюся от комода ручку, которую отдал Аде, а та выбросила ее в окно. Ван никогда прежде не пользовался подставкой для полотенец, никогда не видел умывальника с кувшином, предназначенного для жилищ, лишенных ванных комнат. Круглое зеркало над раковиной было украшено золочеными гипсовыми гроздьями винограда, ветхозаветный змий вился по краю фарфорового таза (второй такой же имелся в одной из уборных девочек, отделенных коридором). Кресло с подлокотниками и высокой спинкой да табурет у кровати, на котором стояла пара медных подсвечников с держателем и чашечкой для жира (такую же пару он только что как будто видел в отражении – но где?), довершали худшую и главную часть смиренного инвентаря.
Они вновь вышли в коридор, она – поправляя волосы, он – прочищая горло. Дальше по коридору дверь какой-то комнаты, игровой или детской, то отворялась, то затворялась: маленькая Люсетта, выставив розовую коленку, выглядывала из нее и снова пряталась. Затем дверь вдруг широко раскрылась, но девочка ринулась в глубину комнаты и там исчезла. Синие парусники украшали белые изразцы печки, и когда он с Люсеттиной сестрой проходил мимо распахнутой двери, игрушечная шарманка призывно, но с заминками, начала исполнять короткий менуэт. Ада и Ван вернулись на первый этаж, на этот раз проделав весь путь по роскошной лестнице. Из множества портретов предков на стене, мимо которых они проходили, она обратила внимание Вана на своего любимца – старого князя Всеслава Земского (1699–1797), друга Линнея и автора «Flora Ladorica». Портрет густыми масляными красками изображал его в сидячем положении, держащим на атласных коленях свою едва опушившуюся новобрачную и ее белокурую куклу. Рядом с любителем нежных бутонов в расшитом камзоле висела довольно неуместная, как подумал Ван, увеличенная фотография в простой раме – покойный Сумеречников, американский предшественник братьев Люмьер, запечатлел дядю Ады, брата Марины, в профиль, с прижатой к щеке скрипкой, – обреченный юноша после своего прощального концерта.
Желтая гостиная на первом этаже, обитая штофом и обставленная в том стиле, какой французы некогда называли «ампир», выходила в сад, и теперь, к концу дня, через ее порог протянулись длинные тени больших листьев павловнии (названной так нерадивым лингвистом, как пояснила Ада, по отчеству, ошибочно принятому за имя или фамилию одной безобидной дамы, Анны Павловны Романовой, кузины ботаника Земского, учителя того самого плохого лингвиста, отец которой был отчего-то прозван Павлом-без-Петра, – это невыносимо, подумал Ван). Горка (закрытый стеклянный шкаф) вмещала целый зверинец мелких фарфоровых животных, среди которых орикс и окапи, снабженные научными названиями, были особенно рекомендованы Вану его очаровательной, но невозможно манерной спутницей. Не менее примечательна была пятистворчатая ширма с красочными картинами на черных панелях, воспроизводившими древнейшие карты четырех с половиной континентов. А теперь мы проходим в музыкальный салон с почти не тронутым роялем и идем дальше, в угловую комнату, называемую «Оружейной», где хранится чучело шетландского пони, на котором однажды имела удовольствие прокатиться верхом тетка Дана Вина, девичья фамилия вылетела из головы (слава Логу). На другой (или какой-то другой) стороне дома находилась танцевальная зала, вощеная пустошь с несчастливыми желтофиолевыми стульями. «Мимо, читатель», как писал Тургенев. «Денники», как неверно их называли в графстве Ладора, в Ардис-Холле были устроены с архитектурной точки зрения довольно нелепо: решетчатая галерея глядела через увитое гирляндами плечо в сад и круто сворачивала к подъездной аллее. В другом месте элегантная лоджия с высокими окнами вывела умолкшую, наконец, Аду и несказанно томящегося Вана к беседке из дикого камня – фальшивый грот с бесстыдно льнущими к нему папоротниками и искусственным водопадом, проистекающим из какого-то ручья или романа, или из горящего мочевого пузыря Вана (все этот проклятый чай).
Помещения для прислуги, за исключением двух подкрашенных и напудренных горничных, живших наверху, располагались в цокольном этаже со стороны двора. Ада сказала, что однажды, на особенно пытливой стадии детства, она заглянула в них, но запомнила лишь канарейку и старинную кофейную мельницу, что, собственно, исчерпывало тему.
Они вновь взмыли вверх по лестнице. Ван на минуту исчез в ватерклозете – и вышел из него в гораздо лучшем расположении духа. Карликовый Гайдн вновь сыграл несколько тактов, когда они проходили мимо.
Чердак. Ну, вот чердак. Прошу на чердак. Чего там только не было: десятки баулов и картонных коробок, две коричневые кушетки, одна на другой, как совокупляющиеся жуки, и множество картин, стоявших по углам или на полках, лицом к стене, будто наказанные за провинность дети. Там же хранился свернутый в своем футляре старенький «ковролет», иначе «феероплан», – выцветший, но все такой же сказочный синий ковер-самолет с арабскими узорами, на котором еще отец дяди Дана летал в детстве, да и позже, когда бывал пьян. Из-за многочисленных столкновений, падений и других несчастных случаев, особенно частых на закате, над идиллическими полями, ковролеты были запрещены воздушным дозором, но четырьмя годами позже Ван, любивший этот вид спорта, подкупил местного механика, чтобы тот вычистил аппарат, перезарядил его ястребиные трубки и в целом привел ковер в волшебное состояние, после чего Ван со своей Адой провел немало летних вечеров, паря над рощами и рекой или скользя на безопасной десятифутовой высоте над поверхностью дорог и крыш. Как смешон завилявший и съехавший в канаву велосипедист, как странен скользящий по скату кровли, балансирующий марионеточными руками трубочист!
Смутно сознавая, что, пока длится осмотр дома, они, по крайней мере, заняты «делом», сохраняют видимость последовательных действий, без чего, несмотря на превосходное умение каждого из них поддерживать беседу, неизбежно возник бы ужасный вакуум стесненного покашливания, который нечем заполнить, кроме неловкой остроты с «повисающим» следом молчанием, Ада не избавила кузена от посещения подвала, где барабан автоматической печи дрожал и громыхал, мужественно нагоняя жар в трубы, змеями уползавшими в огромную кухню и две унылые ванные комнаты, и выбивался из слабых сил, чтобы замок оставался пригодным для праздничных посещений зимой.
«Ты еще не все видел! – крикнула Ада. – Осталось подняться на крышу!»
«Но это будет наше последнее восхождение сегодня», твердо сказал себе Ван.
Из-за чехарды наложившихся один на другой силей и настилов (что нелегко описать без специальных терминов тому, кто не любит крыш), а также в силу бессистемной череды реконструкций, если это подходящее слово, черепичная кровля ардисовского дворца являла собой неописуемый лабиринт углов и уровней, жестяно-зеленых и ребристо-серых поверхностей, живописных гребней и защищенных от ветра уголков. Здесь можно было сколько угодно миловаться и целоваться, обозревая в то же время искусственное озеро, рощи и луга, чернильную линию лиственниц, отмечавших границу соседнего имения в нескольких верстах отселе, и безобразные крошечные силуэты нескольких более или менее безногих коров на далеком холме. А за каким-нибудь выступом легко можно было укрыться от нескромных планеристов или фотографирующих аэростатов.
С террасы донесся бронзовый звон гонга.
Дети почему-то вздохнули с облегчением, узнав, что к обеду ожидается незнакомец. Им оказался андалузский архитектор, которому дядя Дан заказал для Ардиса проект «художественного» плавательного бассейна. Дядя Дан тоже собирался приехать с переводчиком, но подхватил русский «хрипъ» (испанский «грипп») и по дорофону попросил Марину принять добрейшего Алонсо как можно любезнее.
«Мне нужна ваша помощь!» – обратилась Марина к детям с озабоченным видом.
«Ему будет интересно взглянуть, полагаю, – сказала Ада, повернувшись к Вану, – на совершенно бесподобный натюрморт Хуана де Лабрадора из Эстремадуры – золотой виноград и таинственная роза на черном фоне. Дан уступил его Демону, а Демон пообещал подарить его мне к моему пятнадцатилетию».
«У нас еще есть кое-какие плоды Сурбарана, – сказал Ван горделиво. – Кажется, мандарины и что-то вроде смоквы, на которой сидит оса. Да мы просто ошеломим гостя всякими такими штуками!»
Но ничуть не бывало. Алонсо, маленький морщинистый человек в двубортном смокинге, говорил только по-испански, в то время как принимающая сторона располагала всего полудюжиной испанских слов. У Вана нашлись canastila (корзинка) и nubarrones (грозовые тучи), которые он запомнил из чудного испанского стихотворения с переводом en regard в своем школьном учебнике. Ада знала, разумеется, mariposa (бабочка) и названия двух-трех птиц, упомянутых в орнитологических справочниках, таких как paloma (голубь) и grevol (рябчик). Марина припомнила только два: aroma и hombre, не считая анатомического термина с «j», висящим посередине. Не удивительно, что беседа свелась к длинным и сбивчивым испанским предложениям, которые многоречивый архитектор произносил так громко, как будто имел дело с глухими, и к коротким французским фразам, умышленно, но напрасно итальянизированным его жертвами. По завершении мучительного обеда Алонсо в свете трех фонарей, несомых двумя лакеями, осмотрел предполагаемое место сооружения дорогостоящего бассейна, поместил обратно в портфель план приусадебной части парка и, по ошибке поцеловав в темноте ручку Ады, поспешил проститься, чтобы сесть на последний поезд, идущий на юг.
Вскоре после «вечернего чая» – легкой летней трапезы практически без чая, подававшейся часа через два после обеда и казавшейся Марине такой же естественной и неизбежной, как закат перед наступлением ночи, – Ван с саднящими веками отправился спать. В Ардис-Холле это рутинное русское угощенье состояло из простокваши (английская гувернантка переводила это название как «curds-and-whey», а мадемуазель Ларивьер как lait caill, «свернувшееся молоко»), тонкий кремовый верхний слой которой маленькая мисс Ада деликатно, но алчно (два эти наречия можно было отнести ко многим твоим действиям, Ада!) снимала своей особой серебряной ложечкой с монограммой и слизывала, прежде чем ринуться в более рыхлые и сладкие глубины; к простокваше подавали черный крестьянский хлеб, темную клубнику (Fragaria elatior) и крупную, ярко-красную садовую землянику (гибрид двух других видов Fragaria). Едва Ван успел коснуться щекой плоской прохладной подушки, как его бесцеремонно разбудил оглушительный гвалт – ликующий щебет, тонкий свист, чириканье, трели, верещанье, резкое карканье и нежное пенье – все это Ада, подумал он не без оторопи человека, не состоящего в одюбоновском стане, легко могла бы и пожелала бы разложить на отдельные голоса определенных птиц. Он надел мокасины, взял мыло, гребенку, полотенце и, прикрыв наготу махровым халатом, покинул спальню с намерением выкупаться в ручье, который заметил накануне. Коридорные часы отчетливо ток-такали в рассветной тишине, нарушаемой лишь громким храпом, доносившимся из комнаты гувернантки. Немного поколебавшись, он решил воспользоваться уборной, относящейся к детской. Там сквозь отворенную узкую створку окна на него обрушился неистовый птичий гомон и яркий солнечный свет. Он был в порядке, в полном порядке! На главной лестнице Вана первым встретил отец генерала Дурманова, проводивший его важным взглядом до старого князя Земского и других пращуров, столь же сдержанно пристальных, как музейная стража, следящая за единственным туристом в сумрачном старинном дворце.
Оказалось, что парадная дверь надежно заперта на засов и на цепь. Он толкнул решетчатую стеклянную дверь увитой синими цветами галереи – тоже заперто. Не зная еще, что под лестницей в неприметной нише хранились запасные ключи (в том числе несколько очень старых и анонимных, висевших на медных крючках) и что сама эта ниша сообщается через садовую кладовую с уединенной частью сада, Ван побрел по анфиладе комнат на поиски услужливого окна. В угловой комнате у высокого двухстворчатого окна стояла молоденькая горничная, которую он приметил накануне вечером, пообещав себе узнать ее поближе. На ней было то, что его отец с ухмылкой напускного сладострастия определял как «черные оборки и сборки робкой субретки». В ее каштановых волосах янтарным блеском отливал черепаховый гребень; она стояла у открытого окна, высоко опершись о косяк рукой, украшенной аквамариновой звездочкой, и глядела на воробья, который короткими прыжками подбирался к брошенной ею на мощеную дорожку половине печенья, похожего из-за круглых фестончиков на носок младенческой ступни. Камеевый профиль, маленькие розовые ноздри, длинная, лилейно-белая шея француженки, очертания ее тела, вместе и полного и хрупкого (мужская похоть не слишком изощрена в описательных тонкостях!), и особенно свирепое ощущение ее доступности так сильно опьянили Вана, что он не удержался и сжал ее поднятое запястье в обтягивающем рукавчике. Высвободившись и показав своим невозмутимым видом, что она заметила его появление, девушка обратила к нему свое привлекательное, хотя почти безбровое лицо и спросила, не желает ли он выпить чаю до завтрака? Нет. Как тебя зовут? Бланш, но мадемуазель Ларивьер зовет меня Золушкой, оттого что чулки то и дело сползают – вот, видите, – и оттого что я все роняю и кладу не на место и еще путаю цветы. Свободный крой его одежд не укрывал его надежд, и девица, пусть даже страдающая дальтонизмом, не могла не заметить этого. И когда он еще приблизился к ней, выглядывая поверх ее головки подходящую кушетку или то, что примет ее форму в каком-нибудь уголке этого волшебного замка, в котором любое место, как в мемуарах Казановы, способно было преобразиться в покои сераля, она окончательно вывернулась из его полуобъятий и разразилась небольшим монологом на своем мягком ладорском французском:
«Monsieur a quinze ans, je crois, et moi, je sais, j’en ai dixneuf. Monsieur дворянин, а я – бедная дочь своего отца, роющего торф на болотах. Monsieur a tt, sans doute, des filles de la ville; quant moi, je suis vierge, ou peu s’en faut. De plus, если я полюблю вас, я имею в виду, по-настоящему, а я, увы, способна на это, если бы вы овладели мною, rein qu’une petite fois, – это бы означало для меня лишь горе, и геенну огненную, и отчаяние, и даже смерть, Monsieur. Finalement, я могу прибавить, что у меня бели и что я должна посетить le Docteur Chronique, то есть Кролика, в ближайший свой свободный день. Теперь нам надо разлучиться – воробышек, как я вижу, пропал, а господин Бутейан вошел в соседнюю комнату и может увидеть нас в том зеркале над софой за шелковой ширмой».
«Прости, милая», пробормотал Ван (оторого ее странный, трагический тон совершенно охладил), и это прозвучало так, будто он играл главную роль в пьесе, но знал из нее лишь одну эту сцену.
В зеркале рука дворецкого взяла откуда-то графин и исчезла. Ван, потуже затянув поясок халата, прошел через французское окно в зеленую явь сада.
Тем же утром или через день-другой, на террасе:
«Mais va donc jouer avec lui, – сказала м-ль Ларивьер, подталкивая Аду, чьи юные ягодицы раздельно вздрагивали от сотрясения. – Не позволяй своему кузену se morfondre в такой погожий денек. Возьми его за руку. Пойди и покажи ему белую даму на твоей любимой аллее, и гору, и большой дуб».
Ада, пожав плечами, повернулась к нему. Прикосновение ее холодных пальцев и влажной ладони, та принужденность, с какой она откинула назад волосы, когда они шли по главной парковой аллее, вызвали в нем ответную скованность, и Ван, воспользовавшись тем, что под ногами оказалась сосновая шишка, высвободил руку. Он метнул шишку в мраморную деву, склоненную над стамносом, но лишь спугнул птицу, сидевшую на краю ее разбитого кувшина.
«Нет ничего пошлее на свете, – сказала Ада, – чем швыряться камнями в дубоноса».
«Прости, – ответил Ван, – я не хотел напугать птичку. К тому же я не какой-нибудь деревенский парубок, где мне отличить шишку от камня. Au fond, в какие игры, по ее мнению, мы должны играть?»
«Je l’ignore, – сказала Ада. – Мне совершенно все равно, что происходит в ее бедном мозгу. В каш-каш, наверное, или лазать по деревьям».
«О, в этом я силен, – сказал Ван. – Могу даже взбираться на одних руках, перемахивая с ветки на ветку».
«Нет, – сказала она, – мы будем играть в мои игры. Игры, которые я сама придумала. В такие игры, в которые бедняжка Люсетта, надеюсь, сможет со мной играть через год. Хорошо, идем. Я научу тебя сперва двум играм из серии “тень и свет”».
«Понятно», сказал Ван.
«Станет через минуту, – парировала прелестная резонерша. – Перво-наперво подыщем подходящую палку».
«Гляди-ка, – сказал Ван, все еще слегка задетый, – прилетел такой же зубоскал, то есть дубонос».
К этому времени они достигли rond-point – небольшой арены, окруженной клумбами и зарослями жасмина в пышном цвету. Подняв руки, липа тянулась к ветвям дуба, будто красотка в зеленом с блестками трико, летящая к своему сильному отцу, который висит вниз головой, захватив ногами трапецию. Уже тогда мы оба знали толк в этих небесных материях, уже тогда.
«Есть что-то акробатическое в этих ветках, не так ли?» – сказал он, указывая.
«Да, – сказала она. – Я заметила это давным-давно. Липа – это парящая под куполом итальянка, а старый дуб терзается мукой, мукой бывшего любовника, но все равно раз за разом ловит ее» (невозможно передать верную интонацию, сообщая при этом всю полноту смысла – по прошествии восьми десятков лет! – но пока они глядели вверх, а потом вниз, она сказала что-то весьма необычное, что-то такое, что совсем не вязалось с ее нежным возрастом).
Глядя себе под ноги и взмахивая позаимствованным у пионов острым зеленым колышком, Ада объясняла правила первой игры.
Падавшая на песок тень листьев перемежалась кружками солнечного света. Игрок выбирает один такой кружок – чем ярче, тем лучше – и обводит его по контуру колышком. От этого желтый кружок становится как будто выпуклым, вроде поверхности залитой в лунку до краев золотой краски. Затем игрок палкой или пальцами осторожно выгребает из кружка землю. Уровень этого мерцающего infusion de tilleul начинает чудесным образом понижаться в своем земляном кубке, пока не уменьшится до размера одной-единственной драгоценной капли на донышке. Побеждает тот, кто создаст больше таких кубков за, скажем, двадцать минут.
«И это все?» – недоверчиво спросил Ван.
«Нет, не все».
Обкапывая правильной формы маленький кружок вокруг особенно яркого золотого сгустка, Ада присела на корточки и так перемещалась – черные волосы струились по подвижным, гладким и белым, как слоновая кость, коленям, двигались локти и бедра, одной рукой она держала палку, другой отбрасывала мешавшие пряди. Легкий ветер вдруг затенил ее золотую лужицу. Когда такое случается, игрок теряет очко, даже если лист или облако поспешат убраться.
Хорошо. А вторая игра?
Вторая игра (начала она нараспев) может показаться немного сложнее. В нее надлежит играть после полудня, когда тени длиннее. Игрок —
«Перестань говорить игрок. Это либо ты, либо я».
«Пусть ты. Ты обводишь на песке мою тень за моей спиной. Я делаю шаг вперед. Ты обводишь снова. Затем отмечаешь следующую границу (отдает ему колышек). Если теперь я сделаю шаг назад —»
«Знаешь, – сказал Ван, отбрасывая палку, – по-моему, это самые скучные и глупые игры, когда-либо и кем-либо придуманные, до или после полудня».
Она ничего не ответила, но ее ноздри сузились. Ада подобрала колышек и воткнула его на прежнее место, яростно и глубоко, в садовый чернозем, рядом с благодарным цветком, который она подвязала к нему, молча склонив голову. Она пошла обратно к дому. Вану подумалось, станет ли ее походка изящнее, когда она вырастет?
«Я грубый невоспитанный мальчик, прости меня, пожалуйста», сказал он.
Она кивнула, не оборачиваясь. В знак частичного примирения она показала ему два крепких крюка, пропущенных через стальные кольца на стволах тюльпанных деревьев, между которыми еще до ее рождения другой мальчик, тоже Иван, брат ее матери, подвешивал гамак, в котором спал в середине лета, когда ночи особенно жаркие – как-никак, мы находимся на широте Сицилии.
«Прекрасная мысль, – сказал Ван. – Кстати, сильно ли жгутся светлячки, если попадают на кожу? Просто спросил. Еще один глупый вопрос городского подростка».
Затем она показала ему, где хранится гамак, вернее, целая коллекция гамаков – парусиновый мешок, набитый прочными мягкими сетями: в углу полуподвальной кладовой для инструментов и садовых принадлежностей, за сиренью, а ключ прячут в этой трещине, здесь в прошлом году птица свила гнездо – неважно какая. Стрела солнечного луча окрасила зеленой краской длинный ящик с набором предметов для крокета – правда, шары растерялись, их скатили с холма буйные дети, маленькие Эрминины, теперь ровесники Вана, ставшие очень смирными и покладистыми.
«Как и все мы в этом возрасте», сказал Ван и наклонился, чтобы поднять гнутый черепаховый гребень, каким девушки скрепляют волосы на затылке; он видел такой же, совсем недавно, но где и в чьих волосах?
«Одной из горничных, – сказала Ада. – И эта драная книжка тоже, должно быть, ее: “Les amours du Docteur Mertvago”, мистический роман, написанный пастором».
«Для игры с тобой в крокет, – сказал Ван, – похоже, понадобятся фламинго и ежи».
«Наши списки прочитанных книг не совпадают. Эта “Кларисса в Стране чудес” одна из тех, о которых мне все твердят с восторгом, причем подразумевается, что этот восторг я непременно разделю после прочтения, так что теперь я испытываю к ней лишь непреодолимое предубеждение. Читал ли ты рассказы мадемуазель Ларивьер? Ну, еще почитаешь. Она полагает, будто в одном из своих прошлых метемпсихозных воплощений была завсегдатаем парижских бульваров; соответственно и пишет. Мы можем прокрасться отсюда в главный зал через тайный ход, хотя, кажется, нам полагается любоваться grand chne, который на самом деле вяз». Нравятся ли Вану вязы? Знает ли он стихотворенье Джойса о двух прачках? Знает, еще бы. Нравится? Ага. По правде сказать, ему все сильнее нравились сад, птичьи рулады, отрада Ардиса и Ада. Они рифмовались друг с другом. Сказать ей об этом?
«А теперь…», сказала она, остановившись и глядя на него.
«Да, – сказал он. – А теперь?»
«Ладно, хотя, пожалуй, не стоит тебя забавлять после того, как ты растоптал мои круги… Но так и быть, я смягчусь и покажу тебе настоящее диво Ардиса, мой ларвариум, – он находится в комнатке, примыкающей к моей» (которой он еще не видал, как, до сих пор? Подумать только!).
Она тщательно затворила за собой смежную дверь, когда они вошли в то, что походило на образцовый крольчатник – в конце отделанного мраморм зальца (бывшей ванной, как выяснилось). Несмотря на то, что помещение хорошо проветривалось, геральдические витражные окна были широко открыты (так что слышались визгливые крики и освистывание голодного и ужасно недовольного птичьего племени) – от клеток пренеприятно несло сырой землей, гниющими корешками, старой оранжереей и, пожалуй, немного козлом. Прежде чем подпустить его поближе, Ада повозилась с щеколдами и решетками, и сладостное пламя, снедавшее Вана с самого начала их невинных забав этого дня, сменилось чувством гнетущей пустоты и подавленности.
«Je raffole de tout ce qui rampe (Обожаю все, что ползает)», сказала она.
«А мне, – сказал Ван, – по душе те существа, которые сворачиваются в пушистый комок, когда коснешься их, те, которые засыпают, как старые собаки».
«Да что ты, они вовсе не засыпают, quelle ide, они замирают, это у них короткий обморок, – пояснила Ада, нахмурившись. – И могу себе представить, какое это потрясение для самых маленьких».
«Конечно, я тоже хорошо могу себе это представить. Мне только кажется, что они к этому привыкают, мало-помалу, я хочу сказать».
Но скоро его оторопь, вызванная невежеством, сменилась эстетическим сопереживанием. И многие десятилетия спустя Ван помнил свое восхищение прелестными, голыми, лоснящимися, с яркими точками и полосками гусеницами капюшонницы, такими же ядовитыми, как цветы коровяка, густо растущие вокруг них, и плоской личинкой местной ленточницы, серые бугорки и лиловые бляшки которой имитировали наросты и лишайники на ветке, к которой она приникала так тесно, что практически сливалась с нею, и, конечно, крошкой кистехвосткой, чья черная шубка по всей длине была украшена цветными пучками щетинок, красными, голубыми, желтыми, неравной длины, напоминающими те прихотливые зубные щетки, которые раскрашены в цвета патентованной палитры. И такого рода сравнение, с его особой окраской, напоминает мне сейчас энтомологические записки в дневнике Ады – который у нас где-то лежит, не так ли, дорогая, не в том ли ящике, нет? Ты так не думаешь? Да! Ура! Вот выдержки (твой округлый почерк, моя любовь, был тогда покрупнее, а в остальном ничего, ничего, ничегошеньки не изменилось):
«Втяжная головка и дьявольские анальные придатки кричаще-пестрого монстра, из которого возникнет невзрачная гарпия большая, принадлежат самой негусеничной гусенице с передними сегментами как кузнечные мехи и физиономией, напоминающей объектив складного фотоаппарата. Если легонько провести пальцем по ее раздутому гладкому тельцу, ощущения довольно шелковые и приятные, – пока разгневанное и неблагодарное создание не выпустит тебе на кожу струйку едкой жидкости из поперечной щели на первом грудном сегменте».
«Д-ру Кролику прислали из Андалусии пять свеженьких личинок недавно открытого локалитета многоцветницы кармен, которые он любезно отдал мне. Очаровательные существа прекрасного нефритового оттенка с серебристыми шипами, и размножаются они только на полувымершей разновидности высокогорной ивы (которую милый Королек тоже добыл для меня)».
(А из этой записи можно узнать, что она к десяти годам, если не раньше, как и Ван, прочитала «Les Malheurs de Swann»):
«Я думаю, Марина перестала бы бранить меня за мое увлечение (“Нахожу неприличной возню юной леди с такими мерзкими питомцами…”; “Нормальным барышням подобает испытывать отвращение к змеям и червям…” и т.д.), если бы мне удалось убедить ее преодолеть старомодную брезгливость и положить себе на ладонь и запястье (длины одной ладони не хватит!) благородную гусеницу орхидейной сфингиды (розово-лиловые тона мосье Пруста), семидюймового гиганта телесного цвета, с бирюзовыми арабесками, вздымающего свою гиацинтовую головку и застывающего так в позе сфинкса».
(Превосходно! – сказал Ван. – Но даже я не смог уловить всех тонкостей, когда был юношей. Так что не будем выпроваживать невежу, который листает книгу и думает: «Ну и насмешник же этот старый В.В.!»)
В конце того, такого давнего, такого близкого лета 1884 года Ван перед отъездом из Ардиса на прощанье заглянул в Адин ларвариум.
Фарфорово-белая, пятнистая гусеница капюшонницы (иначе называемой «акулой»), редкостная драгоценность, благополучно перешла к следующей стадии своей метаморфозы, но уникальная Адина ленточница лорелея («нижнекрылка») погибла, парализованная наездником, которого не обманули все эти остроумные бугорки и грибковидные пятна. Разноцветная зубная щетка уютно окуклилась в косматом коконе, из которого осенью должна была выйти персидская кистехвостка. Две гусеницы гарпии стали даже еще уродливей, но, по крайней мере, обрели более червеобразный и в определенном смысле почтенный вид: их раздвоенные придатки теперь вяло волочились за ними, а свежий фиолетовый пушок скрашивал кубизм их экстравагантной раскраски; они теперь часто поднимали верхнюю часть, держась стойком, и быстро ползали по всему полу своей клети в припадке предваряющей окукливание подвижности. С той же целью Аква в прошлом году прошла через лес и спустилась в ущелье. Только что вылупившиеся Nymphalis carmen сушили лимонные и темно-янтарные крылышки на залитом солнцем пятачке своей решетки – лишь для того, чтобы восторженная и безжалостная Ада придушила их одним коротким сжатием проворных пальцев; одеттин сфинкс, благослови его Господь, превратился в слоноподобную мумию с комично торчащим хоботком германтоидного типа; а д-р Кролик резво гнался на коротких ножках за очень редкой белянкой (высоко в горах, выше границы распространения леса, в другом полушарии), известной как Antocharis ada Krolik (1884), пока ее не переименовали в A. prittwitzi Stmper (1883) согласно неумолимому правилу таксономического приоритета.
«Хорошо, но потом, когда все эти твари выбираются из своих коконов, – спросил Ван, – что ты с ними делаешь?»
«Ах, я отдаю их помощнику доктора Кролика, – ответила она, – тот расправляет их, снабжает ярлычками и распределяет, приколов, в специальных стеклянных лотках, помещая их в чистый дубовый шкап, который достанется мне, когда я выйду замуж. Тогда у меня будет большая коллекция, и я продолжу разводить всевозможную лепидоптеру – я мечтаю открыть специальный институт по изучению личинок нимфалид и фиалок – всех тех видов фиалок, на которых они размножаются. Мне бы доставляли яйца или гусениц на скоростных аэропланах со всей Северной Америки, вместе с их кормовыми растениями – фиалкой вечнозеленой с Западного побережья, и Полосатой фиалкой из Монтаны, и фиалкой Наттолла, и Эгглестоунской из Кентукки, и редкой белой фиалкой с укромного болота вблизи безымянного озера на полярной горе, где порхает Кроликова болория вересковая. Разумеется, когда они появляются на свет, их легко можно спаривать вручную – держишь их – иногда довольно долго – вот так, сложивших крылышки (показывает, как именно нужно держать, забыв о своих неприглядных ногтях), самца в левой руке, а самочку в правой, или наоборот, чтобы они соприкасались кончиками тельцев, – но они должны быть совсем свежими и просто сочиться душком своей любимой фиалки».
Была ли она в самом деле красива, в двенадцать лет? Хотел ли он – захотел бы он когда-нибудь ласкать ее, ласкать по-настоящему? Ее черные волосы, ниспадавшие на ключицу, жест, каким она откидывала их, и ямочка на ее бледной щеке принадлежали тому порядку откровения, которым сопровождается мгновенное узнавание. Ее бледность сияла, ее чернота отливала блеском. Плиссированные юбочки, которые она предпочитала, были восхитительно коротки. Даже обнаженные части ее тела были настолько неподвластны загару, что взгляд, скользящий по ее белым голеням и предплечьям, различал ровную штриховку нежных темных волосков, шелковинки ее девичества. Темно-карие радужки ее серьезных глаз отличались загадочной матовостью, напоминавшей взгляд восточной гипнотизерши (с рекламной изнанки журнала), и, казалось, помещались чуть выше обычного, из-за чего, когда она глядела прямо на вас, между их нижним краем и влажным нижним веком качалась серповидная люлька белизны. Могло показаться, что ее длинные ресницы подкрашены тушью, да, впрочем, они действительно быи подкрашены. Кабы не полные запекшиеся губы, черты ее лица отличались бы эльфийской красой. Простой ирландский нос был копией Ванова, только в миниатюре, а зубы были замечательно белыми, но не очень ровными.
Что до ее прелестных ладошек (нельзя было не сокрушаться, глядя на них), розовых по сравнению с прозрачной кожей рук, даже еще более розовых, чем локти, которым, казалось, было совестно за состояние ее ногтей: она обкусывала их так основательно, что все оставшееся нетронутым заменялось канавкой, врезавшейся в плоть с тугостью натянутой проволоки и удлинявшей голые кончики пальцев, приобретавших форму черпачков. Позднее, когда он так полюбил целовать ее холодные кисти, она сжимала пальцы, оставляя его губам лишь костяшки, и Ван яростно вскрывал ее кулачки, чтобы добраться до этих плоских, слепых, маленьких подушечек. (Но, ах, Боже мой, что за диво являли собой длинные, томные, серебристо-розовые, покрытые цветным лаком и заостренные, деликатно жалящие ониксы ее молодости и зрелых лет!)
В первые, странные дни, когда она показывала ему дом и все те укромные уголки, где они так скоро станут ласкать друг друга, Ван испытывал чувства, в которых смешивалось восхищение и раздражение. Восхищение белизной ее желанной и недоступной кожи, ее волосами, ногами, угловатыми движениями, ее газелево-луговым ароматом, внезапным темным взглядом ее широко посаженных глаз, деревенской наготой под платьем; раздражение – оттого что между ним, неуклюжим школьником с задатками гения, и этой развитой не по годам, возомнившей о себе, неприступной девочкой пролегала толща света и завеса тени, которые никакая сила не могла ни преодолеть, ни прервать. Он малодушно клял все и вся, лежа в своей безнадежной постели и настроив свое напряженное естество на тот промельк ее образа, который впитал во время второй экскурсии в верхние отделы дома, когда она, встав на капитанский сундук, чтобы отворить похожее на иллюминатор окно, через которое можно было выбраться на крышу (даже собаке это однажды удалось), зацепилась краем платья за выступавшую из стены скобу, и он увидел, как иной видит некое омерзительное чудо в библейской притче или в отталкивающей метаморфозе мотылька, – темный шелковый пушок у этого ребенка. Он заметил, что она, кажется, заметила, что он заметил или мог заметить (то, что он не только увидел, но с нежным ужасом хранил в памяти до тех пор, пока не избавился от этого наваждения – много позже и довольно необычным образом), и тогда странное, сонное, высокомерное выражение мелькнуло у нее на лице: ее втянутые щеки и пухлые бледные губы шевельнулись, будто она что-то жевала, и она зашлась безрадостным лающим смехом, когда он, большой Ван, поскользнулся на черепице, выбравшись за ней на крышу через световой люк. И при внезапно выглянувшем солнце он осознал, что до сих пор он, маленький Ван, оставался слепым девственником, поскольку спешка, пыль и сумрак скрыли от него мышиные прелести его первой шлюшки, которой он так часто обладал.
Отныне воспитание его чувств и чувственности шло полным ходом. На другой день утром он случайно подглядел, как она омывает лицо и руки над старинным умывальником, стоящим на рококошной подставке: ее волосы были завязаны узлом на затылке, ночная рубашка спущена и закручена вокруг талии, будто несуразный венчик, из которого вырастала ее узкая спина с рядом проступавших ребер на обращенной к нему стороне. Толстый фарфоровый змий обвивался вокруг раковины, и когда оба, рептилия и он, замерли, уставясь на Еву и мягкое покачиванье ее едва оформившихся грудок, видимых сбоку, большой кусок багрово-красного мыла выскользнул у нее из пальцев и ее нога в черном носочке одним ударом захлопнула дверь со стуком, прозвучавшим скорее отзвуком упавшего на мраморную столешницу мыла, чем знаком ее девичьей стыдливости.
Будничный обед в Ардис-Холле. Люсетта – между Мариной и своей гувернанткой, Ван – между Мариной и Адой, Дак, золотисто-бурый горностай, где-то под столом, то ли между Адой и м-ль Ларивьер, то ли между Люсеттой и Мариной (Ван втайне не терпел собак, особенно за едой и особенно этого небольшого вытянутого уродца, из пасти которого несло падалью). Лукавая и высокопарная, Ада излагает свой сон, или описывает какое-нибудь природное диво, или объясняет особый беллетристический прием – «monologue intrieur» Поля Бурже, позаимствованный у старика Льва, – или же смакует пряную глупость в свежей колонке Эльси де Норд, пошлой дамы литературного полусвета, полагающей, будто Лёвин разгуливал по Москве в нагольномъ тулуп, «мужицком полушубке, кожей наружу, мехом внутрь», – согласно словарю, который наша умница извлекает откуда-то с ловкостью фокусника, даже не снившейся таким, как Эльси. Ее свободное обращение с придаточными предложениями, ее замечания «в сторону», темпераментное акцентирование идущих подряд односложных слов («Ну и дичь, дура Эльси просто не умеет читать!»), – все это каким-то образом распаляло Вана, как искусственные возбудители и болезненные экзотические ласки, со стимулирующим зловещим уклоном, который его одновременно возмущал и болезненно услаждал.
«Ангел мой», обращалась к ней ее мать, то и дело вставляя: «Умру от смеха!», «О, я это обожаю!», прибавляя при сем другим, наставительным тоном: «Не сутулься» или «Ешь, ангел мой» (напирая на это «ешь» с материнской заботливостью, не вязавшейся с безжалостными спондеическими сарказмами дочери).
Ада, сидевшая теперь прямо, выгнула свою подвижную спину, затем, когда сон или приключение (или что там она пересказывает) достигли кульминации, склонилась над столом, с которого Прайс уже предусмотрительно убрал ее тарелку, и вдруг навалилась на него расставленными локтями, занимая все пространство, после чего откинулась назад, сложно гримасничая, изображая «такое длинное-предлинное», поднимая обе руки выше и выше!
«Ангел мой, ты же еще не попробовала – ах, Прайс, принесите —»
Что именно? Веревку, по которой голозадое чадо факира начнет карабкаться вверх, в тающую синеву?
«Это было что-то длинное-предлинное. Вроде (осекается)… щупальца… нет, дайте подумать» (встряхивает головой и морщит лоб, и вдруг все черты ее разглаживаются, будто спутанный клубок пряжи распускается одним быстрым рывком).
Нет: огромные багряно-розовые сливы, на одной из которых лопнула кожица, обнажая сочную желтизну.
«И тогда я —» (волосы взъерошены, одна рука вскинута к виску, намечая, но не заканчивая оправляющий взмах, после чего взрыв хрипловатого смеха переходит во влажный кашель).
«Нет, серьезно, мама, попробуй представить меня совершенно онемевшей, кричащей беззвучно, когда я поняла —»
После трех или четырех таких обедов Ван тоже кое-что понял. Поведение Ады вовсе не было рисовкой умной девочки перед новым человеком, то был отчаянный и довольно остроумный способ завладеть беседой, чтобы помешать Марине превратить ее в лекцию о театре. Марина же, дожидаясь подходящего момента, чтобы пустить вскачь тройку своих заезженных коньков, испытывала некоторое профессиональное удовольствие, играя избитую роль заботливой мамаши, гордящейся очарованием и юмором дочери, и сама снисходительность Марины к нахальной велеречивости Ады должна была ненавязчиво раскрыть ее собственные очарование и остроумие: это она рисовалась, не Ада! И тогда, сообразив что к чему, Ван начал пользоваться паузами (которые Марина стремилась заполнить какой-нибудь отборной станиславщиной), чтобы направить Аду в бурные воды Ботани-Бей – ссылка, которой Ван при иных обстоятельствах страшился, но которая за семейным столом служила самым легким и безопасным выходом для его девочки. Эта уловка была особенно кстати за ужином, поскольку Люсетта с гувернанткой трапезничали раньше и у себя в комнате, а значит, в эти критические минуты нельзя было рассчитывать на то, что м-ль Ларивьер вовремя встрянет, пока Ада переводит дух, с подробным отчетом о своей работе над новым рассказом (ее знаменитое «Бриллиантовое ожерелье» находилось в последней стадии гранения) или реминисценциями о раннем детстве Вана, относящимся к таким желанным эпизодам, как те, которые касались его любимого русскогонаставника, галантно ухаживавшего за м-ль Л., писавшего по-русски «декадентские» стихи пружинным ритмом и по-русски же одиноко пившего горькую.
Ван: «Этот желтенький, как бишь его (указывает на цветок, с очаровательной точностью изображенный на эккеркроуновской тарелке), – это, кажется, лютик?»
Ада: «Нет. Этот желтый цветок – обычная калужница болотная, Caltha palustris, по-английски marsh marigold. Здешние крестьяне ошибочно зовут ее первоцветом, хотя, разумеется, настоящий первоцвет, Primula veris, это совсем другое растение».
«Вот как», сказал Ван.
«А кстати, – начала Марина, – когда я играла Офелию, то обстоятельство, что я когда-то собирала цветы —»
«Очень помогло, бесспорно, – сказала Ада. – Так вот, по-русски этот цветок называется курослепом (как татарские мужики, несчастные рабы, неверно кличут лютик) или калужницей, как его вполне точно именуют в Калуге, С.Ш.А.».
«Ага», сказал Ван.
«Как и в случае со многими другими цветами, – продолжила Ада с тихой улыбкой помешанного ученого, – незадачливое французское название нашего растения, souci d’eau, было переврано или, лучше сказать, преображено —»
«Цветочки в порточки», – сострил Ван Вин.
«Je vous en prie, mes enfants!» – вмешалась Марина, с трудом следившая за разговором и решившая, вдвойне сбитая с толку, что намек относится к нижнему белью.
«Между прочим, сегодня утром, – сказала Ада, не снисходя до ответа матери, – наша образованная гувернантка, бывшая также и твоей, Ван, и которая —»
(Впервые она произнесла его имя – на том уроке ботаники!)
«– довольно сурово относится к англофонным скрещивателям разных пород – назвать обезьян “ursine howlers”, медвежьими ревунами! – хотя, боюсь, мотивы у нее скорее шовинистские, чем эстетические и этические – обратила мое внимание – мое рассеянное внимание – на некоторые действительно поразительные цветочки, как ты назвал их, Ван, если не ягодки, в soi-disant дословной версии господина Фаули – “берущей за душу”, как сказала о ней в своем недавнем восторженном извержении Эльси – “берущей за душу”, подумать только! – стихотворения Рембо “Mmoire” (которое она, к счастью и весьма дальновидно, заставила меня выучить наизусть, хотя, подозреваю, что сама Мадемуазель предпочитает Мюссе и Коппе) —».
«…les robes vertes et dteintes des fillettes…», торжествующе процитировал Ван.
«Да-с (передразнивая Дана). Правда, мадемуазель Ларивьер позволяет мне читать его только в антологии Фельетена, которая у тебя тоже, вероятно, имеется, но очень скоро, о да, я заполучу его oeuvres compltes, гораздо скорее, чем вы думаете. Она, к слову, вот-вот сойдет вниз, когда уложит Люсетту, нашу милую медноголовку, которая, должно быть, уже натянула свою зеленую ночную рубашку —»
«Ангел мой, – взмолилась Марина, – я убеждена, что Вану нет дела до Люсеттиных рубашек!»
«– ивового оттенка и считает овечек на своем ciel de lit, что Фаули переводит как “небесная постель”, вместо “балдахин”. Но вернемся к нашему бедному цветку. Фальшивый louis d’or в этой коллекции изгаженных французских слов – это преобразование souci d’eau (нашей калужницы) в ослиную “заботу воды” (“care of the water”), и это при том, что в его распоряжении была уйма синонимов к marsh marigold – mollyblob, marybud, maybubble и много других названий, связанных с празднествами плодородия, чем бы они ни были».
«С другой стороны, – сказал Ван, – легко представить себе, как столь же хорошо владеющая двумя языками мисс Риверс проверяет французский перевод, скажем, марвелловского “Сада” —»