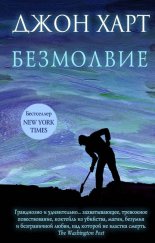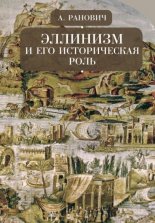Горлов тупик Дашкова Полина
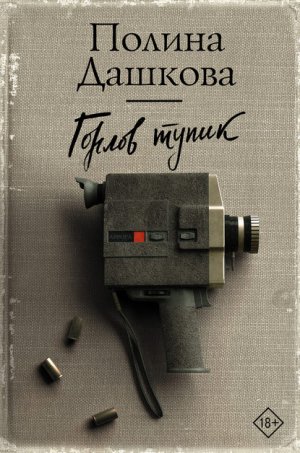
– То есть – да? – Она затаила дыхание.
– На фронте случилась история, – Семен Ефимович глухо кашлянул, – фельдшерица, тихое, запуганное существо, не ахти как хороша и в возрасте…
– Фельдшерица, – ошеломленно повторила Надя.
С детства, сколько себя помнила, она была убеждена, что ее родители оставались верны друг другу с первого свидания до последних минут маминой жизни. Пусть все изменяют, пусть! Но ее родители – нет, никогда, ни за что! Представить папу с другой женщиной или маму с другим мужчиной просто дико.
Мамы не стало тринадцать лет назад, у папы за эти годы случилось два серьезных романа и два несерьезных, однажды он почти женился, но в последний момент передумал. Однако все, что происходило после мамы, уже не имело значения.
– И по мелочи, случайные сестрички…
– Не надо! – Надя зажала уши и помотала головой.
– Ты спросила, я ответил.
– Лучше бы промолчал.
– Прости. – Он тронул пальцем шишку. – Ну вот, уже почти не болит.
Надя отправилась курить на балкон. Куталась в плед, смотрела на темный заснеженный двор, думала: «Стареешь, а повзрослеть не можешь. Научись, наконец, принимать жизнь такой, какая она есть. Понять бы еще, какая она есть? Папа использовал эту шоковую терапию исключительно ради Лены, наглядно показал, что о некоторых вещах лучше не знать. Не случись встречи в театре, он молчал бы о фронтовой фельдшерице до конца своих дней и не покушался бы на мои детские иллюзии. Конечно, он прав, не надо ей говорить».
Через полчаса телефон опять зазвонил. На этот раз трубку взяла Надя, но не сказала «Алло». Молчала. И в трубке молчали.
Кручина откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Стюардесса склонилась к нему, спросила:
– Александр Владимирович, может, во второй отсек? Я провожу.
– Да, пожалуй.
Стюардесса помогла ему встать. Второй отсек представлял собой небольшой гостиничный номер с кушеткой и душевой кабинкой.
– Не дай бог малярия, – вздохнул посол.
– Или гепатит какой-нибудь. – Атташе быстрым движением долил себе в стакан остатки виски.
«Да, досталось тебе, – подумал Уфимцев, провожая взглядом маленькую понурую фигуру, – высунул нос из своей номенклатурной теплицы, нанюхался грубой реальности».
Он поднял шторку иллюминатора. Сквозь толстое стекло хлынула яркая синева. Внизу сияли перистые облака, будто прозрачные крылья небесных ангелов, просвеченные насквозь лучами закатного солнца. Он наконец осознал, что уже завтра будет дома. Повезло. Он должен был торчать в Нуберро до апреля, но Кручина получил приказ привезти в Москву посла, военного атташе и резидента. Всех троих вызвали с докладами на заседание Политбюро.
«Я обязан страшно волноваться, – думал Уфимцев, – впервые за свою долгую и не слишком успешную карьеру предстану перед Старцами. Поворотный момент, главный шанс, нельзя упустить. Понравлюсь Им, получу генеральские погоны и вылезу наконец из этой жопы мира на свет Божий».
Но он совсем не волновался. Забавная особенность нервной системы: дергаться по пустякам и сохранять безмятежную отстраненность, когда происходит нечто серьезное, значительное.
Доклад он набросал накануне ночью. Сейчас надо бы просмотреть, кое-что поправить, но неохота перечитывать этот бред, набор штампованных пустых фраз. Он позволил себе аккуратно, вскользь, упомянуть пережитки племенного и религиозного сознания и сразу добавил, что они, пережитки, с успехом преодолеваются. Страна медленно, но верно движется по пути построения социализма.
Юра вдруг представил, как встает перед Старцами и произносит следующее:
«Товарищи! Никаким социализмом там не пахнет. Мы вбухали в эту черную дыру немерено денег. Мы их одеваем, обуваем, кормим, учим и лечим. Они так и будут брать, брать, брать и никогда ничего не вернут. Мегатонны нашей военной и сельскохозяйственной техники ржавеют и гниют под открытым небом по всему Африканскому континенту. Мы ублажаем и вооружаем психопата-людоеда, а ему все мало. Теперь он требует атомную бомбу. Что мы вообще делаем? Может, сначала одеть, обуть, накормить наш собственный народ?»
Последним аккордом выступления могла бы стать приветственная телеграмма Брежневу. Он прочитал бы ее громко, выразительно, слово в слово, без купюр: «Я очин тибья лублу и еслы вы был женчина…»
Бумажка так и лежала в кармане пиджака. Уфимцев тихо засмеялся, вообразив, какие будут лица у Старцев, и понял, что к докладу в принципе готов. Говорить следует все с точностью до наоборот. Врать по формуле из чеховского «Ионыча»: «Я иду, пока вру, ты идешь, пока врешь, мы идем, пока врем».
Неслышно подошла стюардесса, прошептала:
– Юрий Глебович, будьте добры, во второй отсек. Александр Владимирович просит вас подойти, и портфель его захватите, пожалуйста.
Кручина полулежал на высоких подушках. Под лампой блестели капельки пота на лысине. Маленькие короткопалые кисти безжизненно покоились поверх пледа, ногти побелели.
«Крепко вас скрутило, товарищ генерал, – подумал Уфимцев, – вот вы на экскурсию слетали, а я там живу».
– Юр, а вдруг правда малярия? – спросил Кручина. – Я от нее вроде не прививался.
– Малярия так скоро не проявляется, инкубационный период неделя в среднем, – объяснил Уфимцев, – прививки нет, только таблетки для профилактики. Вам наверняка их дали.
– Да уж, глотаю всякую химию горстями. Может, мне от этого так паршиво?
– Все вместе: химия, перемена часовых поясов и климата, стресс, усталость. Сядем в Афинах – там врач посольский.
– Ага, знаем мы этих врачей! – Кручина брезгливо скривился. – Ладно, дай-ка мне портфель. – Он приподнялся повыше, достал блокнот, ручку, футляр с очками. – Телеграмма у тебя?
– Вот она.
Генерал надел очки, стал читать, слабо шевеля губами. Уфимцев украдкой следил за его лицом, понимал, о чем он думает. Телеграмма ляжет на стол Андропову и станет маленьким оправданием провального визита. Верный преданный Кручина вовремя перехватил. Попади этот шедевр болванам-дипломатам, они бы отредактировали, вылизали, получилась бы обычная приветственная хрень, гладенькая, никому не нужная. Секретариат Леонида Ильича подмахнул бы вежливый ответ, и все. Но в руках Андропова пакостная писулька может стать неплохим козырем – если он решится показать ее Брежневу в натуральном виде.
Кручина аккуратно сложил листок, убрал в портфель и взглянул на Уфимцева поверх очков.
– Почему он вручил это тебе, а не послу, как положено?
– Потому, что это не официальное послание, а личное. Ну, и вообще, он никогда ничего не делает как положено. Африканский темперамент.
– И чего от него ждать, от этого темперамента?
– Сюрпризов. – Уфимцев развел руками. – Одно утешает: с ним не соскучишься.
– Да уж. – Генерал что-то чиркнул в блокноте. – Ну, как считаешь, может он переметнуться к ОП или к ГП?
«Никогда не скажет просто: китайцы, американцы, – заметил про себя Уфимцев, – даже в обычном разговоре, наедине, использует кодовые аббревиатуры. Из суеверия, что ли?»
Когда-то был только ГП – Главный Противник, американцы. Потом испортились отношения с Китаем и появился ОП – Основной Противник, китайцы.
– Трудно сказать определенно. – Юра вздохнул. – Понимаете, Александр Владимирович, тут как в старом анекдоте. Может слон съесть тонну мороженого? Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?
Александр Владимирович анекдота не понял или вообще не услышал. Лицо его выражало напряженную работу мысли. Он щурил светло-зеленые воспаленные глаза, трогал кончик мягкого курносого носа. Он будто вовсе забыл об Уфимцеве, ушел в себя. Наконец спросил:
– А Раббани что за фрукт?
– Из окружения Каддафи, тайную полицию возглавляет всего два месяца.
– Знаю. – Кручина откашлялся, словно до сих пор не мог очистить легкие от дыма сигары Птипу. – Ты докладывал, что он готов к переговорам. Почему все-таки увильнул?
– Боится повторить судьбу предшественника. Жить хочет.
– Мг-м, мг-м. – Кручина сдвинул белесые брови, пару минут молча водил пером по бумаге, потом, не поднимая глаз, бросил следующий вопрос: – А что с предшественником?
Историю Укабы Васфи, предыдущего начальника тайной полиции, Уфимцев подробно излагал в своих донесениях. К визиту генерал готовился тщательно, перекопал весь массив информации по Нуберро и, конечно, ничего не забыл.
«Нужны свежие детали, хочет оживить свой доклад Андропову, блеснуть осведомленностью». – Юра стал говорить медленно, чтобы генерал успевал записывать:
– В октябре прошлого года Васфи встретился в Дубае с представителем швейцарской торговой фирмы господином Йоханом Колли. Фирма занимается алмазами. Встреча была обставлена как переговоры о разработке алмазного месторождения на севере Нуберро. На самом деле Васфи по приказу Птипу прощупывал, на каких условиях американцы могли бы помириться с Птипу. Колли – штатный сотрудник ЦРУ.
– Знаю. Дальше.
«Еще бы не знать, решение о твоем визите приняли сразу после моей оперативной телеграммы об этих чертовых переговорах».
– Американцы готовы к более близким контактам, но исключительно тайным, чтобы Израиль не обиделся. О восстановлении дипломатических отношений и открытом сотрудничестве речь может идти только в случае смены власти.
– То есть они намекнули на государственный переворот? – Кручина оживился, даже щеки слегка порозовели.
– Ну, не совсем. Васфи спросил, они ответили вежливо, неопределенно. Отделались общими словами. Ясно, что от контактов они не отказываются, будут держать его на крючке, но рассчитывать на их поддержку он вряд ли может. Я присылал подробный отчет.
– Да-да. – Кручина поправил очки и перевернул страницу. – Ну, дальше!
– Дальше – Васфи вернулся домой, и через две недели ему отрубили голову. Части тела Птипу велел зажарить на вертеле и подать к столу на банкете в честь дня рождения своего старшего сына. Голова хранится в холодильнике дворцовой кухни.
– Слушай, а без подробностей нельзя? – Кручина брезгливо скривился. – Почему не сказать просто: Васфи ликвидировали?
«Ох какие мы чувствительные!» – усмехнулся про себя Юра и смиренно произнес:
– Извините, Александр Владимирович.
Генерал насупился, но извинение принял и нейтральным деловым тоном спросил:
– В чем конкретно обвинялся Васфи?
– Остается только гадать. Суда никакого не было, он его просто… – Юра осекся, кашлянул и произнес медленно, по слогам: – Ли-кви-ди-ро-вал.
– Должны быть какие-то причины. Может, у него все-таки имелись основания подозревать Васфи в тайном сговоре с ГП?
– Александр Владимирович, – Юра устало вздохнул. – Птипу постоянно чистит свое ближайшее окружение. Из тех, кто занимал ключевые должности в начале его правления, в живых никого не осталось. Васфи был последним, и вот пришла его очередь.
Кручина молчал почти минуту, сосредоточенно разглядывал свои ногти, издавал какие-то невнятные звуки вроде «Ту-ту-ту», наконец покосился на Юру:
– Слушай, а зачем он вообще полез к ГП? Мы ж ему все даем, неужели мало?
– Мало! У него расходы знаете какие? Два личных самолета, три яхты. Вот недавно прикупил себе виллу на озере Комо. Теперь надо красиво обставить. Мебель он любит антикварную, картины – обязательно подлинники…
– А, черт! – внезапно вскрикнул Кручина.
По странице расползлась клякса.
Моду на перьевые авторучки ввел Андропов. Он их коллекционировал. Кручина во всем подражал Председателю, с шарика перешел на перышко и правильно сделал. Рука уставала меньше, а писать приходилось много. Выездные сотрудники дарили начальнику золотые перья. Однажды Юра решил тоже подольститься, купил в Риме серебряную «Скритторе», небольшую, тяжеленькую, строгой граненой формы, с тонким золотым пером. Она была так хороша, так приятно легла в руку, что он раздумал дарить Кручине, оставил себе. С тех пор с ней не расставался.
– Зараза, вот он, их хваленый «Мейсон»! Вроде в Лондоне куплен, – ругался генерал, вытирая пальцы сначала носовым платком, потом влажными салфетками. – Неужели подделка, китайское барахло?
– Все нормально, Александр Владимирович, – утешил Юра, – в самолете от перепадов давления чернила иногда текут.
– Так чего ж не предупредил?
– Да я как-то не обратил внимания, чем вы пишете. – Юра достал из кармана карандаш. – Вот, возьмите, самый надежный инструмент для самолета, паста в шарике тоже может потечь.
Кручина, кряхтя и ворча, отправился мыть руки, вернулся бледнее прежнего. Его покачивало, Уфимцев поддержал генерала под локоток, помог взобраться на кушетку, накрыл пледом и услышал:
– Смотри-ка, ГП, сволочи, даже не поставили условием разрыв с нами.
«Да им вообще ничего не надо делать, – подумал Юра, – достаточно просто не мешать нам заниматься этим идиотизмом».
Он пожал плечами и произнес:
– А им-то что? Чем больше денег мы на ветер выкинем, тем для них лучше.
– Мг-м, мг-м. – Кручина постучал по губам тупым концом карандаша. – Значит, он сам отправил Васфи на переговоры, а потом казнил. И ты абсолютно уверен, что Васфи не вел двойную игру?
– В каком смысле?
– В том самом! – Кручина перешел на шепот, вернее, зашипел, как вода на раскаленной сковородке: – Откуда у тебя такая уверенность? Почему ты исключаешь, что Васфи продался ГП и готовил государственный переворот при поддержке ЦРУ? На каком основании ты это исключаешь?
«Старая закалка, – подумал Юра, – опыт работы следователем и прокурором при Сталине оставляет вмятины вроде оспы, только не на лице, а в мозгу. Обязательно нужен заговор».
Он покачал головой и спокойно объяснил:
– На том основании, что всех, кто мог бы возглавить оппозицию, хотя бы слабенькую, хотя бы теоретически, Птипу давно ликвидировал. Васфи продержался дольше остальных именно потому, что не представлял для него опасности, был ему по-собачьи предан, собственных амбиций – ни малейших. Вообще ничего, кроме страха и обожания. Он ведь из племени Каква, а для них Птипу – живое божество.
– Ну да, ну да, – рассеянно пробормотал генерал.
Он опять ушел в себя, как будто даже задремал. Карандаш выпал из расслабленных пальцев, глаза закрылись. Уфимцев зевнул, вытянул ноги, удобней устраиваясь в кресле, и услышал:
– А все-таки жаль, не удалось побеседовать с Раббани. Я ведь не американец, подбивать на организацию переворота никого не собирался.
Глава шестая
После концерта и банкета в честь закрытия съезда он вернулся домой на рассвете, не раздевшись, рухнул на кровать. Проснулся бодрым, обновленным. Привычная гимнастика доставила ему какое-то особенное удовольствие. Каждое отжимание, приседание и подтягивание наполняло тело радостной искрящейся энергией.
«Девять, десять, одиннадцать… Мне ничего не почудилось, это вовсе не фантазии… Восемнадцать, девятнадцать, двадцать… Конечно, там, на съезде, Сам заметил меня, выделил из серой массы, потому что он гениально разбирается в людях, видит насквозь, знает все обо всех и о каждом… двадцать восемь, двадцать девять, тридцать…»
Чувство своей особости, избранности жило в нем с детства, но он не был уверен, постоянно взвешивал плюсы и минусы. Родился и рос в грязной коммуналке, отец путевой обходчик, мать уборщица, это, конечно, минус. Зато анкетные данные безупречны, предки по отцовской и по материнской линии – сплошь батраки да пролетарии, все русские, сомнительных примесей нет. Социальное происхождение и кровь чисты, как слеза младенца, хоть под микроскопом разглядывай. Это, конечно, плюс.
То, что он вообще появился на свет и выжил, колоссальный плюс. До него мать родила двоих, мальчика и девочку. Мальчик умер в полтора года от коклюша, девочку в роддоме заразили стафилококком, умерла в двухнедельном возрасте.
Отец запил не до, а после его рождения. Плюс, и не маленький. От алкоголиков часто рождаются придурки. Потом у матери из-за отцовских запоев случилось три выкидыша, и это сразу три плюса: не нарожала уродов. Такие родственники могли бы в будущем подпортить кристальную анкету. Еще два плюса – мать выжила, оправилась после выкидышей, а отец не сел в тюрьму, не стал инвалидом, а угодил спьяну под товарняк, то есть погиб на своем законном рабочем месте, при исполнении служебных обязанностей, в результате несчастного случая. Они с матерью остались вдвоем, и вся ее любовь досталась ему, единственному драгоценному сыночку.
Он растерся полотенцем докрасна и принялся внимательно изучать свое отражение. Да, точно, лицо у него необыкновенное. Чеканные мужественные черты определенно указывают на кристальную чистоту крови и принадлежность к элите человечества. Такие, как он, наделены сверхспособностями, призваны разоблачать и карать врагов, устанавливать свои порядки, побеждать и владеть миром. Не только внешность, но и биография – прямое тому подтверждение. Даже самые увесистые минусы в итоге оборачивались плюсами.
В 1940-м, когда ему исполнилось пятнадцать, ввели платное обучение: 200 рубликов за девятый класс, столько же за десятый, а за каждый курс вуза по 400. Мать мечтала, чтобы он закончил десятилетку, поступил в вуз, он и сам этого хотел, но пришлось после восьмого идти в ФЗО при вагоностроительном заводе.
Летом 1941-го завод эвакуировали в Пермь. Призывной возраст настиг его в 1943-м, в глубоком тылу. Он работал учеником мастера, резво продвигался по комсомольской линии и призыву не подлежал. А вот пошел бы в девятый-десятый, не попал бы на оборонный завод и легко угодил бы в сорок третьем на передовую. Ладно, допустим, не сразу и не на передовую. Такого толкового активного комсомольца вполне могли бы направить на курсы работников особых отделов при Высшей школе НКВД. Оттуда прямая дорога в СМЕРШ. Вроде неплохо, вполне себе плюс, но лишь на первый взгляд, потому что СМЕРШ – это Абакумов Виктор Семенович, вчера всесильный министр, генерал-полковник, сегодня – разоблаченный враг, глава сионистского заговора. Вчера здоровенный мужик, наглый, хитрый, ненасытный. Сегодня – беззубый калека с отбитыми почками и переломанными костями. Вчера обитал в хоромах, имел полдюжины постоянных любовниц и сколь угодно временных. Сегодня заключенный № 15 в Лефортове. Допросы круглые сутки, карцер-холодильник, кандалы, дубинка и плеть по самым чувствительным местам.
Большая чистка началась именно с ареста Абакумова и его заместителей летом 1951-го. Сегодня, осенью 1952-го, абакумовских людей в органах почти не осталось. Стало быть, тот факт, что он в СМЕРШе не служил, в органы пришел с комсомольской работы, можно считать самым главным плюсом в его жизни.
Каждый плюс – это аванс. Важно правильно им воспользоваться, а для этого надо шевелить мозгами, анализировать чужие минусы и делать выводы.
Дачный кооператив «Буревестник» раскинулся на берегу реки Сони в Красногорском районе Московской области, в двадцати трех километрах от МКАД. Доехать можно было на машине по Минскому шоссе либо электричкой от Белорусского вокзала до платформы Куприяновка.
Путь пешком от Куприяновки до «Буревестника» занимал полтора часа, если идти не спеша, с тяжелыми сумками, и минут сорок – если скорым шагом, налегке.
Справа вдоль шоссе, за ровными рядами молодых елок, простирались пастбища животноводческого колхоза «Заря коммунизма». Слева рябило в глазах от березовых стволов. Рощу рассекала бетонка, крепкая, широкая, с канавками по обе стороны. Даже весной, в распутицу, по ней удавалось пройти в городской обуви, не замочив ног, и машины проезжали гладко, не подпрыгивая на ухабах, не брызгая грязью. Такие дороги Вячеслав Олегович видел только в буржуазной Европе.
«Буревестнику» повезло, ближайшим соседом был генеральский поселок Раздольное, общую дорогу клали солдаты, которые строили генеральские дачи под строгим присмотром генеральш. Солдатам тоже повезло. Строить дома и дороги в мягком подмосковном климате, на свежем воздухе все-таки лучше, чем проходить срочную службу где-нибудь в Средней Азии или на Земле Франца-Иосифа.
Оба поселка выходили на пологий песчаный берег Сони. В летнюю жару дачники, от младенцев до стариков, высыпали на пляж, чистый, закрытый для посторонних, с кабинками, зонтиками, огороженным «лягушатником» для малышей и вышкой, на которой дежурил солдат-спасатель: Соня в некоторых местах была глубока.
На противоположном берегу, крутом, высоком, вилась белым бинтом стена древнего, шестнадцатого века, мужского монастыря Иоанна Предтечи.
Места были обжитые, дачные. В девяностых годах девятнадцатого века купец Куприянов купил огромный участок земли, вырубил яблоневые сады и построил полсотни дачных домиков, каждый с душем и туалетом. Сезон открывался в начале мая, закрывался в конце сентября. Аренда стоила дорого, приезжали только состоятельные москвичи. Пять месяцев тут танцевали на благотворительных балах, ставили любительские спектакли, катались на лодках, варили варенье, писали стихи и акварельные пейзажи. На открытых верандах кипели самовары, хрипели граммофоны, над полянами летали теннисные мячи, в роще мелькали белые платья барышень, шуршали велосипедные шины. По утрам лился перезвон монастырских колоколен, гремели бидонами деревенские молочницы. Из купальных павильонов спускались по лесенкам в воду барышни в сорочках до щиколоток, молодые люди в смешных полосатых трико до колен.
Дачные домики сгорели, но сохранилась усадьба, построенная в начале девятнадцатого века в стиле ампир, окруженная старинным парком, с прудом, аллеями, беседками и скульптурами. После революции в усадьбе разместились клуб и правление колхоза «Заря коммунизма». Во время войны там устроили госпиталь, потом санаторий Министерства обороны для высшего командного состава.
Командному составу понравились эти красивейшие места, в конце пятидесятых рядом с санаторием выросли генеральские дачи, скоро присоседились генералы литературные: члены Правления Союза писателей, главные редакторы журналов и книжных издательств военно-патриотической направленности.
Участки давали щедрые, от двадцати соток и больше, дома строили просторные, в два-три этажа, с городскими удобствами. Печами, каминами и баньками дачники обзаводились просто ради удовольствия.
Стены и внутренние строения монастыря уцелели. В двадцатых посбивали кресты с куполов, сняли колокола, в кельях поселили беспризорников. В тридцатых там была тюрьма НКВД, во время войны оружейный склад, потом – конезавод им. Ворошилова. В бывших кельях жили конюхи, на монастырской территории построили конюшни, в храме оборудовали ветлечебницу. Обитатели поселков с удовольствием занимались верховой ездой.
Берега соединяли два моста – старинный, белокаменный, монументально красивый трехарочный акведук и современный, надежный, но неинтересный.
Вячеслав Олегович любил дачную жизнь, она напоминала ту, прежнюю, конца девятнадцатого – начала двадцатого века. Он родился в 1923-м, ту жизнь знал по Чехову, Бунину, Горькому, по картинам Коровина, Серова, Поленова, по открыткам, фотографиям, музейным интерьерам. Чем старше он становился, тем сильней тянуло его туда, в незабвенное прошлое. Он тратил много времени и средств на старинные вещи и вещицы, охотился за ними в Москве и в провинции. Он предпочитал мебель в стиле русского национально-романтического модерна и неоклассицизма, но в московской квартире пышным, с высокими спинками, диванам, трехметровым, похожим на сказочные терема, буфетам было тесновато, они требовали простора, высоких потолков, чистого воздуха. Они просились на дачу.
На даче в гостиной нашел свое место гигантский обеденный стол из ясеня, с витыми ножками и причудливой резьбой по периметру столешницы, любовь и гордость Вячеслава Олеговича. Он купил его случайно, за бесценок, в разломанном, ободранном виде. На внутренней стороне столешницы сохранилось клеймо торгового дома «Мюр и Мерилиз». Реставрация обошлась дороже покупки и доставки, но это не важно. Стол – душа дома. За ним помещалось двадцать четыре человека, а если потесниться, влезало и тридцать. Важных гостей усаживали на мягкие гамбсовские стулья с подлокотниками, тех, кто попроще, – на длинную лавку со спинкой, а случайным («одноразовым» – по меткому выражению Оксаны Васильевны) доставались круглые табуретки с хохломской росписью, красивые, но неудобные.
Вячеслав Олегович обещал жене приехать на дачу засветло, но не получилось. Уснул около трех ночи, будильник не завел, проснулся поздно. За завтраком включил телевизор. Показывали телеспектакль по «Обрыву» Гончарова. Он увлекся. Очень любил этот роман, и постановка была неплоха. Потом решил все-таки посидеть над своими черновиками, хотя бы пару часиков, опять увлекся. Позвонила Оксана Васильевна: «Как?! Ты еще не выехал?!» Он принялся собираться, то и дело перезванивал на дачу, уточнял про скатерть, вилки, пряности и еще кучу всяких мелочей, которые жена просила привезти.
В машине он долго выбирал кассету. Наконец поставил оперу Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», тронулся под звуки увертюры, пересек МКАД; подпевая лирическому дуэту Февронии и Княжича, свернул в березовую рощу под хор толпы, смех и соло медведя на дудке. Нападение татар на Китеж, паника и отчаянное многоголосье «Ой, беда, беда идет, люди, ради грех наших тяжких» так разволновали его, что он едва не проскочил ворота своего участка.
Окна сияли уютным дачным светом, цветные стекла веранды отбрасывали на снег зеленые, красные, синие блики. Возле дома стояли две черные «Волги» и одна бежевая. На заснеженной лужайке блестела мишурой живая елка, рядом дымил мангал. Угли в нем помешивал прапорщик в валенках и телогрейке, личный повар генеральской четы Дерябиных.
Вячеслав Олегович выключил музыку, заглушил мотор и услышал странный звук, будто где-то кричали сразу несколько младенцев. На крыльце звук усилился, это был пронзительный невозможный визг. Галанов открыл дверь, и на него упала Оксана Васильевна, бледная до синевы:
– Славик!
От нее сильно пахло валерьянкой. Визг впивался в уши, резал мозг. Через плечо жены Вячеслав Олегович увидел генерала Федю Уральца в толстом свитере и старых домашних валенках. Рожа раскраснелась, глаза блестели.
– Привет, хозяин, заждались тебя, тут, видишь, какая история…
На веранде было холодно, у Феди изо рта валил пар с отчетливым коньячным запашком. Полные плечи Оксаны Васильевны дрожали под легкой пуховой шалью.
– Славик, – бормотала она, повиснув на нем всей тяжестью, – ужас-ужас-ужас…
Визг внезапно оборвался. Послышались мужские голоса и смех, в дверном проеме возникла массивная фигура генерала Вани Дерябина.
– А-а, Славка, ты, как всегда, самое интересное пропустил. – Генерал хлопнул по спине Оксану Васильевну. – Ну-ну, Ксанчик, хорош трястись.
– Привет, Иван, что происходит? – Вячеслав Олегович осторожно попытался отстранить жену.
Она намертво вцепилась в воротник его дубленки и продолжала бормотать как в бреду:
– Ужас-ужас-ужас!
– Ты, Слав, главное, не волнуйся, – загудел сиплый басок Уральца, – тут, видишь, какая история, колхозники поросят привезли, молочных, только…
– О! Вот и наш герой! – радостно воскликнул генерал Ваня. – Прошу любить и жаловать.
Посреди веранды стоял, широко расставив ноги, невысокий лысый крепыш лет сорока пяти, в ковбойке с закатанными рукавами, в цветастом фартуке Клавдии. Он выскользнул из кухни бесшумно, как призрак. Розовый череп сиял под люстрой, поблескивали крутые румяные скулы, короткий приплюснутый нос.
«Какой гладкий, – заметил про себя Галанов, – будто глазурью облит».
– Добрый вечер, Вячеслав Олегович, – произнес приятный баритон.
Галанов поздоровался и машинально пожал протянутую крепкую кисть.
– Эх, Славка, Славка! Даже не представляешь, как нам сегодня повезло! – возбужденно бухтел генерал Федя.
Оксана Васильевна наконец опомнилась, отпустила воротник дубленки:
– Да уж, повезло, подфартило. Поросят привезли живых, я хотела назад отправить…
– Отправить! – пискляво передразнил ее Федя. – Хорош был бы стол без поросят! Спасибо нашему дорогому профессору, выручил, взял на себя нелегкую мужскую работу.
Все посмотрели на «Глазурованного», тот скромно улыбнулся. Оксана Васильевна выдавила ответную улыбку:
– Да-да, спасибо, извините за такую мою реакцию, просто они кричали, будто младенцы. – Она поправила прическу, одернула кофточку. – Неужели нельзя как-то иначе, гуманней, ну, я не знаю, усыпить, чтоб не мучились.
– Наркоз дать? – хихикнул генерал Ваня.
– Ксанчик, солнце мое, тебя же предупреждали, вон, слабонервные все заранее ушли воздухом дышать, а ты… – Генерал Федя укоризненно покачал головой. – Упрямая она у тебя, Славка, ох, упрямая.
Снаружи послышались шаги, голоса, в дверь постучали.
– Можно, можно! – пробасил Федя. – Страсти-мордасти закончились.
Веранда наполнилась запахом свежего снега, холодного меха, дорогого парфюма, топотом, щебетом, паром дыханий.
С прогулки вернулись генеральша Дерябина, седовласая, высокая, статная, в коричневой норке, их дочь Вера, Уфимцева по мужу, сорокалетняя белокурая красавица, в серебристой норке, в ярком павловском платке, их внук, пятнадцатилетний Глеб, в дутой канадской куртке с капюшоном, супруги Сошниковы с дочками-близнецами, жена Уральца, Зоя, толстуха в каракуле, с пятилетним, закутанным до глаз, внуком, Клавдия, в дохе и валенках, супруги Потаповы. Последней влетела хохочущая, засыпанная снегом парочка: сын Потапова, Станислав, аспирант филфака МГУ, и Вика, младшая дочь Вячеслава Олеговича и Оксаны Васильевны.
Комбинезон так и не высох, но торчать в квартире стало уже невмоготу. Надо было хотя бы дойти до гастронома, купить еды.
Лена достала из шкафа старую цигейковую шубку, которую носила с четырех до шести лет. Шубка пованивала нафталином и ждала, когда подрастет Никита. В санки постелила байковое одеяло, надела на Никиту два теплых костюмчика, упаковала его в шубку, замотала шарфом.
Морозец был легкий, не злой. Ветер утих. Справа, за белым пустырем, на пригорке, виднелась прозрачная лесная опушка, светлые тучи висели так низко, что казалось, верхушки сосен щекочут их пухлые подбрюшья. Слева тянулись одинаковые серо-белые новостройки с рядами балконов, как тетрадные листки в линейку. До цивилизации с универсамом, поликлиникой, аптекой, почтой – четыре автобусные остановки, а до метро – семь.
Автобус ходил редко, на остановке собралась толпа, да и все равно с санками не влезешь. Она отправилась пешком по обочине, вдоль трассы. По утрамбованному снегу санки скользили довольно легко, правда, иногда приходилось перетаскивать их вместе с Никитой на руках через шершавые окаменевшие кучи песка и глины.
На улице Никита сразу успокоился, с любопытством глядел по сторонам. В коляске с высокими бортами он мог видеть только небо. В санках открывался широкий обзор. Лена подумала, что для него это почти кругосветное путешествие. Глазищи сияли, щеки порозовели. Помпон вязаной шапки покачивался, санки прыгали на ухабах, эти подскоки Никиту смешили. Он запрокидывал голову, широко открывал рот, заливался хохотом. В шубке он был похож на медвежонка Васю.
Из универсама на улицу торчал хвост. Выбросили бананы, а в молочном давали глазурованные сырки и только что привезли свежую развесную сметану. Не зря Лена прихватила чистую банку с крышкой. С тех пор, как стала кормящей мамашей, от сметаны дрожала, будто кошка.
За бананами и в кассу она заняла заранее, к молочному встала. Кроме банки и капроновой сумки имелся у нее с собой свежий номер журнала «Юность», но вытащить не успела, Никита захныкал, пришлось брать на руки. Держать его в шубке было неудобно, тяжело, он вертелся, пытался высвободить руки из длиннющих рукавов. Лена сняла с него шубку, бросила в санки.
Так и стояла, баюкая, утешая, подталкивала санки ногой по мере движения очереди, сначала в молочный, потом за бананами, потом в кассу, всего часа полтора. Спасибо, продавщица закрутила для нее крышку сметанной банки (другие сами закручивали) да какая-то бабулька подержала мешок, помогла уложить продукты.
– Хоть восьмилетку окончить успела? – спросила она, с любопытством заглядывая в глаза.
– Успею еще. – Лена присела на корточки, принялась упаковывать Никиту в шубку.
– Ну, а лет сколько тебе?
– Чертова дюжина. – Лена застегнула шубку, замотала Никитку шарфом и поволокла санки к выходу из универсама.
– Ой ты боже ж ты мой! – запричитала ей вслед бабуля. – А муж-то есть?
– Всего доброго, спасибо за помощь! – Лена вежливо улыбнулась и помахала рукой.
На последних месяцах беременности и после родов ей приходилось постоянно выслушивать вопросы и комментарии уличных доброхотов по поводу ее слишком юного возраста. Она выглядела не старше четырнадцати. Маленькая, худющая, темно-русые волосы заплетены в тугую косичку, из-под длинной челки глядят широко распахнутые глаза, темно-серые при пасмурной погоде и ярко-синие при солнечном свете. Когда ее спрашивали о возрасте, она врала, забавлялась. Ну не объяснять же каждой сердобольной тетеньке, что ей уже девятнадцать, что в декрет она ушла со второго курса мединститута, а ребенка родила от законного мужа!
Да, она взрослая женщина, у нее есть муж, он любит ее и Никиту. Никто никогда не задаст Никите вопрос: деточка, а где твой папа?
Глава седьмая
Историю падения Абакумова он знал от Федьки Уральца во всех подробностях. В Центральном Аппарате и на местах многие считали, что Абакумова погубила случайность. Шептались: погорел из-за пустяка, из-за Окурка.
«Окурком» называли старшего следователя следственной части по особо важным делам подполковника Рюмина Михаила Дмитриевича. Он отличался тупостью, надменностью, умудрялся при своем карликовом росте смотреть свысока на товарищей, всех раздражал, постоянно, будто нарочно, нарывался на неприятности. То начальству нахамит, то папку с секретными документами забудет в служебном автобусе.
Окурок вел дело о сионистском заговоре, работал с одним из главных заговорщиков по фамилии Этингер.
Этингер был старик, тюремные врачи предупреждали, что у него слабое сердце и он в любой момент может отбросить копыта. Абакумов приказал допросы прекратить, переключил Рюмина на другое дело, но Окурок только вошел во вкус, приказ проигнорировал, каждый день мотался в Лефортово, часами допрашивал Этингера и перестарался. После очередного допроса старик свалился замертво.
Никто не сомневался: все, Окурку конец. Началось внутреннее расследование. Выяснилось, что Рюмин наврал во всех анкетах, скрыл свое социально чуждое происхождение. Отец его до революции был богатым скототорговцем. Родные сестра и брат привлекались за воровство, тесть воевал у Врангеля.
Окурку светило снятие с должности, исключение из партии, арест. И вот тут Окурок всех удивил: накатал в ЦК телегу на министра Абакумова, мол, именно он, Абакумов, специально довел до смерти подследственного, чтобы тот не успел раскрыть ведущую роль его, Абакумова, в сионистском заговоре, который пронизал своими щупальцами органы, сверху донизу.
В результате Абакумова арестовали, а Рюмин стал полковником, начальником Следственной части и через пару месяцев занял должность замминистра.
Как раз тогда, осенью пятьдесят первого, он, выпускник Школы следственных работников, оперуполномоченный Свердловского райотдела МГБ, был переведен в Центральный Аппарат, сначала в 6-й следственный отдел 5-го оперативного управления, потом, уже в звании старшего лейтенанта, в Следственную часть по особо важным делам. Лишь совсем недавно, в сентябре, он получил капитанские погоны, должность младшего следователя и небольшую казенную квартиру в ведомственном доме на Покровском бульваре, ту самую, в которой сейчас стоял у зеркала в ванной комнате и решал уравнение с двумя неизвестными. Окурок Рюмин и Глыба Абакумов.
Конечно, у Рюмина имелись покровители на самом верху, иначе вряд ли он осмелился бы наплевать на приказ министра, тем более накатать телегу. Это ясно. И все-таки, каким образом Окурку удалось обрушить Глыбу?
Молодой капитан взял маникюрные ножницы, принялся аккуратно подстригать волоски усов, таких же густых и красивых, как у Самого, только не черных с проседью, а пшеничных, и вдруг понял, что уравнение в принципе нерешаемо, потому что условия заданы неверные. Окурок не мог обрушить Глыбу. Рюмина использовал секретарь ЦК Маленков Георгий Максимилианович, чтобы на место Абакумова сунуть своего человека, нынешнего министра МГБ Игнатьева Семена Денисовича.
Капитан вдоволь налюбовался круглой, как блин, рожей Маленкова, когда тот зачитывал нуднейший отчетный доклад на съезде, и не раз видел вытянутую постную физиономию министра Игнатьева. Оба типичные чинуши, карьеристы, стараются изо всех сил угодить Самому. Абакумов тоже старался.
Он отложил ножницы, взбил пену и намылил щеки. В чем же разница между Абакумовым и Маленковым, между Абакумовым и Игнатьевым? Да ни в чем! Можно сколько угодно менять неизвестные в уравнении – оно останется нерешаемым. Все кадровые перестановки в руках Самого. Понять его тактику и стратегию способен лишь тот, кто мыслит в государственных масштабах. Ничтожества суетятся, интригуют, пекутся о своих мелких обывательских выгодах. Великий Человек ставит перед собой великие цели, а ничтожеств использует как расходный материал.
Безопасная бритва осторожно скользила по намыленным щекам и подбородку, губы шевелились, беззвучно бормотали:
– Заговор. Раскрыть и разоблачить сионистский заговор. Тактическая задача – добиться признаний, собрать неопровержимые доказательства. Стратегическая – уничтожить этих выродков раз и навсегда.
Да, после съезда он стал другим человеком, прошел обряд тайного посвящения. Карьера, квартира, спецпаек – это здорово. Но теперь он знал, что есть нечто несоизмеримо большее: Цель, Миссия.
Послышался тихий дробный стук и скрежет по шершавому металлу. Он отложил бритву, оглядел ванную комнату. Матовые шары светильников, сверкающий никель кранов, стены, отделанные белоснежной плиткой, тонкий синий орнамент бордюра под потолком – все излучало покой и безопасность. Взгляд уперся в решетку вентиляционной отдушины. Нет, звуки шли не оттуда. Он медленно повернулся, уставился на узкое окно. Прохладный ветер из открытой форточки покачивал белую батистовую шторку. Он мгновенным движением отдернул шторку. На карнизе сидела мокрая всклокоченная ворона. Две черные бусины уставились ему в глаза. Он стукнул костяшками пальцев по стеклу. Ворона в ответ поскрежетала когтями. Он опять стукнул. Ворона вздыбила перья. Из-под хвоста медленно вытекла и шлепнулась на карниз густая зеленоватая мерзость.
– Вон! Пошла вон, тварь!
Он не рассчитал силу удара. Стекло треснуло. Ворона раскинула крылья, поднялась в воздух и, громко каркая, улетела.
Перед Новым годом Антон Качалов влез в долги, надеялся подработать во время школьных каникул на елках. Ему предстояло сыграть Карабаса-Барабаса в клубе фабрики «Большевичка», Старика Хоттабыча в Детской библиотеке им. Светлова и безымянного пирата в новогоднем спектакле во Дворце пионеров им. Крупской.
В провинции найти халтурку легче и платят больше, но замаячила приличная роль в многосерийном телефильме, сразу после Нового года предстояло пройти кинопробы, поэтому в ближайшую неделю уезжать из Москвы не стоило.
Утром первого января он вышел из дома в дрянном настроении. Позади осталось изумленное, обиженное Ленкино лицо, капризный утренний хнык Никиты, карниз, который он обещал повесить, постельное белье, которое уже неделю собирался отнести в прачечную, и куча других нудных домашних дел. Он еще не решил, как долго предстоит Ленке ждать его. Пусть хорошенько понервничает. Заслужила. Трудно поверить, что ей не удалось уломать дедулю насчет прописки. Дедуля ее обожает, на все готов ради нее. Значит, Ленка даже не пыталась с ним поговорить.
Сама по себе прописка не особенно заботила Антона, он ведь не провинциал из общаги. Москвич во втором поколении. Но это стало вопросом принципа. Мать пилила: «Почему они тебя не прописывают? Не знаешь? А я скажу! Потому, что не уважают, презирают, считают, что ты их Леночке не ровня!»
Мать вообще была язва, ни о ком никогда доброго слова не сказала, Ленку возненавидела с первого взгляда. Обычно он пропускал ее треп мимо ушей, но на этот раз она его достала, ударила по больному месту. Дело в том, что однажды он уже собирался жениться, давно, еще в институте. Девица была так себе, ни кожи ни рожи. Сутулилась, носила очки. Зато внучка академика. Квартира четырехкомнатная на Арбате, дача в Серебряном Бору.
Академическое семейство сразу его полюбило, он легко их всех обаял. Настало время знакомить будущих родственников. Антон заранее провел инструктаж, отцу запретил материться и пить больше двух рюмок, матери – задавать идиотские вопросы, лезть со своим мнением. Обоим велел больше улыбаться, молчать и слушать.
В назначенный день и час он привез их на дачу в Серебряный Бор, все вроде шло нормально, родители вели себя точно по инструкции, академическое семейство приняло их приветливо. Через пару недель предстояло подавать заявление в ЗАГС, но невеста стала избегать его, а когда наконец встретились, заявила: «Прости, мои все в шоке, и я, честно говоря, тоже. Никто представить не мог, что у тебя такая мама. Ну, как бы тебе это объяснить? В общем, из другого мира».
Антон вспылил, послал невесту на три буквы. Остался тяжелый осадок, мучили комплексы. Что же получается? Его красота, обаяние, талант ничего не значат? Мама им, видите ли, не понравилась! Из другого мира!
Потом у него было много разных, иногда две-три одновременно. Он с ними легко сходился, легко расходился и ни одну не приводил домой, не знакомил с родителями. Мать приставала: «А девушки никакой, что ли, нет у тебя?» Он отвечал: «Конечно, есть!» Она требовала: «Ну, так приведи, покажи!» Он отмахивался: «Отстань!»
С каждый годом она все сильней его донимала: «А чего это ты не женишься? Прынцессу ждешь? Ты вот послушай мать, держись от всяких этих фиф подальше, возьми какую попроще, поскромней, чтоб знала свое место».
Ленка была типичная «фифа-прынцесса», правда, не академическая внучка, всего лишь профессорская. Небольшая квартирка на Пресне, дача-сараюшка в Михееве. Зато в отличие от той, первой, красивая.
Красивых много, бери – не хочу, но от Ленки он прямо балдел, дрожал от одного только запаха. Что-то в ней было необычное, вдохновляющее. В начале их романа он не замечал других, только на нее смотрел, только о ней думал. Какая там квартира-дача, не важно, главное – Ленка! Он сказал отцу, по-тихому, когда мать не слышала: «Знаешь, пап, я, кажется, влюбился». Отец сразу бутылку на стол: «Ну, сынок, молодец, давай женись!»
Ленка очень скоро от него залетела. Ни одна из его прошлых почему-то не залетала, может, специально предохранялись, а может, просто не судьба. Прежде чем знакомить семьи, он привел Ленку домой, к своим. Мать, конечно, фыркала, нос воротила. Ленка потом плакала у него на плече: «Мне сквозь землю хотелось провалиться, она так смотрела… эти вопросы, замечания…» Но в общем, ничего обидного о матери он не услышал, никаких там «из другого мира». А что мать злыдня, он и сам знал.