Кристин, дочь Лавранса Унсет Сигрид
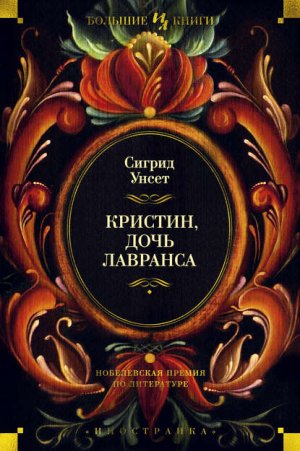
Правда, Симон был недурен собой, но немного тучен для своих двадцати лет; у него была короткая шея, а лицо круглое и блестящее, как полный месяц. Волосы у него были очень красивые, темно-русые и кудрявые, а глаза серые, ясные, но сидели они слишком глубоко и словно заплывали, потому что веки были очень уж пухлые; нос был слишком маленький, рот тоже небольшой, с надутыми губами, но не безобразный. И, несмотря на полноту, Симон был легок, подвижен, гибок во всех своих движениях и ловок в разных состязаниях. На язык он был остер и быстр на ответы; Лавранс находил, что в беседах со старшими он обнаруживал здравый смысл и познания.
Рагнфрид скоро полюбила его, а Ульвхильд с первого же раза почувствовала к нему горячую любовь, – правда, он был особенно мил и ласков с маленькой больной девочкой. А когда Кристин несколько привыкла к его круглому лицу и способу выражаться, то и ей жених стал очень нравиться, и она радовалась, что отец все так для нее устроил.
В числе приглашенных была и фру Осхильд. С тех пор как владельцы Йорюндгорда открыли для нее свои двери, другие знатные люди в ближайших приходах начали опять вспоминать о ее высоком происхождении и меньше думать о ее сомнительной славе, так что теперь фру Осхильд постоянно общалась с людьми. Увидев Симона, она сказала:
– Это подходящий для тебя брак, Кристин; этот Симон далеко пойдет в жизни – ты избавишься от многих забот и хлопот, и он будет тебе добрым мужем. Но по-моему, он чересчур тучен и слишком уж весел. Если бы в Норвегии и теперь все было так, как прежде, в былые дни, или как это бывает в других странах, где люди относятся к грешникам не строже самого Господа Бога, то я посоветовала бы тебе завести худощавого и грустного дружка, с которым ты могла бы сидеть и вести разговоры. Тогда я сказала бы, что лучше тебе нечего и желать, как только выйти за Симона!
Кристин покраснела, хотя и не вполне поняла смысл слов фру Осхильд. Но по мере того, как время шло, а сундуки ее наполнялись и она постоянно слышала разговоры о своей свадьбе и о том, что она принесет с собой в дом мужа, она стала с нетерпением ждать, чтобы уж все скорее закончилось обручением и Симон приехал к ним на север; в конце концов она стала много думать о женихе и радовалась, что снова его увидит.
Кристин стала уже совсем взрослой и очень похорошела. Она больше походила на отца и была высокой, с тонким станом и стройными узкими руками и ногами, но вместе с тем была она статной и словно налитой. Лицо у нее было несколько коротко и округло, лоб низок, широк и бел, как молоко, глаза большие, серые, добрые, под красиво очерченными бровями, рот несколько велик, но губы свежие, алые и пухлые, а подбородок правильный и круглый, кок яблочко. У нее были чудесные густые и длинные волосы, но они не вились и были темноватого оттенка, не то русые, не то золотистые. Лавранс ничего так не любил, как слушать, когда отец Эйрик расхваливал Кристин и хвастался ею – девушка выросла на глазах у священника, он учил ее читать и писать и был очень к ней привязан. Но Лаврансу не особенно нравилось, когда священник иной раз сравнивал его дочь с непорочной молодой кобылицей с шелковистыми боками.
И все-таки все говорили, что если бы с Ульвхильд не случилось несчастья, то она была бы во много раз красивее сестры. У нее было такое прекрасное и милое лицо, бело-розовое, как роза и лилии, а белокурые и мягкие, как шелк, волосы падали пушистыми и волнистыми локонами на ее тонкую шейку и узкие плечи. Глазами она походила на род Йеслингов: они глубоко сидели под прямыми черными бровями и были прозрачны, как вода, и серо-голубые; но взгляд их был мягок, а не колюч, как у Йеслингов. Кроме того, у девочки был такой приятный и ясный голосок, что радостно было слушать, когда она говорила или пела; у нее были большие способности к книжной науке, к струнной игре и к шахматам, но работать она не очень любила, потому что у нее тотчас же уставала спина.
Мало было надежды на то, чтобы этот красивый ребенок когда-либо выздоровел вполне. Здоровье Ульвхильд несколько поправилось после того, как родители побывали с ней в Нидаросе, у святого Улава. Лавранс и Рагнфрид ходили туда пешком, не беря с собою ни слуг, ни служанок, и всю дорогу сами несли ребенка на носилках. После этого путешествия Ульвхильд стало лучше, так что она стала ходить, опираясь на костыль. Но было трудно надеяться, что она выздоровеет настолько, чтобы можно было выдать ее замуж, поэтому в свое время придется отдать ее в монастырь со всем причитающимся ей имуществом.
Никто никогда не заговаривал об этом, и сама Ульвхильд не сознавала, что она была не похожа на других детей. Она очень любила украшения и нарядные платья, и у родителей не хватало духа в чем-либо ей отказать; напротив, Рагнфрид шила и вышивала для нее и наряжала ее, как королевскую дочь. Однажды, когда прохожие коробейники остановились ночевать в Лэугарбру, Ульвхильд увидела там их товары, они, между прочим, продавали янтарно-желтую шелковую материю, и девочке непременно захотелось такого шелку на сорочку. Лавранс, вообще говоря, никогда ничего не покупал у торговцев, продававших незаконно по сельским приходам товары, которыми разрешалосьторговать лишь по городам, но тут он сразу купил всю штуку. Кристин тоже получила от отца шелку для своей свадебной сорочки и вышивала ее этим летом. До сих пор у нее никогда не было никаких других рубах, кроме шерстяных и одной полотняной для праздничного наряда. Но Ульвхильд получила шелковую праздничную сорочку и еще воскресную полотняную сорочку с шелковым верхом до пояса.
Лавранс, сын Бьёргюльфа, владел теперь также и небольшой усадьбой Лэугарбру, которой управляли Турдис с Йоном. У них жила самая младшая дочка Лавранса и Рагнфрид – Рамборг, которую Турдис выкормила грудью. Рагнфрид почти не глядела на этого ребенка в первое время после его рождения, говоря, что она приносит своим детям несчастье. Впрочем, она очень любила свою маленькую девочку и постоянно посылала подарки ей и Турдис; позднее она стала часто ходить в Лэугарбру посмотреть на Рамборг, но предпочитала приходить по вечерам, когда девочка уже спала, и только сидела около нее. Лавранс же и две старшие дочки часто бывали в Лэугарбру и играли с малюткой; она была сильным и здоровым ребенком, но не так красива, как сестры.
Это лето было последним, проведенным Арне, сыном Гюрда, в Йорюндгорде. Епископ обещал Гюрду помочь юноше пробить себе дорогу в жизни, и Арне должен был к осени переехать в Хамар.
Хотя Кристин знала, что она люба Арне, но в душе ее было еще так много детского, что она не задумывалась над этим; она держалась с ним, как обычно бывало с тех самых пор, когда они были детьми: постоянно искала его общества и всегда шла с ним об руку, когда плясала дома или на церковном пригорке. И то, что матери это не нравилось, казалось ей скорее забавным. Но она никогда не говорила с Арне о Симоне или о своем замужестве, потому что заметила, что он становится угрюмым, когда при нем заговорят об этом.
Арне был на все руки мастер и решил сделать для Кристин на память о себе рабочий стан. Он уже покрыл резьбой и ящик в сиденье, и раму стана, а теперь работал в кузнице, выковывая железные скобы и замок к ящику. Однажды прекрасным летним вечером Кристин пошла к нему, захватив с собой отцовскую куртку, которую надо было починить. Она села на каменный порог и принялась шить, болтая с юношей, работавшим в кузнице. Ульвхильд, пришедшая с сестрой, ковыляла поблизости на своем костыле и ела малину с кустов, росших по обочинам поля между грудами камней.
Через некоторое время Арне вышел из двери кузницы, чтобы немного остыть. Он хотел присесть рядом с Кристин, но та слегка отодвинулась и попросила его быть осторожнее, чтобы не запачкать ей сажей шитья, которое лежало у нее на коленях.
– Так вот как теперь у нас стало, – промолвил Арне. – Ты уже не смеешь позволить мне сесть с собой рядом, потому что боишься, как бы крестьянский парень не испачкал тебя?
Кристин с удивлением взглянула на него и ответила:
– Ты же знаешь, что я хотела сказать! Сними свой кожаный передник, смой сажу с рук и садись тут, отдохни немного рядом со мной… – И она подвинулась, чтобы дать ему место.
Но Арне улегся на траве перед нею; тогда она опять заговорила:
– Не сердись же, Арне мой! Неужели ты можешь думать, что я не благодарна тебе за тот красивый подарок, который ты для меня делаешь, или забыть когда-либо, что ты всегда был моим лучшим другом здесь, у нас дома?
– А разве я был твоим лучшим другом? – спросил он.
– Ты сам отлично знаешь, – сказала Кристин. – И я никогда не забуду тебя. Но ты, которому предстоит ехать в широкий свет, ты, может быть, достигнешь богатства и славы много раньше, чем думаешь, и тогда, конечно, забудешь меня гораздо скорее, чем я тебя…
– Ты никогда меня не забудешь? – сказал Арне, улыбаясь. – А я забуду тебя раньше, чем ты меня? Какой ты еще ребенок, Кристин!
– Ты и сам еще не вырос! – отвечала она.
– Я одного возраста с Симоном Дарре, – снова заговорил он. – И мы тоже носим шлем и щит, не хуже владельцев Дюфрина, но только моим родителям не улыбнулось счастье.
Он вытер руки пучком травы, тронул Кристин за щиколотку и прижался щекою к ее ноге, выглядывавшей из-под подола платья. Кристин хотела убрать ногу, но Арне сказал:
– Твоя мать ушла в Лэугарбру, а Лавранс уехал со двора – из усадьбы нас никто не увидит. Один-единственный раз ты можешь позволить мне поговорить о том, что лежит у меня на сердце.
Кристин отвечала:
– Ведь мы с тобой оба всегда знали, что, если бы мы полюбили друг друга, это ни к чему не привело бы.
– Можно положить голову к тебе на колени? – спросил Арне и, не дождавшись ответа, склонился головой на колени к Кристин, обняв одной рукой ее стан. Другой рукой он перебирал ее косы.
– Каково-то тебе понравится, – произнес он немного спустя, – когда Симон будет лежать у тебя на коленях и играть твоими волосами?
Кристин не отвечала. Казалось, на нее внезапно навалилась какая-то тяжесть… Речи Арне, голова Арне на ее коленях… Словно открылась какая-то дверь в неизвестное, много темных путей в еще большую темноту, – невеселая, со стесненным сердцем, она медлила и не хотела заглянуть туда.
– Женатые люди не занимаются такими вещами, – неожиданно произнесла она быстро и как бы с облегчением. Она попробовала представить себе толстое, круглое лицо Симона с такими вот глазами, какими сейчас смотрел на нее вверх Арне, услышала его голос – и не могла удержаться от смеха: – Симону и в голову не пришло бы улечься на землю, чтобы поиграть с моими башмаками!
– Зачем ему? Он может играть с тобой в своей постели! – сказал Арне.
При звуках этого голоса Кристин сразу почувствовала себя слабой и бессильной. Она попробовала скинуть его голову со своих колен, но Арне крепко прижался головой к ее ногам и тихо сказал:
– А я играл бы с твоими башмаками, и с твоими волосами, и с твоими пальцами, Кристин, и весь день ходил бы повсюду за тобой, хотя бы ты и была моей женой и спала в моих объятиях каждую ночь!
Он наполовину приподнялся и, обняв ее за плечи, заглянул ей в глаза.
– Нехорошо так говорить со мною, – тихо и смущенно сказала Кристин.
– Да, правда, – ответил Арне. Он поднялся на ноги и стоял теперь перед нею. – Но скажи мне лишь одно – неужели тебе не больше хотелось бы, чтобы это был я?..
– Ах, конечно, мне хотелось бы больше… – Она помедлила немного. – Мне бы больше хотелось не иметь мужа… пока…
Арне не двинулся с места и сказал:
– Так тебе больше всего хотелось бы, чтобы тебя отдали в монастырь, как это задумано с Ульвхильд? Чтобы остаться девой на веки вечные?
Кристин уронила крепко сжатые руки на колени. Странный и сладкий трепет охватил ее; и, вдруг вздрогнув, она словно сразу поняла, как жалко маленькую сестричку, и глаза ее наполнились слезами горя при мысли об Ульвхильд.
– Кристин, – тихо промолвил Арне.
В эту минуту Ульвхильд громко вскрикнула. Костыль застрял у ней между камней, и она упала. Арне с Кристин подбежали к ней, и Арне, подняв ее, передал на руки сестре. Ульвхильд разбила себе губу, из раны сильно шла кровь.
Кристин села вместе с девочкой в дверях кузницы, а Арне принес воды в деревянной чашке, и они принялись вместе обмывать ей лицо. Ульвхильд содрала себе, кроме того, кожу с коленок. Кристин ласково склонилась над маленькими тонкими ножками.
Жалобные рыдания Ульвхильд скоро затихли, и она только тихо и горько плакала, как плачут дети, привыкшие переносить боль. Кристин прижимала ее голову к своей груди и тихонько укачивала девочку.
И тут в церкви Святого Улава зазвонил колокол к вечерне.
Арне заговорил с Кристин, но та сидела, склонившись над сестрою, и словно ничего не слыхала и не замечала; тогда он испугался и спросил, не думает ли она, что Ульвхильд опасно расшиблась. Кристин покачала головой, не глядя на Арне.
Немного спустя она встала и пошла к дому, неся Ульвхильд на руках. Арне шел следом, молчаливый и смущенный; Кристин так глубоко задумалась, что лицо у нее стало совсем каменным. Пока она шла, колокол все звонил над холмистыми лугами и долиной; он еще звонил, когда Кристин вошла в горницу.
Она положила Ульвхильд на постель, в которой сестры спали вместе с тех пор, как Кристин стала уже слишком большой, чтобы спать с родителями. Потом она сняла с себя башмаки и легла рядом с девочкой; так она лежала, прислушиваясь к звону колокола, и еще долго после того, как он затих, а девочка заснула.
Ей пришло в голову, когда колокол начал звонить, а она сидела, охватив руками окровавленное личико Ульвхильд, что, может быть, это ей знамение. Если бы она решилась пойти в монастырь вместо сестры, если бы она решилась посвятить себя Богу и Деве Марии, то, может быть, тогда Бог вернул бы ребенку здоровье и силы.
Она вспомнила слова брата Эдвина, что в нынешнее время родители посвящают Богу только убогих да немощных детей или таких, которым трудно устроить хорошее замужество. Кристин знала, что ее отец и мать были людьми благочестивыми, и вместе с тем всегда только и слышала о том, что ее выдадут замуж, а когда родители поняли, что Ульвхильд на всю жизнь останется больной, то сейчас же решили, что она пойдет в монастырь…
Но ей самой не хотелось этого, она изо всех сил гнала от себя мысль, что Бог совершит чудо над Ульвхильд, если она, Кристин, станет монахиней. Она цеплялась за слова отца Эйрика, что теперь мало бывает чудес. И все-таки сегодня она чувствовала – правду говорил брат Эдвин: если бы у человека было достаточно веры, то он мог бы творить чудеса. Но она не хотела верить, она не любила так сильно Бога, Богородицу и всех святых, не хотела даже любить их так, – она любила мир, она стремилась в мир и тосковала по нему…
Кристин прижалась губами к мягким, шелковым волосам Ульвхильд. Девочка крепко спала; старшая сестра поднялась было, полная беспокойства, но потом снова легла. Сердце ее истекало кровью от горя и стыда, но она твердо знала, что не хочет верить в чудеса, потому что не хочет отказаться от своего наследия – от здоровья, красоты и любви.
Тогда она попробовала утешить себя мыслью, что родители все равно ей никогда этого не позволили бы. Да и не поверили бы, что это принесет какую-нибудь пользу. Ведь она уже помолвлена, и они не захотят потерять Симона, которого так полюбили. Ей показалось, что родители изменяют ей в чем-то, раз они уж так гордятся этим зятем, и внезапно с отвращением вспомнила круглое красное лицо Симона, его маленькие смеющиеся глазки, его упругую поступь, – он прыгает, как мячик, вдруг пришло ей на мысль, – его шутливую речь, которая заставляла ее чувствовать себя невеждой и дурой. Совсем уж не такое большое счастье получить его в мужья и переехать всего только вниз, в Формо… И все-таки лучше уж выйти за него, чем идти в монастырь!.. Но широкий мир, лежащий за горами, королевский двор, и графы, и рыцари, о которых рассказывала фру Осхильд, и красавец с печальным взором, который повсюду следовал бы за нею, никогда не уставая… Она вспомнила Арне в тот летний день, когда он лежал на боку и спал, а его русые блестящие волосы рассыпались по вереску, – тогда она любила его так сильно, как родного брата… Нехорошо было так говорить с нею, раз он знает, что им все равно никогда не принадлежать друг другу…
Мать послала сказать из Лэугарбру, что она останется там ночевать. Кристин встала, чтобы раздеться и лечь спать. Она начала расшнуровывать платье, но вдруг снова надела башмаки, завернулась в плащ и вышла во двор.
Ночное небо, светлое и зеленоватое, простиралось над гребнями гор. Скоро должен был взойти месяц, и в том месте, где он скрывался за горою, медленно ползли маленькие тучки, и нижний край их блестел, как серебро; небо все светлело и светлело, как металл, на который ложится роса.
Кристин побежала между изгородями по дороге вверх к церкви. Церковь спала, черная и замкнутая, но Кристин подошла к кресту, стоявшему неподалеку в память того, что святой Улав отдыхал когда-то на этом месте, когда бежал от недругов.
Кристин опустилась на колени на камень и положила сложенные руки на подножие креста.
– Святой крест, крепчайшая мачта, прекраснейшее древо, мост для болящих, ведущий к прекрасным брегам выздоровления…
Казалось, что от слов молитвы ее смутная тоска расплывается, расходится, как круги по воде. Отдельные мысли, смущавшие ее, сглаживались, душа ее понемногу успокаивалась, смягчаясь, и тихая бездумная грусть занимала место горестей.
Она стояла на коленях, чутко воспринимая все ночные звуки. Ветер вздыхал так странно, река шумела в роще за церковью, а ручеек журчал совсем рядом, пересекая дорогу, – и всюду, вблизи и вдали, различала она во мраке и взором и слухом струйки текущей и капающей воды. Внизу в поселке река поблескивала белым. Месяц выглянул в просвет среди гор, влажные от росы листья и камни заблестели, и лунный свет неясно и тускло отразился от просмоленной бревенчатой колоколенки у ограды кладбища. Потом месяц снова скрылся там, где выше вздымался к небу горный хребет. Теперь небо еще больше покрылось сияющими тучками.
С дороги донеслись до нее звуки медленной конской поступи и мужских голосов, тихо и спокойно разговаривавших между собой. Кристин никого не боялась здесь, так близко от дома, где ей был знаком каждый; она почувствовала себя уверенней.
Отцовские собаки налетели на нее, повернули и помчались стрелой обратно в чащу, снова вернулись и кинулись к Кристин опять. Отец громко поздоровался с нею, показавшись на дороге среди берез. Он вел Гюльдсвейна под уздцы; на седле болталась целая связка птиц, а на левой руке Лавранс нес сокола с колпачком на голове. Отец шел в сопровождении высокого сутуловатого монаха в рясе, и Кристин, еще не успев рассмотреть его лица, уже знала, что это брат Эдвин. Она пошла им навстречу, не дивясь этому, словно во сне, и, когда Лавранс спросил ее, узнаёт ли она их гостя, она только улыбнулась.
Лавранс встретился с ним наверху, у Ростского моста, и ему удалось уговорить его пойти с ним домой и переночевать в усадьбе. Но брат Эдвин настаивал, чтоб ему позволили лечь в хлеву.
– Потому что я совсем завшивел, – сказал он, – меня нельзя класть в хорошую постель.
И как Лавранс ни просил, ни уговаривал, монах стоял на своем; сперва он даже хотел, чтобы его и накормили во дворе. Наконец его все-таки привели с собою в горницу. Кристин затопила печку в углу и поставила на стол свечи, пока девушка вносила еду и питье.
Монах уселся на скамью у самой двери и ничего не хотел на ужин, кроме холодной каши да воды. И не согласился, когда Лавранс предложил приготовить ему баню и велеть постирать одежду.
Брат Эдвин возился, почесывался, и все его худое старое лицо смеялось.
– Нет, нет, – говорил он, – насекомые кусают мою гордую плоть куда лучше, чем бичи и выговоры настоятеля! Все это лето я прожил под скалой в горах – мне разрешили уйти в пустыню, чтобы поститься и молиться; и вот я сидел там, воображая, что стал теперь совсем святым отшельником. А бедняки из Сетнадала приносили мне пищу и думали: вот уж перед ними действительно благочестивый и целомудренный монах. «Брат Эдвин, – говорили они, – если бы было побольше таких монахов, как ты, то мы бы куда скорее исправились, а то мы постоянно видим священников, епископов и монахов, которые грызутся и дерутся друг с другом, как поросята у корыта!» Я, правда, внушал им, что не по-христиански говорить такие слова, но мне нравилось слышать это, и я молился да пел вовсю, так что в горах прямо звенело. И теперь для меня очень полезно чувствовать, как вши грызутся и дерутся на моей собственной шкуре, и слышать, как добрые хозяйки, соблюдающие чистоту и порядок в своих горницах, кричат, что эта грязная монастырская свинья отлично может ночевать и на сеновале в летнее время. Сейчас я иду на север, в Нидарос, к празднику Святого Улава, и мне полезно видеть, как люди не очень-то спешат близко подходить ко мне…
Ульвхильд проснулась; Лавранс подошел к ней и поднял с кровати, завернув в свой плащ.
– Вот, дорогой отец, тот ребенок, о котором я рассказывал. Возложите на нее руки и помолитесь Богу о ней, как вы молились за того мальчика в Мельдале, который, как мы слышали, стал снова ходить…
Монах ласково взял Ульвхильд за подбородок и посмотрел ей в лицо. Потом поднял ее ручку и поцеловал.
– Лучше молитесь вы оба, и ты и жена твоя, Лавранс, сын Бьёргюльфа, чтобы вам не впасть в искушение и не пытаться перебороть волю Божию ради этого ребенка. Сам Господь наш Иисус Христос поставил эти маленькие ножки на стезю, по которой вернее всего можно будет дойти до обители мира, – я вижу по твоим глазам, блаженная Ульвхильд, что у тебя есть молельщики и предстатели в лучшем мире.
– Но я слышал, что мальчик в Мельдале выздоровел, – тихо сказал Лавранс.
– Он был единственный сын у бедной вдовы, и не было никого, кроме прихода, кто стал бы кормить и одевать его, когда матери не станет. И все-таки эта женщина молилась только о том, чтобы Бог даровал ей безбоязненное сердце, дал ей силу верить, что он устроит все так, как будет лучше для мальчика. А я только то и сделал, что повторял с нею эту молитву.
– Нелегко будет ее матери и мне успокоиться на этом, – глухо ответил Лавранс – Особенно потому, что девочка такая красивая и такая хорошая.
– Видел ли ты ребенка, который родился в Листаде, на юге долины? – спросил монах. – Или тебе хотелось бы, чтобы твоя дочка была такою?
Лавранс вздрогнул и прижал девочку к себе.
– Разве тебе не кажется, – снова заговорил брат Эдвин, – что все мы в глазах Бога – дети, над которыми он горюет, ибо мы искалечены грехом? И все же нам кажется, что на свете нам жить не так уж плохо!
Он подошел к изображению Девы Марии на стене, и все опустились на колени, пока он читал вечернюю молитву. Им казалось, что брат Эдвин принес утешение.
Но когда он вышел, чтобы найти себе место для ночлега, Астрид, старшая из служанок, тщательно подмела пол всюду, где стоял и сидел монах, и сейчас же бросила сор в огонь.
На следующее утро Кристин поднялась рано, положила молочной каши и пшеничных лепешек на красивое деревянное блюдо с выжженными украшениями – ей было известно, что монах никогда не прикасался к мясному, – и сама отнесла ему поесть. В доме почти никто еще не вставал.
Брат Эдвин стоял на мостках у хлева, уже совсем собравшись в путь, с котомкой на плечах и палкой в руках; он с улыбкой поблагодарил Кристин за беспокойство, уселся на траве и принялся за еду. Кристин же села у его ног.
Прибежала во всю прыть ее маленькая белая собачка; громко звенели колокольчики у нее на ошейнике. Кристин взяла ее на руки, а брат Эдвин стал щелкать перед носом собачки пальцами, бросал ей в пасть кусочки хлеба и очень расхваливал ее.
– Она из той породы, которую ввезла в Норвегию королева Эуфемия,[34] – сказал он. – У вас теперь в Йорюндгорде так все богато, и в большом и в малом…
Кристин покраснела от удовольствия. Она и сама знала, что у нее породистая собака, и гордилась ею; во всей округе ни у кого не было домашних собачек. Но она не знала, что ее собака той же породы, что у королевы.
– Симон, сын Андреса, прислал мне ее, – сказала она, прижимая к себе собачку, а та лизнула ее в лицо. – Ее зовут Кортелин.
Она думала было поговорить с монахом о своей тревоге и попросить у него совета. Но теперь ей не хотелось уже снова возвращаться к своим вчерашним вечерним мыслям. Ведь брат Эдвин был уверен, что Бог устроит все к лучшему для Ульвхильд. И как мило, что Симон послал ей такой подарок еще даже до того, как было объявлено их обручение! Об Арне ей не хотелось думать – она считала, что он вел себя неправильно по отношению к ней.
Брат Эдвин взял посох и попросил Кристин передать от него привет всем в доме – ему не дождаться, когда все встанут, потому что лучше всего идти по утреннему холодку. Кристин проводила монаха до церкви и даже прошла с ним немного по лесу.
Прощаясь с девушкой, монах пожелал ей мира Господня и благословил ее.
– Скажите мне слово, дорогой отец, как сказали Ульвхильд, – попросила его Кристин, держа руку монаха в своих.
Монах провел по мокрой траве босой ногой, скрюченной от подагры.
– Мне хотелось бы внушить тебе, дочь моя, чтобы ты обратила внимание на то, как Бог заботится о достоянии людском здесь, в долине. Тут выпадает мало дождя, но зато он дал вам ручьи, бегущие с гор, а роса освежает поля и луга каждую ночь. Возблагодари Бога за те его добрые дары, которые он дал тебе, и не ропщи, если тебе покажется, что у тебя не хватает чего иного, что, как тебе мнится, очень бы тебе подошло сверх того. У тебя прекрасные золотистые волосы – не огорчайся, что они не вьются! Разве ты не слыхала про старуху, которая сидела и плакалась, что у нее к празднику всего только один маленький кусочек свинины на семерых голодных детей? Как раз в это время мимо проезжал святой Улав; он простер руку над блюдом и попросил Бога насытить бедных воронят. Но когда старуха увидела, что на столе лежит целая заколотая свинья, то начала плакать о том, что у нее не хватает котелков да чашек…
Кристин побежала домой с Кортелином, увивавшимся у ее ног, с лаем хватавшим ее зубами за складки платья и звеневшим всеми своими серебряными колокольчиками.
VI
Арне проводил дома, в Финсбреккене, последние дни перед своим отъездом в Хамар; мать и сестры справляли ему одежду.
За день перед тем, как ехать на юг, он пришел в Йорюндгорд проститься. И ему удалось шепнуть Кристин, не выйдет ли она к нему навстречу завтра вечером на дорогу к югу от Лэугарбру.
– Мне бы хотелось побыть с тобой наедине последний раз, что мы встретимся, – сказал он. – Или тебе кажется, что я прошу слишком много, – ведь мы же росли вместе, как родные брат и сестра? – прибавил он, видя, что Кристин медлит с ответом.
Тогда она пообещала прийти, если только ей удастся ускользнуть из дома незаметно.
На следующее утро шел снег, а днем начался дождь, и скоро дороги и поля превратились в сплошную лужу серой грязи. Клочья тумана медленно ползли по горным склонам, спускались по временам вниз и свивались в белые клубы у подножия горы, но потом погода снова портилась.
Отец Эйрик зашел помочь Лаврансу составить кое-какие бумаги. Оба они прошли в старую горницу с очагом, так как в такую погоду там было уютнее, чем в большой комнате, где печь наполняла дымом все помещение. Мать была в Лэугарбру у Рамборг, поправлявшейся после горячки, которую она схватила ранней осенью.
Поэтому Кристин нетрудно было незаметно ускользнуть из дома, но она не решилась взять лошадь и пошла пешком. Дорога была месивом из грязи, снега и увядших листьев; земля грустно дышала сырым, затхлым и мертвым дыханием, а налетавший время от времени ветер обдавал лицо Кристин водяной пылью. Она плотно натянула капюшон на голову, обеими руками придерживая на себе плащ, и быстро шла вперед. Ей было немного страшно – рев реки раздавался так глухо в сыром, тяжелом воздухе, а черные разорванные тучи неслись по горным хребтам. Время от времени она останавливалась и прислушивалась, не идет ли Арне.
Вскоре она услышала шлепанье копыт по размякшей дороге; Кристин остановилась, так как место здесь было пустынное и она решила, что тут можно без помехи попрощаться. И почти сейчас же увидела позади себя всадника; Арне соскочил с лошади и шел, ведя ее под уздцы, навстречу Кристин.
– Как хорошо ты сделала, – сказал он, – что пришла, несмотря на такую ужасную погоду!
– Погода еще хуже для тебя – ты ведь должен ехать в такую даль; но почему ты выехал из дому так поздно? – спросила она.
– Йон попросил меня переночевать в Лоптсгорде, – ответил Арне. – Я думал, тебе легче будет прийти сюда вечером.
Некоторое время они молча стояли. Кристин показалось, что она ни разу до этих пор не замечала, как красив Арне. На голове у него был гладкий стальной шлем, надетый на коричневый шерстяной подшлемник, плотно обрамлявший его лицо и спускавшийся на плечи; худощавое лицо казалось под ним таким ясным и пригожим. Кожаный панцирь на Арне был стар, покрыт ржавыми пятнами и исцарапан кольчугой, которую надевали поверх него, – Арне получил его от отца, – но этот панцирь прекрасно сидел на стройном, гибком и крепком теле юноши; сбоку у него висел меч, в руке было копье, остальное оружие висело на седле. Он был совсем взрослым мужчиной и выглядел молодцом.
Она положила руку ему на плечо и молвила:
– Помнишь, Арне, как ты однажды спросил, не думается ли мне, что ты не хуже Симона, сына Андреса? И вот что я скажу тебе теперь, перед тем, как нам расстаться: ты, по-моему, настолько же выше его по красоте и обхождению, насколько он считается выше тебя по родовитости и богатству, по мнению людей, которые больше всего обращают внимание на такие вещи!
– Зачем ты говоришь мне это? – спросил Арне, затаив дыхание.
– Потому что брат Эдвин внушил мне, что мы должны благодарить Бога за его дары и не быть похожими на ту женщину, которая плакала, когда святой Улав приумножил ее пищу, что у нее не хватает посуды, – и поэтому ты не должен сердиться, что Бог не дал тебе столько же богатства, сколько телесной красоты…
– Так вот что ты хотела сказать! – произнес Арне. И так как она промолчала, то он молвил: – А мне показалось, ты хотела сказать, что охотнее пошла бы замуж за меня, чем за другого…
– Конечно, я охотнее пошла бы за тебя, – тихо сказала она, – ведь тебя я лучше знаю…
Арне обнял Кристин так крепко, что поднял ее от земли. Он много раз поцеловал ее в лицо, но потом снова опустил ее на землю.
– Боже мой, Кристин, какой ты еще ребенок!
Она стояла, опустив голову, не снимая рук с его плеч. Он схватил ее за руки чуть выше кисти и крепко сжал.
– Я вижу, моя ненаглядная, что ты не понимаешь, как сильно болит мое сердце оттого, что я теряю тебя! Кристин, ведь мы росли вместе, как два яблока на одной ветке, я полюбил тебя раньше, чем мог понять, что когда-нибудь явится другой и отнимет тебя у меня! Клянусь Богом, принявшим смерть за всех нас, – я не знаю, смогу ли я когда-нибудь быть счастливым и веселым после нынешнего дня.
Кристин горько плакала и подняла к Арне лицо, чтобы он мог поцеловать ее.
– Не говори так, Арне мой, – просила она, гладя его по плечу.
– Кристин, – сказал Арне тихим голосом и снова обнял ее. – Не думается ли тебе, что ты могла бы попросить отца, – Лавранс такой добрый человек, он не станет принуждать тебя против твоей воли, – попросить его подождать несколько лет; кто знает, как повернется для меня счастье, мы оба еще так молоды…
– Мне придется поступить так, как хотят мои родители, – плакала она.
Тут и Арне не мог удержаться от слез.
– Нет, ты не понимаешь, Кристин, как ты мне дорога! – Он спрятал лицо у нее на плече. – Если бы ты понимала и сама любила меня, то пошла бы к Лаврансу и стала просить и умолять его…
– Я не могу этого сделать, – всхлипывала девушка, – я никогда не смогу так сильно полюбить мужчину, чтобы пойти ради него против родителей. – Она нащупывала лицо Арне под его подшлемником и тяжелым стальным шлемом. – Не плачь же так, Арне, самый дорогой мой друг!
– Тогда уж возьми вот это! – сказал он спустя немного и дал ей маленькую застежку. – И думай иногда обо мне, потому что я никогда не забуду тебя и своего горя…
Было уже почти темно, когда Кристин и Арне сказали друг другу последнее прости. Она стояла и смотрела ему вслед, когда он наконец поехал. Желтоватый свет пробивался в прорыве между тучами, отражаясь в отпечатках ног ее и Арне там, где они ходили или стояли в дорожной грязи. Все кругом так холодно и печально, думала Кристин. Она вытащила из-под верхней одежды шейный платок, вытерла им заплаканное лицо, затем повернулась и пошла домой.
Она промокла и озябла и шла быстрым шагом. Через некоторое время она услыхала, что кто-то идет за нею по дороге. Ей стало немного страшно: могло случиться, что даже и в такой вечер, как нынче, кто-нибудь из чужих людей бродит на большой дороге, а девушке предстояла пустынная часть пути. По одну сторону дороги отвесно поднимался черный каменистый откос, а с другой стороны шел крутой обрыв, поросший сосновым лесом до самой свинцово-бледной реки на дне долины. Поэтому Кристин обрадовалась, когда шедший за нею окликнул ее по имени; она остановилась и стала ждать.
Путник оказался высоким и худощавым мужчиной в темной накидке со светлыми рукавами. Когда он приблизился, то Кристин увидала, что он был одет как священник и нес на спине пустой мешок. Тут она узнала Бентейна-поповича, как все его звали, внука отца Эйрика. Она сразу заметила, что он был очень пьян.
– Да, да, один уходит, а другой приходит, – сказал он со смехом, когда они поздоровались. – Я только что встретился с Арне из Бреккена, а ты, как вижу, идешь и плачешь! Ну, теперь ты можешь и улыбнуться, раз я вернулся домой, – ведь мы с тобой тоже были друзьями с самого детства, не так ли?
– Для поселка плохая замена получить тебя вместо него, – резко сказала Кристин. Она никогда не любила Бентейна. – И я боюсь, что многие согласятся с моим мнением. Твой дедушка был так рад, что тебе повезло в Осло.
– О да! – сказал Бентейн, грубо захохотав. – Так ты полагаешь, что мне повезло? Мне было там так хорошо, как свинье в пшеничном поле, Кристин; и конец был точь-в-точь такой же – меня погнали вон палками с криком и гиком! Да, да! Да, да! Мой дедушка немного видит радости от своего потомства. Однако как ты быстро идешь!
– Мне холодно, – коротко сказала Кристин.
– А мне, по-твоему, не холодно? – отвечал священник. – На мне из платья только и есть, что ты видишь, мне пришлось продать свой плащ, чтобы купить пива и поесть в Хамаре Малом. А ты, наверное, все еще пышешь жаром после прощания с Арне; я думаю, тебе придется пустить меня к себе под мех. – И он схватил край ее плаща, перебросил его через плечо и обнял стан Кристин своей мокрой рукой.
Кристин была настолько ошеломлена его дерзостью, что прошло целое мгновение, прежде чем она сообразила как следует; она хотела вырваться, но он крепко держался за ее плащ, а плащ был скреплен крепкой серебряной застежкой. Бентейн снова обнял ее, хотел поцеловать и приблизился ртом к ее подбородку. Она пыталась ударить его, но он обнимал ее, обхватив ей плечи.
– Ты что, с ума сошел? – прошипела она, отбиваясь от него. – Ты смеешь так прикасаться ко мне, как будто я какая-нибудь… Завтра ты в этом горько раскаешься, негодяй…
– А-а, завтра ты будешь умнее, – сказал Бентейн, подставляя ей ножку, так что Кристин едва не упала навзничь в дорожную грязь, и зажимая ей рот рукой.
И все же ей не приходило в голову кричать. Только сейчас поняла она, что он посмел захотеть от нее, но ярость охватила ее с такой дикой силой, что она почти не ощущала страха; она рычала, как зверь в драке, и боролась с мужчиной, а тот придавливал ее к земле так, что холодная как лед вода от талого снега пропитывала ее платье, проникая до пылающей огнем кожи.
– Назавтра у тебя хватит ума помолчать, – говорил Бентейн, – а если этого нельзя будет скрыть, то можешь свалить на Арне – скорее поверят!..
Один из его пальцев попал ей в рот, и она укусила его изо всех сил: Бентейн закричал и разжал руки. Кристин с быстротой молнии высвободила одну руку, схватила его за лицо и изо всей мочи нажала ему на глаз большим пальцем. Бентейн взревел и встал на колени. Она выскользнула, как кошка, толкнула священника так, что тот упал на спину, и кинулась бежать по дороге, разбрызгивая грязь при каждом прыжке.
Она бежала и бежала, не оглядываясь назад. Она слышала, что Бентейн бежит за нею, и мчалась так, что сердце стучало у нее как бешеное. Кристин бежала с тихими стонами, глядя прямо перед собой, – неужели ей никогда не добраться до Лэугарбру? Наконец она добежала до той части дороги, где та шла через распаханные поля; она уже видела кучку построек внизу на склоне холма – и вдруг почувствовала, что не посмеет бежать туда, где была ее мать, в том виде, в каком была сейчас, – вся с головы до ног в грязи и глине, в опавших листьях, в изорванном платье…
Она заметила, что Бентейн нагоняет ее, тогда она нагнулась и подняла два больших камня. Когда он подбежал ближе, она запустила в него камнями; один из них попал в Бентейна и опрокинул его. Тогда она снова побежала и остановилась только на мосту.
Она стояла, вся дрожа, держась за перила моста; в глазах у нее потемнело, и ей показалось, что она сейчас упадет без памяти; но тут вдруг вспомнила о Бентейне: а что, если он придет сюда и найдет ее? И она пошла дальше, содрогаясь от стыда и горечи, хотя ноги едва несли ее; и только теперь она почувствовала, как горит и болит ее исцарапанное ногтями лицо и как она ушибла себе спину и руки. Прорвались горячие, как огонь, слезы.
Ей хотелось, чтобы Бентейн был убит тем камнем, что она бросила, ей хотелось вернуться и прикончить его; она схватилась было за нож, но заметила, что, вероятно, потеряла его.
И тут она опять подумала, что не смеет показаться домой; тогда ей пришло в голову пойти в Румюндгорд. Она решила пожаловаться отцу Эйрику.
Но священник еще не возвращался из Йорюндгорда. В кухне она встретила Гюнхильд, мать Бентейна; женщина была одна, и Кристин рассказала, как ее сын обошелся с нею. Но не упомянула о том, что ходила встречать Арне. Гюнхильд подумала, что она была в Лэугарбру, и когда Кристин это поняла, то не стала разуверять ее.
Гюнхильд говорила мало, но очень плакала, замывая одежду Кристин и зашивая пока что самые большие прорехи. А молодая девушка была так взволнована, что не замечала, какие взгляды кидала на нее втихомолку Гюнхильд.
Но когда Кристин уходила, Гюнхильд захватила свой плащ и вышла за девушкой во двор, а потом пошла по направлению к конюшне. Кристин спросила ее, куда она собирается ехать.
– Полагаю, мне можно будет съездить и проведать сына, – ответила женщина. – Не убила ли ты его камнем или что с ним сталось…
Кристин решила, что ей нечего на это отвечать, и только сказала, что Гюнхильд должна позаботиться о том, чтобы Бентейн как можно скорее убирался из долины и не попадался ей на глаза.
– Иначе я расскажу обо всем этом Лаврансу, а ты понимаешь, что будет тогда.
Бентейн действительно через какую-нибудь неделю уехал на юг; отец Эйрик дал ему письмо к хамарскому епископу, прося того найти внуку какое-нибудь занятие или поддержать его.
VII
В один из дней Рождества в Йорюндгорд совершенно неожиданно приехал верхом Симон, сын Андреса. Он просил извинить его за приезд незваным и без родных, но отец его уехал в Швецию по поручению короля. Сам же он провел некоторое время дома, в Дюфрине, где остались только его младшие сестры и мать, лежавшая больной, но потом ему стало скучно и очень захотелось заглянуть в Йорюндгорд.
Рагнфрид и Лавранс очень благодарили его за то, что он пустился в такую дальнюю дорогу в самую суровую зимнюю пору. Чем чаще они виделись с Симоном, тем больше он им нравился. Он знал обо всем, что было говорено между Лаврансом и Андресом, и теперь было решено, что обручение его с Кристин будет отпраздновано до наступления поста, если Андрес сможет вернуться домой к этому времени, а то – сразу же после Пасхи.
Кристин держала себя тихо и робко со своим женихом; она не знала, о чем ей говорить с ним. Однажды вечером, когда все сидели и пили, Симон попросил ее выйти с ним подышать свежим воздухом. И когда они стояли на галерее перед дверью верхней горницы, он обнял Кристин за талию и поцеловал. Она не была рада этому, но и не противилась, так как знала, что обручения не избежать. Теперь она думала о своем замужестве только как о чем-то, что должно быть, а не как о том, чего ей самой хотелось бы. Впрочем, ей все же нравился Симон, особенно когда он разговаривал с другими, но не трогал ее и не говорил с ней.
Всю эту осень она чувствовала себя такой несчастной. Напрасно она твердила себе, что ведь Бентейну не удалось ничего ей сделать; она все равно чувствовала себя как бы опозоренной.
Ничто не могло быть, как раньше, с тех пор, как мужчина осмелился покуситься на нее. По целым ночам она лежала без сна, сгорая от стыда, и не могла не думать об этом. Она помнила, как прижималось к ней тело Бентейна, когда она дралась с ним, помнила его горячее, пахнувшее пивом дыхание, – она не могла не думать о том, что могло произойти, – и с дрожью всей плоти вспоминала, как Бентейн сказал: если это нельзя будет скрыть, то виновником будет считаться Арне. В ее воображении одна за другою проносились картины того, что произошло бы, если бы с ней действительно стряслось такое несчастье, а люди узнали бы о ее свидании с Арне, и если бы ее отец и мать подумали что-нибудь подобное об Арне, а сам Арне… Она видела его таким, каким он был в последний вечер, и чувствовала себя поверженной ниц перед ним, потому только, что могла увлечь его за собою в пучину горести и позора. И ее преследовали такие безобразные сны! Она слыхала в церкви и читала в Священной истории такие слова, как «плотское желание» и «томление плоти», но они не имели для нее никакого значения. Теперь же ей стало ясно, что у нее самой и у всех людей есть грешное тело из плоти и крови, которое опутывает душу и въедается в нее жесткими оковами.
Потом она начинала рисовать себе, как она убивает Бентейна или ослепляет его. Единственной ее отрадой было упиваться мечтами о мести этому отвратительному, темному человеку, который всегда стоял на ее пути, о чем бы она ни думала. Но этого ненадолго хватало; по ночам она лежала рядом с Ульвхильд, горько плача обо всем том, что навлекло на нее насилие. Бентейну все-таки удалось лишить невинности ее душу.
В первый будний день после Рождества все женщины в Йорюндгорде хлопотали в поварне. Рагнфрид и Кристин тоже пробыли там большую часть дня. Поздно вечером, когда некоторые из женщин были заняты уборкой после печения хлеба, а другие готовили ужин, в дверь опрометью вбежала скотница, крича и всплескивая руками.
– Господи, Господи, слыхано ли такое несчастье – Арне, сына Гюрда, везут мертвого домой на санях! Господи, смилуйся над Гюрдом и Ингой, какое ужасное для них горе!..
В кухню вошел человек, живший в маленькой избушке немного ниже по дороге, и с ним Халвдан. Они-то оба и видели, как везли мертвое тело.
Женщины столпились вокруг них. Позади круга стояла Кристин, вся белая и обмершая. Халвдан, ближний слуга Лавранса, знавший Арне с самого детства, рассказывал, рыдая.
Это Бентейн-попович убил Арне. Вечером под Новый год слуги епископа сидели и пили в мужской трапезной, и туда же пришел Бентейн; он работал писцом в церкви Тела Господня. Слуги сперва не хотели впускать его, но он напомнил Арне, что они земляки; тогда Арне посадил его рядом с собою, и они стали пить. Но потом между ними началась драка, и Арне так яростно напал на Бентейна, что тот схватил со стола нож и всадил его в горло Арне, а потом несколько раз ударил его в грудь. Арне умер почти сейчас же.
Епископ принял это несчастье очень близко к сердцу; он лично позаботился о том, чтобы тело обрядили, и велел, чтобы весь долгий путь домой труп везли собственные епископские слуги. А Бентейна приказал заковать в цепи, отлучил его от церкви, и если его еще не повесили, то скоро повесят.
Халвдану пришлось рассказывать об этом много раз, по мере того, как стекались все новые слушатели. Лавранс и Симон тоже пришли в поварню, заметив волнение и суматоху в доме. Лавранс очень взволновался; он велел оседлать лошадь, так как хотел сейчас же ехать в Бреккен. Когда он уже собирался уходить, взгляд его упал на бледное лицо Кристин.
– Может быть, ты хочешь поехать со мной? – спросил он.
Кристин помедлила немного; дрожь пробежала у нее по телу, но потом она кивнула головой – она была не в силах произнести ни слова.
– Не будет ли ей слишком холодно? – заметила Рагнфрид. – Ведь завтра будет заупокойная служба, и тогда мы все пойдем туда…
Лавранс взглянул на жену; он заметил и выражение лица Симона, затем подошел к Кристин и обнял ее за плечи:
– Не забудь, что они молочные брат и сестра; может быть, ей хочется помочь Инге обрядить тело!
И хотя сердце Кристин сжималось от отчаяния и страха, ее согрела благодарность к отцу за его слова.
Рагнфрид сказала тогда, чтобы они поели каши перед тем, как ехать, раз Кристин отправится с отцом. Она пожелала также послать с ними подарки Инге – новую полотняную простыню, восковых свечей и только что испеченный хлеб, – и поручила передать ей, что придет сама и поможет хлопотах по погребению.
За ужином мало ели, но много говорили. Напоминали друг другу об испытаниях, ниспосланных Богом Гюрду с Ингой. Усадьбу их разрушали то обвалы, то наводнения, многие из старших детей умерли, так что все сестры и братья Арне были еще детьми. За последнее время счастье как будто улыбнулось им, с тех пор как епископ назначил Гюрда своим управителем в Финсбреккене, и все оставшиеся в живых дети были красивы и подавали надежды. Но мать любила Арне много больше, чем всех остальных…
Все жалели также и отца Эйрика. Священник пользовался уважением и любовью, и население прихода гордилось им; он был ученым и искусным священником и за все годы своего служения церкви ни разу не пренебрег ни единым праздником, или мессой, или службой, которую обязан был отпеть. В молодости он был военным и служил под начальством графа Алфа из Турнберга, но имел несчастье убить какого-то очень родовитого человека и потому должен был искать прибежища у епископа в Осло; когда тот заметил его способности к книжной науке, он стал готовить его в священники. И не будь у отца Эйрика до сих пор врагов из-за этого давнего убийства, он, конечно, не сидел бы здесь при маленькой церквушке. Правда, он был очень жаден к деньгам, и для своей мошны, и для церковной, но зато теперь в церкви есть столько сосудов, и одеяний, и книг; а эти его дети – он никогда не видел от своего потомства ничего, кроме горя и забот. В сельских приходах считали несправедливым, что священники должны жить как монахи, раз им все равно нужна женская прислуга в усадьбах. И как им быть без женщины для присмотра за хозяйством? Ведь сколько им приходится совершать далеких и трудных разъездов по приходу, и притом во всякую погоду. Люди, кроме того, хорошо помнили то время, когда священники в Норвегии были женатыми людьми. Поэтому никто не считал особенным грехом, что отец Эйрик прижил троих детей с женщиной, присматривавшей за его хозяйством, когда он был еще молод. Но в этот вечер люди все-таки говорили, что, пожалуй, Бог хочет наказать отца Эйрика за нецеломудренную жизнь – так много горя видел он от своих детей и внуков! И кто-то заметил, что все же есть смысл в том, что священникам не разрешают заводить себе жен и детей, потому что теперь, наверное, возникнет неприязнь и вражда между священником и семьей из Финсбреккена, а раньше они были добрыми друзьями.
Симон, сын Андреса, отлично знал о поведении Бентейна в Осло и рассказал об этом. Бентейн поступил писцом к священнику церкви Святой Марии и, говорят, показал себя способным парнем. Он нравился также многим женщинам – глаза у него таковские, да и за словом в карман он не полезет. Иные считали его красивым мужчиной – все больше замужние женщины, которые думали, что им не повезло в мужьях, да и молодые девушки – из таких, что любят, если мужчины вольно обращаются с ними. Симон засмеялся: вы, конечно, понимаете? Ну так вот, Бентейн был настолько хитер, что не заходил слишком далеко с такого рода женщинами; с ними он довольствовался одними разговорами и поэтому заслужил славу целомудренного человека. Но дело в том, что король Хокон, господин благочестивый и нравственный, хотел приучить и своих людей к добродетельному и приличному поведению – во всяком случае, молодежь; с остальными, конечно, ему труднее справиться. И вот теперь так заведено, что придворный священник всегда осведомлен обо всех тайных проказах молодых людей – будь то кутеж, игра, или пьянство, или что другое в этом роде; бедокурам приходилось исповедоваться священнику в своих грехах, и нести потом наказание, и выслушивать строгие выговоры – да, двое-трое самых отчаянных парней были даже выгнаны вон. Но тут вышло наконец наружу, что среди них был этот лис – Бентейн-секретарь: он посещал тайным образом все пивные и еще более скверные дома; выслушивал исповедь девок и давал им отпущение…
Кристин сидела рядом с матерью; она пробовала есть, чтобы никто не заметил ее состояния, но руки у нее так дрожали, что она расплескивала толоконную кашу каждый раз, как набирала ее в ложку, а язык во рту казался таким толстым и сухим, что она не могла проглотить ни одного кусочка хлеба. Но когда Симон начал говорить о Бентейне, ей пришлось перестать притворяться, будто она ест, и схватиться обеими руками за скамейку, на которой она сидела, – такой ужас и отвращение овладели ею, что она почувствовала головокружение и тошноту. И вот он-то хотел… Бентейн и Арне, Бентейн и Арне… Больная от нетерпения, ждала она, когда кончится ужин. Она страстно хотела увидеть Арне, прекрасное лицо Арне, упасть на колени около его тела, предаться горю и забыть обо всем на свете.
Помогая Кристин одеваться, мать поцеловала ее в щеку. Кристин уже так отвыкла от материнской ласки, что ей стало от нее легче; на мгновение она положила голову на плечо Рагнфрид, но не могла плакать.
Выйдя во двор, она увидела, что еще несколько человек собирались ехать с ними – Халвдан, Йон из Лэугарбру, Симон и его слуга. И мысль, что двое чужих тоже поедут с ними, причинила ей невероятную боль.
В этот вечер стоял жестокий мороз, так что снег громко скрипел под ногами; частые звезды искрились, как иней, на черном небе. Проехав немного, они услыхали дикие крики, вой и бешеный топот копыт, несшиеся с лугов к югу от них, – несколько дальше по дороге их нагнала буйная ватага всадников и прорвалась вперед мимо них, оглушая звоном металла; запах дымящихся, заиндевелых лошадиных тел ударил в лицо, хотя им и пришлось съехать в сторону, в глубокий снег. Халвдан окрикнул дикую толпу – это была молодежь со дворов южной части прихода; они все еще праздновали Рождество и выехали испытать лошадей. Некоторые из них, чересчур пьяные, чтобы понять что-либо, промчались с шумом и гамом мимо, барабаня по своим щитам. Но двое-трое расслышали те вести, что Халвдан прокричал им вслед; они отстали от других, затихли и присоединились к спутникам Лавранса, шепотом разговаривая со всадниками, ехавшими позади всех.
Наконец они увидели перед собою усадьбу Финсбреккен, лежавшую на холме по ту сторону речки Силь. Между постройками светилось что-то – посреди двора в снежные сугробы были воткнуты смоляные факелы, и отблеск пламени играл красным светом на белом склоне, а темные дома казались измазанными запекшейся кровью. Одна из маленьких сестер Арне стояла на дворе, прыгая с ноги на ногу и скрестив руки под плащом. Кристин поцеловала заплаканного, иззябшего ребенка. На сердце у нее лежал тяжелый камень, и ей казалось, что ноги налиты свинцом, когда она поднималась по лестнице на чердак стабюра, где было положено тело.
Звуки пения и блеск множества зажженных свечей встретили их в дверях. Посреди горницы, покрытый простыней, стоял гроб, в котором Арне привезли домой; доски были положены на козлы, и гроб поставлен на них. В головах стоял молодой священник с книгою в руках и пел; кругом были коленопреклоненные люди, прятавшие лица в складках толстых плащей.
Лавранс зажег свою свечу об одну из горевших у гроба, прилепил ее на доску помоста и опустился на колени. Кристин хотела сделать то же самое, но никак не могла поставить свечу; тогда Симон взял свечу и помог ей. Пока священник читал, все стояли на коленях и шепотом повторяли за ним слова молитв, так что пар клубом шел у всех изо рта – на чердаке был ледяной холод.
Когда священник закрыл книгу и все поднялись с колен – в горнице, где лежал покойник, собралось уже довольно много народу, – Лавранс подошел к Инге. Она уставилась на Кристин и, казалось, не слышала того, что говорил ей Лавранс; в руках у нее были переданные им подарки, но она держала их, как будто не сознавая, что держит.
– Так и ты тоже пришла, Кристин? – сказала она странным, сдавленным голосом. – Может быть, тебе очень хочется взглянуть на моего сына, каким он вернулся ко мне?
Она отставила в сторону две-три свечи, схватила Кристин за локоть дрожащей рукой, а другою сорвала покров с лица покойника.
Оно было желтовато-серым, как глина, а губы свинцового цвета; они немного разошлись, так что видны были ровные, мелкие, белые, как кипень, зубы, и как будто насмешливо улыбались. Из-под длинных ресниц чуть виднелись остекленелые глаза, а на щеках у висков выступали черные синяки – не то следы от ушиба, не то трупные пятна.
– Может, хочешь поцеловать его? – спросила Инга тем же голосом, и Кристин послушно нагнулась и прижалась губами к щеке мертвеца. Щека была влажной, словно от росы, и Кристин показалось, что она чувствует слабый запах тления; и впрямь, он начал оттаивать от жара стольких свечей.
Кристин продолжала лежать на коленях, опираясь руками о доску гроба, и не в силах была подняться. Инга еще дальше отвернула покров, так что стала видна большая ножевая рана под ключицей. Потом она повернулась к собравшимся и сказала дрожащим голосом:
– Люди лгут, вижу я, когда говорят, будто раны у мертвеца открываются, если его коснется тот, кто был причиной его смерти. Он теперь холоднее, мой мальчик, и не так красив, как в тот последний раз, когда ты выходила к нему навстречу на дорогу. Я вижу, тебе теперь не нравится целовать его, но я слышала, что тогда ты не брезговала его поцелуями!..
– Инга, – сказал Лавранс, подходя к ней, – ты с ума сошла – или ты бредишь!..
– Да, вы все стали такими важными у себя в Йорюндгорде… Ты слишком богатый человек, Лавранс, сын Бьёргюльфа, чтобы сын мой посмел подумать о честном сватовстве к твоей дочери… Да и она-то сама, Кристин, наверное, сочла, что он недостаточно хорош для этого. Но он был достаточно хорош, чтобы ей бегать за ним ночью по большим дорогам и играть с ним в кустах в тот вечер, когда он уезжал… Спроси у нее, увидим тогда, посмеет ли она отпереться здесь, когда Арне лежит мертвый – и тому виной она и ее распущенность…
Лавранс не стал спрашивать; он повернулся к Гюрду:
– Уйми свою жену – она сама себя не помнит!
Но Кристин подняла свое бледное лицо и с отчаянием окинула всех взором:
– Я вышла навстречу к Арне в последний вечер, потому что он просил меня о том. Но не было между нами ничего непозволительного. – И вдруг, словно собравшись с духом и сразу поняв все, она громко закричала: – Я не знаю, что ты хочешь сказать, Инга, неужели ты клевещешь на Арне, когда он лежит тут перед нами? Он никогда не искушал меня и не соблазнял!..
Но Инга громко рассмеялась:
– Не Арне, нет! Но Бентейн-попович – он не позволил тебе так играть с собою! Спроси-ка у Гюнхильд, Лавранс, которая смывала грязь со спины твоей дочери, спроси у любого из тех, кто сидел под Новый год в людской у епископа, когда Бентейн насмехался над Арне, что тот дал ей уйти и остался с носом, одураченный ею! А потом она позволила Бентейну идти с собой под одним плащом и хотела поиграть с ним в ту же игру…
Лавранс схватил ее за плечо и зажал ей рот рукою.
– Выведи ее вон, Гюрд! Стыдно тебе говорить так у тела этого доброго и хорошего юноши, но если бы даже все твои дети лежали тут мертвыми, все равно я не стал бы слушать, как ты клевещешь на мое дитя; а ты, Гюрд, ответишь мне за слова этой сумасшедшей женщины.





