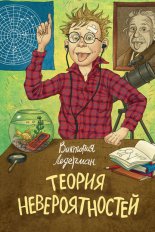Порою блажь великая Кизи Кен

С проводов, висящих над водой, на его тень пикирует зимородок. Что это за существа такие? Где эта земля?
В одном месте причал окатило водой, поднятой взрывом. От образовавшейся лужи собачьи лапы выткали на дощатом ковре свой крапчатый узор поверх более крупных следов Хэнка.
– Если б не пятка, – вслух констатирует Ли, разглядывая отпечатки на настиле, – всю стаю можно было бы отнести к одному биологическому виду. – Его голос прозвучал строго и странно, но вовсе без издевки, как он хотел.
Дальше он подмечает еще один тип следов: неясные, призрачные контуры, высохшие до почти полного исчезновения. Наверное, следы той женщины, жены Хэнка. Ли наклоняется, вглядывается повнимательней. Он оказался прав: «Дикая Орхидея» братца Хэнка гуляет босиком, как и было предсказано. Но, отследив ее путь до мостка, ведущего к дому, он четче видит, как миниатюрна и узка ее стопа, как высок подъем, как точен и легок шаг – будто эти следы и вовсе не оттиснуты клише ног, но нарисованы мимолетными мазками кисти китайского каллиграфа. Да, она действительно босонога, но, как понял Ли, касательно ее роста и веса он, пожалуй, ошибся.
Взобравшись по мостку, он остановился и окинул взглядом дом с прилегающей землей. Подле печи, выложенной из речного песчаника, громоздится внушительная пирамида дров, блистающих в лучах заката, подобно слиткам благородных металлов. Из круглой колоды торчит колун, своею ручкой указующий на старый рыжий сарай. Одна стена сарая увита пожелтевшей, пожухшей, но все еще настырной лозой. А на сдвижной фасадной двери, огромной и покосившейся на своих роликах, растянуты для просушки шкуры енота, лисы и мускусной крысы. Кто изловил этих зверушек и освежевал их? В нашем-то мире, в наши-то дни? Кто решил поиграть в бледнолицего брата Дэниэла Буна в лесах, загаженных радиоактивными осадками? А рядом на стене, броская в своем одиночестве, больше похожая на уродливое и несоразмерное окно, – темная и массивная медвежья шкура. И что это за племя такое, так в себе замкнувшееся, что лишь бредом во сне отвечает безумию ночи?
Он так и вглядывался в темный омут медвежьей шкуры, будто в черноту ночного окна, силясь прозреть нечто за ним, когда Хэнк вошел в дом…
(Когда я вошел в кухню, папаша уже уплетал ужин за обе щеки. Я сказал ему, что Малыш вернулся домой, а он уставился на меня с открытой жирной пастью, из которой торчало ребро поросенка, будто клык у секача.
– Какой такой малыш? – Его голос рокочет вокруг этой кости. – Какой малыш и к кому домой вернулся?
– Твой сын вернулся в наш дом, – растолковал я ему. – Лиланд Стэнфорд, взрослый, как эта жизнь. Но ты, я так погляжу, и на секунду рандеву с тарелкой прервать не желаешь, да? – Я говорю спокойно, просто сообщаю новость – а то ж Генри и на ровном месте в бутылку полезет. Поворачиваюсь к Джо Бену. – Где Вив, Джоби?
– Думаю, марафет наводит наверху. Они там с Джен…
– Постойте-ка! О чем это ты болтал сейчас, какой такой малыш?
– Да твой, черт побери. Лиланд.
– Да брось заливать! – Он думает, что его разыгрывают. – Никто никуда не вернулся!
– Как знаешь… – Я пожимаю плечами и делаю вид, будто собираюсь сесть за стол. – Мое дело сказать…
– Что? – Он злобно тычет вилкой в стол. – Что за хрень тут творится за моей спиной, хотелось бы знать? Чесслово, я не потерплю…
– Генри, вынь кость изо рта и послушай меня. Если ты хоть на минуту прекратишь напихивать рот, возможно, мне удастся впихнуть тебе хоть что-нибудь в уши. Твой сын Лиланд вернулся домой…
– Где он? Я хочу видеть этого засранца! – Генри взвился.
– Полегче давай, черт возьми. Об этом я тебе и толкую. Поэтому уймись хоть на минуту! А то, не ровен час, сграбастаешь его в рот и зажуешь до смерти, покуда не поймешь, что он – не свиная отбивная. Мне это было бы нежелательно. А теперь слушай. Он уже практически здесь. Но прежде чем он войдет, надо кое-что решить без обиняков. Сядь! – Я положил ему руку на плечо, усадил обратно и сам оседлал стул. – И ради бога, вынь ты эту костяку изо рта! И слушай сюда.)
Ли поворачивает голову, механически. На задворках в земле рьяно роются свиньи, похожие на гигантских переростков личинки медведки. Чуть дальше – сад плюгавых яблонь, предлагающих солнцу свои сморщенные плоды. А за всем этим – неоглядная зеленая завесь леса, сотканная из папоротников, ежевики, сосен и елей, ниспадающая от самых облаков до земли. Декорации – сошли бы разве лишь для какой-нибудь «Девушки с Золотого Запада»[23]. И что за публика до сих пор смотрит такое старье? И что за актеры по-прежнему играют в таких пьесах?
Эта зеленая занавесь когда-то была одной из границ детского мира Ли. Стальная река – другой границей. Две параллельные стены. Мать Ли всеми силами пыталась привить ему то же понимание незыблемости этих оград, каким обладала сама. Он ни в коем случае не должен, твердила она, заходить в этот лес на холмах, а главное – обязан держаться подальше от берега этой реки. Для него эти холмы и эта река – как стены, понятно? Да, мам. Точно? Да. Точно-точно? Да. Холмы и река – это стены. Тогда – ладно. Беги играй… но будь осторожен.
Но как быть с остальными стенами? С восточной и западной, которые бы дополнили южную стену леса и северную – реки, завершив строительство узилища? Как быть с верховьями реки, мама, где так много склизких мшистых камней, идеально подходящих для переломов тонких детских косточек? А с низовьями, где каждый угол ржавых внутренностей заброшенной лесопилки грозит заражением крови и где бродят стада вепрей-людоедов… как с этим-то быть?
Но нет: только лес и река. В ее тюрьме было лишь две стены. А его – еще в двух нуждалась. Она была приговорена к пожизненному заключению меж двух параллельных линий. Или не совсем параллельных. Ведь однажды они пересеклись.
Но кто наколол дров, развел свиней и вырастил эти яблони на этой несуразной земле? И какой оптический обман позволяет видеть редкие звездочки триллиумов, рассыпанные меж серо-серебристых елей, но не замечать скопищ бледных поганок, растущих там же? Как можно любоваться розовым дымчатым солнцем, озаряющим серую водную гладь, но не видеть луж крови на сером асфальте… и бирку, что по-прежнему на пальце ее ноги?
«Посмотри на закат – фига с два!»
(А самое хреновое, что, когда я наконец-таки уломал старого пердуна вытащить кость из пасти и усадил его за стол перед собой, и вот он сидел, изгвазданный в подливке по самые брови, ждал, что я выложу, чего у меня на уме, я вдруг понял: да не могу я выложить, что у меня на уме.
– Послушай, – сказал я, – это просто… что ж… черт, Генри! Ну, во-первых, он как бы проделал долгий и нелегкий путь. Он сказал, что добирался на автобусе всю дорогу. Немудрено, что он аж весь зеленый с устатку… – Не могу сказать, потому как боюсь, что старик распалится и пойдет задавать вопросы, про которые я думаю…)
Обернувшись, Ли наблюдает кончину солнца, тонущего в зловонной трясине, и безмолвный вопль светила леденит плоть. Содрогнувшись, он продолжает путь ко входной двери, ступает внутрь. Видно, тот, кто обновил наружность старого дома, сем и ограничился. Внутри вид еще неряшливее и непригляднее, чем помнил Ли: ружья, вестерны в мягкой обложке, пивные банки, пепельницы, переполненные апельсиновой кожурой и конфетными фантиками; грязные ломаные запчасти, выздоравливающие на кофейных столиках… Бутылки из-под колы, молочные бутылки, винные бутылки – они расположились в комнате так равномерно, будто кто-то специально упорядочивал этот бардак. «Северо-западный стиль дизайна интерьера, – заключил Ли, стараясь улыбаться. – Ярко выраженная хлам-тематика. Представляю критику: „На мой взгляд, эта сторона слишком доминирует над остальным ландшафтом. Следовало бы инсталлировать здесь бутылки поплотнее…“»
Кто инсталлировал весь этот мусор?
Изменилось не так уж много: разве лишь за десяток лет грязные башмаки еще резче обозначили темную тропинку, ползущую по полу (все еще не доделанному) от входной двери в глубину, где по-прежнему сушатся-тушатся линялые желтые носки, развешенные на проволоке над огромной чугунной печью, что по-прежнему пускает дым из по-прежнему не замазанного шва в трубе.
Массивная дверь захлопнулась под собственной тяжестью. Мусор истаял в полумраке. Ли оказался один на один с неприветливой комнатой цвета золы. Только он – и старый очаг, стенающий и пыхтящий, будто робот, страдающий одышкой, таращил свой пылающий стеклянный глаз. След Хэнка, влажно поблескивавший на полу, обрывался у закрытой двери в кухню, откуда до Ли доносились приглушенные возгласы, явно имеющие касательство к его приезду. Он не мог разобрать слов, но знал, что скоро родичи навалятся на него во всем сиянии света, покамест скромно сочившегося в комнату из щели между косяком и дверью. Он молил их повременить, дать ему хоть немного времени, чтоб освоиться с обстановкой. Он застыл на месте. БЕРЕГИСЬ. Наверное, они не слышали, как он вошел. Если он будет стоять недвижно – возможно, они так и не почуют его присутствия. БУДЬ НАЧЕКУ…
Стараясь почти не дышать, он принялся осторожно озираться, силясь разобрать хоть что-нибудь в этом сумраке. Три окошка, забранные самодельными витражами из разных стекол, создавали весьма угрюмую кровавую иллюминацию. Иные из стеклышек были покрашены. Но и чистые были так стары и такого скверного качества, что свет, пропускаемый ими, сгодился бы разве лишь для придонных океанических глубин. Это вялое освещение скорее мешало глазам, нежели помогало.
По всей комнате подвижными пластами слоился радужный дым. Если б не очаг, что-либо разглядеть было бы практически невозможно; языки пламени, пляшущие за кварцевым экраном, пришпиливали корчащиеся предметы по местам.
Это же как нужно отстать от жизни, чтоб до сих пор пользоваться подобным готическим антуражем? И что за тусовка неупокоенных громыхателей цепями питает этот удумчивый камин и дышит этими пастельными дымами?
Ли не хватает света, но он не рискует на цыпочках подойти к лампе. Приходится довольствоваться тем огнем, что бьется в печурке и подмигивает круглым стеклянным глазом. Сполохи резво скачут по комнате, по очереди заигрывая с предметами интерьера… пышно разодетая французская королевская чета, исполняющая свой керамический менуэт во дворце хрустального шара; охотничий нож с роговой рукоятью, норовящий освежевать стену, избавить от обоев; целый батальон литературы сокращенного состава от «Ридерз дайджест» плотным строем марширует по угловой полке; за ними крадется во тьме подушка для булавок; дышат тени; табуретки прядут своими длинными ногами паутину теней… но где же истинные аборигены?
(– Послушай. – Я выглядываю во двор из кухонного окна. – Думаю, он уже тут, в зале, – шепчу я на ухо старику. – Он уже вошел в дом и сейчас там стоит, мнется.
– Один-одинешенек? – Генри в ответ тоже шепчет, даже не осознавая этого, вроде того как культурный человек машинально понижает голос в библиотеке или в борделе. – А чего это с ним?
– Да нормально с ним все. Говорю же: просто малость смурной.
– Так чего б ему не зайти сюда да не заморить червячка, коли он уже здесь и коли с ним все нормально? Клянусь, я вообще не понимаю, какого хрена…
– Т-ш-ш, Генри! – шипит Джо Бен. Все его детишки смирно сидят при своих тарелочках, и глаза у каждого – в цельный доллар, как у Джен. – Хэнк хочет сказать, что парня просто дорога притомила малость.
– Это я уже понял. Говорили уже.
– Да тихо же!
– Да чего ты на меня шикаешь? Мы что, от него таимся, что ли? Он же мой сын, черт побери. И поэтому я хочу знать, какого хрена…
– Пап, – говорю, – все, о чем я прошу, – дай ему хоть минутку, прежде чем ворвешься туда и набросишься со всякими своими расспросами.
– С какими такими еще расспросами?
– Господи, ну сам знаешь.
– Блин, это мне нравится! О чем, по-твоему, я должен его пытать? О его маме? О том, кто ее столкнул, или что там? Господи, ну не полный же я чурбан, что б вы там, сучьи выродки, про меня ни думали… Прошу прощения, Джен, за мой французский, но, сдается мне, эти два сукина сына думают…
– Ладно, Генри, ладно…
– Я хочу сказать: какого хрена? Разве он – не мой сын, плоть от плоти, яблоко от яблони и все такое? Может, на вид я сейчас как из гипса – но внутри-то я пока не окаменел!
– Да все в порядке, Генри. Я просто не хотел…
– Так если в порядке… – Он встает рывком. Я вижу, что говорить с ним без толку. Покачнувшись, он хватается здоровой рукой за скользкий пластик нашего нового обеденного стола. Стол, что говорить, коварный: ножки не прямые, как положено, а пижонски отогнуты наружу, так и норовят подсечку поставить. Я подаюсь вперед, готовый подхватить старика. Но тот поднимает руку, грозит пальцем. Стоит, весь из себя сбалансированный, форма ого-го, ситуация под контролем, без дураков, обводит нас долгим-долгим взглядом, потом треплет по волосам малыша Джона, немного струхнувшего от всего этого, и говорит: – Итак. Если все в порядке… надеюсь, мне будет дозволено выйти туда и поприветствовать своего сына? Не хочу быть неправильно понят, но, думаю, на это я еще сгожусь. – Элегантно, как башенный кран, разворачивается на гипсовой ноге. – Мне кажется, хоть с этим-то я справлюсь…)
Печь гудит и ворчит, спесиво надулась на своих кривых ножках. Ли стоит перед нею, в задумчивости поднеся палец к уголку рта, изучает коллекцию безделушек, собранную за годы: атласные подушки с выставки в Сан-Франциско; свидетельство в рамке, объявляющее Генри Стэмпера соучредителем Общества Могучих Мартышек округа Ваконда; колчан стрел и лук торчат в доске; поздравительные открытки, прибитые к доске; веточка омелы, затаившаяся под потолком; пластмассовая утка, выпучившая глаза на плюшевого мишку, развалившегося в самой бесстыдной позе; фотографии рыб, гордо болтающихся на леске у бедра своих добытчиков; фотографии медведей, которых обнюхивают собаки; фотографии кузенов, племянников и племянниц, все – с указанием дат. Кто нащелкал эти снимки, надписал даты и собрал эту варварскую коллекцию стеклянных бус?
(Я выхожу и оглядываюсь. Старик медлит в дверях, перед лестницей залы:
– Жаль, слух у меня неважный… – Перегибается через перила, вглядывается. – Эй, парень? – кричит он. – Где ты там во мраке?
Я протягиваю руку, нащупываю выключатель. Вот и Ли: стоит у бати прямо по курсу, ладошкой рот прикрыл, и вид у него такой, будто не знает, то ли ринуться в объятья, то ли смыться от греха подальше.
– Лиланд! Мальчик мой! – вопит батя и вприпрыжку, бряцая гипсом, бросается на Ли. – Ах ты, сукин сын! Что ты там бормочешь? Ась? Боже всемогущий, Хэнк, ты только погляди, какой здоровущий-то! Что твоя каланча вымахал! Еще б чуток мяска на эти кости – и мы сделаем из него человека! Иди же сюда, Лиланд!
Отвечать парню затруднительно: старик ревет ему прямо в ухо. Генри еще больше сконфузил беднягу, выбросив для пожатия левую лапу. Когда же Ли уразумел и тоже протянул свою левую, Генри вдруг передумал ручкаться, а вместо этого принялся тискать Ли за плечи, будто оценивая приобретение для плантаций. Тут уж Ли совсем потерялся, какую еще руку подать. Глядя на них, я не смог удержаться от смеха.
– Кожа да кости, Хэнк, кожа да кости. Ну ничего – мы-то уж нарастим мясца на этот каркас. Лиланд, чтоб тебя, как ты?)
И это он? Рука, вцепившаяся в бицепс Ли, была тверда, как дерево.
– Да так, помаленьку.
Ли неловко пожал плечами и опустил лицо, избегая смотреть на устрашающе бодрого папашу. По мере того как старик говорил, его рука, точно древесный корень, ползла все ниже, напористо и неумолимо, пока не стиснула пальцы Ли, высекая искорки боли, взметнувшиеся до самого плеча. Ли хотел было возмутиться, вскинул глаза – но осознал, что старик по-прежнему громко говорит с ним тем же непререкаемым и властным голосом. Ли удалось обратить гримасу в подобие застенчивой улыбки: отец, продлевая пожатие своей длани, отнюдь не желает причинить боль. Наверное, это просто традиция такая – при встрече крушить фаланги и суставы. В каждом братстве свои приветственные ритуалы – чем Могучие Мартышки Ваконды хуже других? Наверное, у них в ходу и суровые обряды посвящения, и беспредельные оргии. Так почему б не быть особому приветствию Могучих Мартышек? И он меня породил?
И только-только он погрузился в изучение этих вопросов, как Генри умолк, предоставляя слово сыну.
– Да так как-то… – Как бишь я звал-то его в детстве? Он вглядывается в эти некогда зеленые глаза, ныне выцветшие добела везде, кроме зрачков. Папа?.. Невообразимый рельеф лица, изборожденный ливневыми оврагами орегонских зим, иссушенный береговыми ветрами. – Не сказать чтоб шикарно… – а старик все дергает его руку, будто сигнальный трос, – но худо-бедно выкручивался… – Или батя?
И снова его щеки опаляет взмахом огненных крыльев, а все предметы в комнате трепещут, словно картинки на кружевной занавеске, терзаемой ветром…
– Ну и славно! – Эта новость приносит старику огромное облегчение. – Худо-бедно выкручиваться – это почти все, на что можно надеяться при этих нынешних пиявках, «кровососиалистах». Ладно. Садись давай. Хэнк сказал, дорога длинная была?
– Достаточно, чтоб малость утомиться. – Папа?.. Батя?.. Это твой отец – уверял чей-то недоуменный голос. – Достаточно, – добавил он, – чтоб прийти к заключению: в ногах правды нет, но нет ее и выше.
Генри засмеялся:
– Понимаю! Дело-то молодое, а? – И он разухабисто подмигнул Ли, а несчастную руку так и не выпустил. Тут в поле зрения нарисовался Джо в сопровождении супруги с детьми. – Ага! Явились не запылились! Вот и Джо Бен. Ты помнишь Джо Бена, Лиланд? Сына твоего дяди Бена? Только он, видишь ли… Хотя… Его ведь вроде порезали еще до того, как ты с ма…
– Малыш! – Джо ринулся вперед, на выручку многострадальной кисти Ли. – Конечно! Ли еще застал, когда мне личико разукрасили. Кажется, даже… нет… минутку… я вот не помню… мы с Джен поженились в пятьдесят первом… А ты когда отбыл? В сорок девятом? Пятидесятом?
– Около того. Я уже и счет потерял…
– Значит, ты свалил аккурат перед нашей женитьбой. Так ты ж, выходит, женушку-то мою и не видел! Джен, иди сюда! Это Ли. Приобрел новый загар, но в остальном все такой же. А это Джен. Правда, она милашка, Лиланд?
Джо поспешно посторонился, и Джен нерешительно вынырнула из сумрака, стыдливо вытирая руки о фартук. Она мялась отрешенно на заднем плане, а весь передний был оккупирован ее маленьким, но шустрым мужем, представлявшим ее и детей.
– Оч приятно… – промямлила она, когда Джо умолк, а затем снова истаяла в проеме холла, подобно робкой нимфе в ночи.
– Она малешко чурается незнакомых, – объяснил Джо Бен так гордо, будто перечислял достоинства титулованной левретки. – А вот мои исчадия не стесняются, а? – И он экскаваторно когтит близняшек за ребра, вызывая корчи и умилительные гримасы. – Эй, Хэнкус, а где твоя скво, коль уж мы решили показать Лиланду все свои сокровища?
– А пес ее знает. – Хэнк озирается. – Вивиан! Я не видал ее с тех пор, как в дом вернулся. Может, заприметила Лиланда – да и поспешила спастись бегством?
– Она наверху, джинсы снимает, – подсказала Джен и тотчас добавила: – В смысле, в платье переодевается, в платье. Мы с ней на люди собираемся, послушаем, что там этот новый дядька в церкви расскажет.
– Вив старается быть, что называется, «просвещенной дамой», Малой, – извинился Хэнк. – У баб оно порой случается – зуд этот общественный. Ну, хоть чем-то себя занять.
– Если мы сейчас же не сядем за стол, то кто-то ляжет на! – Старик решительно припечатал к полу свою гипсовую конечность. – Пора уж начать навешивать мясо на кости этого дохляка! – И он загромыхал к кухне.
– Ты как, не прочь перекусить, Малой?
– А? Ну, я даже не знаю…
– Все сюда! – воззвал Генри с кухни. – Главное – парня сюда тащите, прямо к столу. – (Ли в некотором оцепенении уставился туда, откуда исторгался этот голос.) – Эй, вы, отродье! Шевелите копытами! Джо, отлепи свой выводок от пола, а то они по уши в землю уйдут!
Дети со смехом бросились врассыпную. Ли стоял, щурясь на яркий свет, ударивший с кухни через распахнутую дверь:
– Хэнк, мне кажется, я бы лучше…
Тут он услышал, как гипсовый стук возвращается.
– Лиланд! Ты ведь любишь свиные отбивные, верно? Джен, сообразишь для парня тарелку?
– Я бы лучше… – Кто этот старый голем из гипса и дерева, в исполнении Лона Чейни?[24] Это мой отец?
– Сюда! А пиджак повесь сюда… Брысь отсюда, мелюзга!
– Лучше поберегись, Малой. Даже не думай оказаться между ним и обеденным столом.
– Хэнк… – БЕРЕГИСЬ! – Я бы…
– Садись, садись, парень! – Генри схватил его за запястье и втащил в ярко освещенную кухню. – У нас тут есть что порубать – это тебя взбодрит! – Древесные корни. – Вот, пара-тройка отбивных, картошечка рассыпчатая…
– Может, горошку? – спрашивает Джен.
– Спасибо, Джен, я…
– Да куда ж без этого! – Генри с грохотом огибает стул, направляясь к плите. – Ты ведь ничего не имеешь против горохового пюре, сынок?
– Нет, но я бы лучше…
– А как насчет грушевого компота?
– Может… в другой раз. В смысле, я сейчас с ног валюсь после дороги. Мне бы соснуть пару часиков…
– Вот ведь черт! – Генри громыхает обратно. Нависает над Ли, пышет жаром, перенятым от плиты. – Мальчик, наверное, подыхает от усталости! И как мы не подумали? Конечно. Тарелку – в комнату! – Он зачерпывает горсть печенюшек из вазы в виде Санта-Клауса и вываливает их на тарелку Ли. – Вот так, вот так-то!
– Мам, а нам можно немножко печенья?
– Да погодите вы!
– Ах да! – Внезапно Джо Бен вскакивает с места… в кухне – не протолкнуться… и начинает что-то говорить… и почему все стоят?.. но давится бисквитом, что был у него во рту. Принимается прочищать горло коротким, быстрым кашлем, тянет шею, будто петух, изготавливающийся к кукареканью. – И! И!
– Ну, ма-а-ам!
– Не сейчас, радость моя.
– Ты уверен, Малой? Может, перекусишь сперва? – Хэнк рассеянно похлопывает по спине сипящего, посеревшего лицом Джо Бена. – Там холодновато наверху, для ужина…
– Да я так устал, что кусок в горло не лезет, Хэнк.
Джо Бен наконец избавился от бисквита и квакает придушенным голосом:
– Его багаж. Где его сумки? Я хотел их принести.
– Сиди, сам схожу! – говорит Хэнк, направляясь к задней двери.
– А вот фрукты…
Джен достает из холодильника два морщинистых яблока.
– Погоди, Хэнк…
– Да бог с тобой, Джен. Разве ты не видишь, что мальчику и стоять-то тяжко! Ему нужен отдых, а не эти два твоих ублюдочных заморыша! Чесслово, Лиланд, не понимаю, как можно жрать такую дрянь? Но, скажу я тебе, – дверца холодильника снова распахивается, – вот я тут груш припас, свежих, вчера собраны…
– Что такое, Малой?
– Да не было у меня никакого багажа, не помнишь? Не в лодке, по крайней мере.
– А и верно. Я еще на переправе озадачился.
– Водитель автобуса не счел возможным…
Голова Генри снова появляется из холодильника.
– Ага! Вот, попробуй! Здоровущие-то какие! – Груша получает прописку по соседству с печеньями. – Самое то, что надо, после дальней-то дороги. Меня-то с пути всегда крепит – и тут с грушей ничто ни в какое сравнение не пойдет!
Все – БЕРЕГИСЬ! – встают.
– Слушай! – Джо Бен прищелкивает пальцами. – А место-то для него есть?
Боже. Все продолжают суетиться…
– Ах да. – Старик Генри с силой захлопывает дверцу холодильника. – Верно! – Он наполовину внедряется в дверной проем, вытягивает шею, словно высматривая там портье. – Верно. Ему нужна комната, так?
Пожалуйста! Все просто…
– Да я уж все подготовил для него, пап.
– Мам, ну, ма-ам!
– Я привезу его сумки! – Джо Бен устремляется к выходу, впереди всех.
– Он сказал, они на автобусной станции.
– Не забудь свою тарелку, Ли!
– Думаешь, жрачки тебе хватит, парень? Джен, дай ему стакан молока.
– Да не надо. Правда. Пожалуйста. – Пожалуйста!
– Пошли, Малой. – Хэнк…
– А если еще что понадобится – только крикни нам!
– Да я…
– Да не парься, Малой…
– Да я…
– Не парься. Прямо наверх – и все.
Ли не чувствовал руки Хэнка, направлявшей его в странствии через холл: ее прикосновение растворялось в общей дрожи… Я – такой же? Они – свои? Эти люди? Эти психи?
(– После покалякаем, – кричит батя. – У нас еще будет уйма времени для трепа.
Парень заикается о чем-то в ответ, но я говорю ему:
– Наверх, Малой! А то он тебя до смерти заболтает!
И я, не мешкая, подталкиваю его к лестнице. Он поднимается по ступенькам передо мной, бредет, будто контуженый или что-то вроде того. Когда же мы взбираемся на второй этаж, указывать ему путь не приходится. Он останавливается аккурат перед своей старой комнатой. Ждет, пока я вожусь с замком, и заходит. Такое впечатление, будто он ее сам по телефону забронировал, – такой он уверенный.
– А ведь ты мог ошибиться, знаешь ли, – скалюсь я. – Ну как я другую какую комнату имел в виду?
Он оглядывает комнатушку, где все по люксу – свежие занавески, чистые полотенца, готовая постель, – и мне в ответ:
– Ты тоже мог ошибиться, Хэнк, – говорит он тихо, оценивая, как я прибрал его старую каморку. – Я ведь мог и не приехать. – Но он-то не улыбается. Для него это не смешно.
– Ой, знаешь, как Джо Бен своим ребятишкам говорит: лучше соломки подстелить и не упасть, чем фунт зеленки извести!
– Хорошая мысль, чтоб отойти с нею ко сну, – говорит он. – Ладно, увидимся завтра.
– Завтра? Ты что, всю жизнь продрыхнуть надумал? Еще ж только шесть, а то и половина.
– В смысле, позже. Увидимся позже.
– Ладно, Малой. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи! – говорит он, закрывает за мной дверь – и я почти что слышу, как этот бедолага вздыхает.)
Секунду Ли стоял в целительной тишине своего пристанища, потом быстро подошел к кровати, поставил тарелку и стакан молока на тумбу в изголовье. Сел на постель, руками обхватил колени. Сквозь пелену усталости смутно различил затихающие шаги на лестнице. То были шаги мифического тролля-людоеда, отправившегося поохотиться на беспечных пастухов.
– Чур меня, чур меня! – прошептал Ли, потом сбросил кеды и закинул ноги на кровать. Опустил затылок на скрещенные руки и принялся изучать древесные узоры на потолке, постепенно знакомясь с ними заново. – Это похоже на детскую сказку для психоаналитиков. С новым поворотом. Мы видим героя в логове людоеда, но что привело его туда? Каков его мотив? Явился ль он туда, отважно сжимая в руке карающий меч правосудия, поклявшись истребить великанов, столь долго разорявших окрестности? Или же он решил принести себя в жертву этим извергам? Милое дополнение к классическому «Мальчику-с-пальчик». Элемент психологического детектива. Кто победит – Мальчик? Или Великан? А чья правда – и в чем? – Эти люди… это место… как разрубить мне этот узел? О господи, как?
Уже погружаясь в дрему, он будто бы услышал чье-то пение в соседней комнате, словно в ответ на его вопрос… сладкоголосые… звонкие… сочные трели дивной волшебной птицы:
- Будет утром угощенье, и варенье, и печенье,
- И лошадки всех цветов…
Во сне лицо его блаженно расплывается, черты смягчились. И песня прохладным ручьем орошает его иссушенный рассудок.
- В серых яблоках каурки и буланки-сивки-бурки,
- Все лошадки всех цветов!
Песня расходится кругами, отдается эхом. За окном на телефонных проводах переругиваются зимородки. В городе, в «Коряге», граждане вновь задаются вопросом, что стряслось с Флойдом Ивенрайтом. В своей хибаре на плесе Индианка Дженни пишет письмо издателям «Классических комиксов». Интересуется, не думают ли они выпустить тибетскую Книгу мертвых с картинками? В горах над Южной Вилкой старый драный алкаш подходит к краю обрыва и посылает над пропастью свой крик – просто чтоб услышать в ответ человеческий голос. Мозгляк Стоукс встает из-за стола после ужина с намерением доковылять до своей лавки и пересчитать консервы. Хэнк, оставив Ли в его комнате, направляется было к лестнице, но, заслышав пение Вив, возвращается, деликатно барабанит пальцами в ее дверь:
– Ты готова, дорогуша? Ты ведь туда к семи собиралась?
Дверь открывается, Вив выходит, на ходу застегивая белый плащ:
– Чей это голос я сейчас слышала?
– Это Малыш, дорогуша. Это он. Приехал-таки. Что скажешь на это?
– Твой брат? Поздороваться бы с ним надо… – Она устремляется к комнате Ли, но Хэнк придерживает ее за локоть.
– Не сейчас, – шепчет он. – Он, по-моему, вкрай уморился. Лучше пока оставить его в покое. – Они прошли к лестнице, спускаются. – Увидишь его, когда вернешься из города. Или завтра. А сейчас и так опоздала маленько… Что так подзадержалась-то, кстати?
– О Хэнк… Не знаю даже. Просто не знаю, стоит ли мне туда идти…
– Ну, при таком раскладе, наверное, нет. Тебя туда как бы никто силком не гонит.
– Но Элизабет меня особо пригласила…
– Тоже цаца! Элизабет Прингл, дочь старого сморчка Прингла…
– Она… Все они так нешуточно разобиделись на меня в первую встречу. Ну, когда я отказалась играть с ними в слова. Другие дамы тоже не играли – так никто и внимания не обратил. Но я-то что такого досадного сказала?
– Ты сказала «нет». А для некоторых это всегда досадно.
– Догадываюсь… Вообще-то, признаться, я в самом деле не лезла из кожи вон, чтоб поразить их дружелюбием.
– А они? Они хоть раз тебя тут навестили? Я тебя предупреждал перед женитьбой, что не стоит рассчитывать на победу в конкурсе популярности. Дорогая, ты – жена признанного головореза. Само собой, у них некоторое предубеждение против тебя.
– Да не в этом дело. Не только в этом… – Она замолчала на секунду, глядя в зеркало, что висело у лестницы внизу. – Порой кажется, будто они пытаются меня виноватой сделать. Будто завидуют, или что-то вроде…
Хэнк отпустил ее руку, идет к двери.
– Нет, милая, – говорит он, изучая текстуру дверного косяка. – Просто ты слишком добрая душа. Потому тебя и клюют. – Он улыбается, что-то припоминая. – Да уж. Но видела б ты Майру, маму Ли. Вот у кого поучиться разносу этого курятника!
– Но, Хэнк, я бы хотела дружить с ними… с некоторыми по крайней мере.
– Чесслово, – вспоминает он с нежностью, – она-то уж умела им укорот дать, овцам этим. Ладно, потопали!
Вив спускается за ним по ступенькам крыльца, решив на этот раз быть не такой доброй душой и пытаясь вспомнить: неужто и дома, в Колорадо, заведение подруг требовало таких усилий? Всего несколько лет назад… «Неужто я так изменилась за эти-то годы?»
На севере, на шоссе, ведущем в Портленд, Флойд Ивенрайт возится на обочине, меняет колесо. Двух месяцев не отъездил скат – и на тебе: лопнул, черт-их-всех-побери! Всякий раз, когда баллонник соскакивает в темноте, сдирая очередной лоскуток кожи с костяшек, Флойд хватается за предательски ослабший живот и вновь перебирает внушительные четки из эпитетов, которыми успел наградить Хэнка Стэмпера с момента фиаско в его доме: «херососущий, жополизучий, дерьмоедствующий» – в удивительно методичной, ритмичной, псалмовой манере, все более тяготеющей к благоговейной.
А Джонатан Дрэгер, в мотеле в Юджине, пробегает пальцем по списку лиц, с которыми надо повидаться, всего насчитывает двенадцать, двенадцать встреч, перед тем как он продолжит свой путь в Ваконду, чтоб поговорить с этим… – он сверяется со списком – с этим Хэнком Стэмпером, которого следует вразумить, и… тринадцать встреч, несчастливое число… и потом уж можно всласть помечтать о возвращении домой. Ох уж эта доля бродяжья! Закрывает свой блокнот, зевает, ищет тюбик десенекса.
А Хэнк, переправив Вив и усадив ее в джип, возвращается и слышит оклик Джо Бена с крыльца:
– Скорей выручай меня! Старику уховертка под гипс заползла – так он уж за молоток взялся!
– Не худшая из моих тревог, – бормочет Хэнк с усмешкой, торопливо швартуя моторку.
А в Ваконде на Главной улице, в светлой конторе, доставшейся новому владельцу после того, как прежний отказался выкупать закладную, Главный по Недвижимости мистер Хотвайр вырезает на коленях очередную фигурку из белой сосны и томится черными думами. Особенная головная боль – ваяние голов, ибо, если над головами фигурок не морочиться, лица все, как одно, выходят этакими карикатурами на некоего генерала, впоследствии президента[25]. В войну Хотвайр служил в Европе, заведовал кухней и приобрел кое-какую репутацию бравого добытчика провианта. Там он и повстречался с этим человеком, сделавшимся кошмаром последующих двадцати лет его жизни. Как-то раз этот самый генерал, со всей своей свитой из адъютантов, заместителей и задоподтирателей, закатился в их лагерь с инспекцией. Генерал изъявил желание оттрапезничать по-солдатски с личным составом и, к великой своей радости, открыл для себя кулинарные и снабженческие таланты одного отдельно взятого бравого добытчика провианта одной отдельно взятой столовой. В полдень генерал и его свора гуськом вошли в эту столовую. Генерал высоко оценил аромат стряпни бравого добытчика, поставил в пример санитарное состояние кухни, но несколькими минутами позже вдруг пожаловался на некий чужеродный предмет в своей тарелке с супом из бычьих хвостов. Предмет оказался германским офицерским перстнем, который Хотвайр купил у одного пехотинца, с тем чтоб отправить домой отцу. Увидев это, Хотвайр окаменел. Он не то что не посмел предъявить права на безделушку, но божился, что никогда раньше в глаза-то ее не видел, и с пылом бросился уверять, хотя никто и не выражал сомнений на сей счет, что хрящик, приправленный злосчастным перстнем, – это хрящ именно бычьего хвоста. По выражению генеральского лица он понял, что допустил ошибку, но слово уже вылетело. И всю оставшуюся войну он был снедаем липким страхом перед топором (который так и не упал), а к демобилизации выродился в жалкую запуганную личность. В чем же дело? Он был так уверен в неминуемой репрессалии… И он не понимал, что удерживало на весу ужасный топор все эти годы, до того момента, как генерал составил зловещий, мстительный план по выдвижению себя в президенты и со всем коварством его осуществил. Теперь-то, теперь-то возмездие грянет! И грянуло. Экономический спад. Его ресторанный бизнес, бутон, только-только набравший сок, зачах, так и не распустившись. В глубине души он знал, что эта финансовая засуха, насланная на всю невиновную нацию, в действительности преследовала лишь одну-единственную цель: погубить, подточить пивные корни его раздаточных кранов. И бог бы с ним, с его бизнесом, но целый народ! Ему-то за что такие страдания? Он поневоле чувствовал, что есть и его доля вины в национальной драме. Если бы не он, этого бы никогда не случилось. И какие еще напасти уготовило грядущее?
Еще худшие. В эти восемь лет тирании генерала он выжил лишь милостью Божьей да рукоделием супруги. И только сейчас научился раскрывать утреннюю газету без боязни прочитать там объявление его врагом народа, подлежащим расстрелу на месте. Только сейчас он узрел хоть какой-то свет в конце тоннеля… а тут – этот гнусный удар в спину, эта чертова забастовка. Забастовка? Не есть ли и она дело рук этого старого?.. Нет. Не может быть, решает он. Это кто-то еще строит против него козни, кто-то новый, вот и все. Он уныло скребет резаком деревянную фигурку, с ожесточением скрежещет зубами, вонзенными в глотку старых воспоминаний… Этот сукин сын мог бы хоть колечко вернуть!
А за городом, под серебряным лезвием луны, размеренно шевелится лесистая гряда, будто штабель бревен под безжалостным, безмолвным и сияющим диском пилорамы. За зданием фермерской ассоциации дикий плющ ищет опору цепкими слепыми пальцами. Мирно гниют доски построек консервного завода. Соленый ветер с океана выдувает жизнь из поршней, шестеренок, проводов, трансмиссии… Из дверей «Коряги» появляется маленькая, пухленькая, будто плюшевая пышечка, семенит по тротуару Главной улицы мелкими, сердитыми шажками. Вечерний туман капельками повисает на ее ресницах, уличные огни индевеют в ее черных кудрях. В бешенстве она проходит мимо знакомцев, не глядя по сторонам. Ее округлые, сдобные плечики передернуты негодованием. Ее ротик – суровая клякса малинового варенья. Она хранит эту гримасу разъяренной нравственности, пока не скрывается от Главной улицы за углом Шейхелем-стрит. Там она останавливается у своего легкового «студебеккера» и дает наконец выход гневу:
– У-у-у! – С протяжным вздохом и звуком, напоминающим кремовый шлепок торта о физиономию, она оседает на блестящее росинками крыло машины…
Ее зовут Симона, она француженка. В сорок пятом вышла замуж за десантника и перебралась в Орегон, будто сойдя со страниц Мопассана. Она не видела супруга с тех пор, как он семь лет назад десантировался из ее жизни, на прощанье не крикнув даже «ура!», оставив заложенную машину, стиральную машину с непогашенным кредитом и пятерых детей, за которых до сих пор не рассчитались с роддомом. Немного опечаленная мужской ненадежностью, она все же сумела удержаться на поверхности благодаря природной плавучести и аппетитности своего округлого тела, которое без предрассудков укладывала под одно одеяло с тем или иным лесорубом-меценатом. Не корысти ради, конечно, – она была благочестивой католичкой и убежденной аматеркой, – но исключительно по любви, и только по любви; однако не отказываться же от добровольных пожертвований богу любви, в пределах разумного? И столь обворожительна была эта сладкая пышка горькой судьбы, и столь сознательны были ее благодетели, что через семь лет стиральная машина была оплачена вчистую, автомобиль оплачен почти, а дети избавлены от необходимости каждый божий месяц объяснять бухгалтерии роддома, почему не могут родиться обратно. И почему-то, несмотря на все ее успехи, никому из городских обывателей, даже не из числа ее клиентуры, не приходило в голову счесть подобный ее промысел хоть немного предосудительным. Вопреки расхожим слухам, маленькие городки не столь уж подвержены мании первыми бросать камень. Вдруг хорошего человека покалечишь? В маленьких городках здравый смысл зачастую перевешивает соображения нравственности. Женщины Ваконды говорили:
– Симона – лапушка каких поискать, и плевать, что иностранка. – Потому что в борделях Куз-Бея брали по десять долларов за раз, по двадцать пять за ночь.
А мужчины отзывались так:
– Симона – хорошая, чистая девочка. – Потому что Куз-Бей славился самым чесоточным и шанкровитым мужским населением во всем штате.
– Может, она и не святая, – признавали женщины, – но уж точно не Индианка Дженни!
Так и жила Симона, во грехе, да не в обиде. Когда же раздавались голоса осуждения, мужчины и женщины единой стеной вставали на ее защиту.
– Она чудесная мать! – говорили женщины.
– Она попала в неслабую передрягу, – говорили мужчины, – и лично я всегда готов посодействовать ей в беде.
И содействовали – истово и регулярно. Движимые одною лишь филантропией. Официально же она добывала средства к существованию, работая кухаркой по вызову. Что ж, это ни для кого не было секретом. И в дневное время этой пухленькой маленькой женщине и в голову не приходило задумываться о том, что знали все.
Она пила пиво с Хови Эвансом, бригадиром из «Тихоокеанского леса», носившим на цепочке собственный позвонок, удаленный в больнице после неудачного падения. То ли отсутствие этого позвонка в положенном месте, то ли его тяжесть на шее – но что-то крючило его осанку так, что она повергала в ужас жену, внушала отвращение теще и вызывала прилив материнской жалости в Симоне. Они светски общались весь вечер, толкаясь коленками под столом, а когда было выпито положенное количество пива, она заметила, что уже поздно. Хови помог ей надеть пальто, мимоходом обронив, что надо бы заглянуть в логово к братцу и узнать, не поможет ли тот достойно закруглить вечер. Симона знала, что брат Хови отбывал от одного до восьми лет в Вакавилле за подделку чеков; она ждала развития мысли, счастливо улыбаясь, представляя, как попробует изгладить из тела несчастного Хови его сутулость в логове его брата, но в отсутствие оного. Она смотрела на него неотрывно, облизывая губы, но едва суть стала всплывать на поверхность – «И я вот подумал, Симона… то есть, если у тебя нет каких-то особых планов…» – он вдруг запнулся.
Хови попятился.
– Знаешь, Симона, – сказал он после секундной паузы, хихикая и потрясая головой, в которой забрезжило некое недоумение. – Знаешь, я хотел у тебя спросить, как бы тебе глянулась идея… – Он снова запнулся. – Уф! Ладно. Черт. Ты подумай. Я ж никогда раньше таких фантазиев себе не помышлевывал…
Она нахмурилась, а он, дробно потрясая озадаченной головой, хихикал над чем-то таким, о чем прежде «не помышлевывал». Пожал плечами и протянул вперед обе свои лапы, вверх ладонями, дубленными тяжким трудом, словно демонстрируя, до чего они пусты. Он продолжал нервно хихикать и мотать головой:
– Я на мели, Симона, цыпочка… вот в чем дело-то. Без гроша. Эта хренова забастовка. А за дом – плати, за все – плати… А я уже столько без работы торчу… Ясный пень, у меня самого-одного просто денег нет на это.
– Денег? Каких денег? На что денег?
– На тебя, цыпочка. На тебя нету у меня денег.
Она мигом взорвалась упругой, скандальной яростью. И, декорировав его щеку красным оттиском своей пятерни, выскочила из бара, грохнув дверью. Нет, она-то уж точно не Индианка Дженни! И столь горяч был ее гнев, вызванный намеками Хови, что две кварты пива – сущая капля, вообще говоря, – неистово забурлили, вскипая внутри ее, и, когда она добралась до машины, потребовали выхода наружу.
Обессиленная рвотой – согбенная, опираясь пухлой детской ладошкой о машину, что через месяц будет ее полноправной собственностью, Симона вдруг осознала с ясностью пронзительной и нестерпимой, как откровение Хови только что, – осознала истину, столь долго отрицаемую.