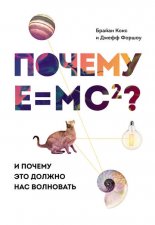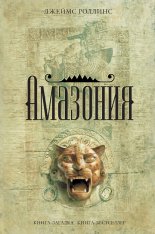Жизнь волшебника Гордеев Александр

– Люба, так ты выходи за меня, а?
Снова смеются. Снова с жаром и шутливо Роман поддерживает друга, а потом, когда Витька
повторяет это и в третий раз, перестаёт смеяться.
– Давай-ка выйдем, – предлагает он.
Выходят в гремящий железом тамбур.
– Тебе ещё не надоело? – спрашивает Роман. – Что ты, как попугай, заладил одно и то же? Нас
приняли по-людски, а ты?
– А почему мне должно надоесть, если я всерьёз? – обиженно удивляется Витька.
– Всерьёз!?
– Ну конечно. А что? – у Витьки такой вид, словно жениться для него – это всё равно, что чаю
попить. И вообще, он теперь уже какой-то другой. Ещё убегая знакомиться в купе, был
взъерошенным и нагловатым, а теперь – серьёзный и вроде огорошенный чем-то. Таким его
видеть ещё не приходилось.
– Слушай, Справедливый, – сжав для убедительности кулак, говорит он, – да ты смотри,
деваха-то какая! Такая уж вряд ли ещё встретится.
Оказывается, за два года службы Роман совершенно не узнал Витьку. Впереди у него родной
город, масса девушек, а он стоп – и всё! И совета ни у кого не спрашивает, и о судьбе, о
счастливых или несчастливых случайностях не рассуждает. И так при этом уверен, что, пожалуй,
не может быть не прав. И как его за это не уважать?
Они возвращаются в купе.
– Люба, а ведь Витька-то всерьёз, – сообщает Роман, вдруг погрустневший оттого, что и сам
теперь смотрит на Любу совсем иначе.
Люба смеётся. Они с Наташей наслушались тут и не такого. А эти, вроде, и вовсе сговорились,
чтобы врать поскладней.
Романа её неверие вдруг обижает по-настоящему. Кому же ещё верить, если не им, надёжным
ребятам, прошедшим серьёзную пограничную службу? Он начинает доказывать всю
основательность Витькиных намерений, клянётся всем, чем только можно. Витька же при этом
внезапном сватовстве и вовсе падает на колени, считая это каким-то предельным аргументом.
– Стрелочки на брюках не сломай, – отмахнувшись, смеётся Люба.
Она поворачивается к Наташе и говорит о каких-то своих делах, о каком-то беспокойном
подвыпившем монголе. Витьке надоедает стоять на коленях, и он уныло садится на корточки у
дверей под титаном. За окном уже белеет: куда и ночь делась? Витька смотрит на часы.
– Послушай, Люба, – говорит он, поднимаясь и втискиваясь в купе, но договорить не успевает.
Вагон вдруг сильно дёргает, у шкафчика распахивается дверца, и Витька натыкается головой на
её угол. Наташа прыскает от смеха, Люба сочувственно морщится. Витька стоит, держась одной
рукой за стенку, другой – за ушибленное место, на глаза выскакивают слёзы.
– Мне остаётся всего один час, – продолжает он, только теперь уже надтреснутым от боли
голосом, – а ты всё не веришь. Выйдем, поговорим наедине.
– Ну что ж, выйдем, – подумав, соглашается Люба. – Больно, да?
5
Они выходят.
– Надо же, как получается… – говорит Роман, чтобы хоть как-то прокомментировать события.
Наташа молчит. Грустно и задумчиво глядя в окно, думает о своём. Роману становится неловко
от этого молчания.
– А что, Наташа, – говорит он, – ведь поезд-то ваш международный… Неужели на нём, и
вправду, иностранцы ездят?
– Их и сейчас в поезде полно, – нехотя, словно отмахиваясь, отвечает Наташа, – только в
других вагонах. Ну, китайцы – это само собой. Бывают и немцы, и итальянцы. И даже американцы.
– Ух ты! И даже американца? Вот сволочи!
– Почему «сволочи»?
– Ну, так чего им тут ездить-то?
Наташа снова молчит. Совершенно лишний, Роман, вздохнув, идёт в своё купе. Люди там спят –
пассажиры, видимо, дальние: на столике лежат потрёпанные, усталые карты. Присев около кого-
то, спящего внизу, он тоже смотрит в окно сквозь отпотевшее стекло и лёгкий утренний туман. В
вагоне сумрачно, тепло и чуть душно от спящих. Роман на мгновение забывается в дрёме, а,
очнувшись, видит в этом тумане белые высокие дома: в каком красивом городе живёт Витёк! Он и
называется-то как: Златоуст! Роман даже волнуется за Витьку: всё, один из них уже дома. Витьке
пора бы уж и собираться. Работают тормоза, упругими толчками подергивая вагон, над самым
окном прочерком пролетает хриплый голос промоченного дождями и промороженного
станционного динамика. И тут, наконец, возникает явление сияющего Витька.
– Всё, договорились! – восклицает он веером такого восторженного шипящего шёпота, что
пассажир, у ног которого сидит Роман, вскидывает голову и, увидев традиционно неугомонных
солдат-дембелей, переворачивается на другой бок каким-то резким брыком. – Когда она поедет
назад, я сниму её с поезда.
– Да как же ты уговорил-то, а?
– А просто взял вот так за плечи, посмотрел в глаза и сказал: «Люба, верь мне, я не вру». Ну,
как тут не поверишь? Это твой или мой дипломат? Ну, про детали уже некогда, да и к чему они
тебе?
А вот то, что он так легко откалывается – это даже обидно. Да что поделаешь – теперь у
каждого дорожка своя.
Когда они с Витькой выходят на влажный, со следами только что поработавшей метлы перрон,
Люба с флажком в руке стоит у выхода. Ей привычно провожать пассажиров – людей, с которыми
уж наверняка никогда не встретишься, но сегодня один из пассажиров особенный. Его и
пассажиром-то теперь не назвать… Витька пожимает ей руку, робко прикасается к локтю, и видно,
что больше волнуется не от воздуха родины, а от этого расставания. Эх, только бы не обманул он
её! У него ведь будет сейчас много встреч, новых знакомств… И этот дорожный эпизод может
просто задёрнуться вот таким же туманцем. А Люба будет надеяться… Роман ловит себя на том,
что мучительно завидует Витьке. Во всяком случае, не хочется чувствовать себя таким оторванным
от них, ведь всю ночь провели вместе, ведь, казалось, и решили-то всё сообща.
– Видишь, Витька, как всё повернулось, – говорит он, пытаясь восстановить свою
сопричастность, – а мы ещё хотели этот поезд пропустить…
– Ага, точно, – подхватывает тот, обращаясь к Любе, – не хотели за купе доплачивать. Денег не
хватало. Я думал, хоть в тамбуре поеду, зато уж на такси по всему городу всё равно прокачусь. Я
это два года во сне видел. А, да теперь всё это ерунда…
– Эх ты, уж скопить не мог, – мягко, как уже своего, упрекает Люба, вынимая из кармана куртки
пятёрку. – Этого хватит?
Витька на мгновение смущается, но тут же заливается уже другим, более глубоким светом.
– Вполне, – так же по-свойски отвечает он, берёт голубоватую бумажку и суёт её в карман
кителя.
И теперь почему-то становится совсем очевидно – нет, Витька не обманет. Роман подаёт руку
своему армейскому другу, крепко поддёргивает его к себе за прокалённую пустыней шею.
– Ладно, Муму, пока!
– Будь здоров, Справедливый! Оставайся всегда таким! Ты и в этот раз мне помог.
Не дожидаясь отправки, Роман поднимается в вагон.
Ехать ему ещё долго. Днём в вагоне дежурит Наташа, а Люба отдыхает. Даже после ночи без
сна он не может толком уснуть: выхватывает сон рваными кусками. Будто не спит, а преодолевает
громадное поле вагонной полки мелкими бросками и перебежками. В основном же лежит,
воображая не свою, а Витькину теперь такую ясную, определённую жизнь. И прежде всего в этой
Витькиной жизни видит Любу. Только что-то уж чересчур ясно он её видит. Да не просто видит, а
самой душой откликается на все её черты: чуть смугловатое лицо, длинные, повседневно просто,
но очень женственно уложенные волосы (наверное, тяжёлые и очень мягкие), плавную седловинку
на слегка вздёрнутом носике, благодаря которой, если Люба улыбается, то весёлость её
выражается не только губами, но и этим красивым носиком и ласковыми серыми глазами.
6
Вспоминает её глубокий грудной голос, будто греющий саму душу, её ловкие плавные движения.
Помнит её уши и крохотные серёжки, которые уже не какое-то девчоночье баловство, а добавляют
ей ещё больше женственности. Вспоминая же лёгкий пушок на её шее, Роман чувствует, что у него
клинит дыхание. Ему уже не терпится увидеть её снова, чтобы проверить, действительно ли в ней
всё так прекрасно, как помнится. Но что это с ним? К тем девчонкам на станции его тоже влекло,
да только как-то грубо и определённо. Здесь же всё иначе. Той тёмной грубой тяги в нём уже нет.
Всё улеглось, успокоилось. И не нужно гадать отчего – конечно же, от чистого, озаряющего
излучения Любы.
Как же он сам-то не сразу разглядел её? А мог бы и вовсе не разглядеть, не выкинь Витька этот
фокус. А он, дурак, ещё и поддакивать начал. А надо было, не отставая от него, взять да и сказать:
«А может, лучше за меня выйдешь? Выбирай». И тогда они с Витькой были бы на равных…
Конечно, можно и сейчас пойти и сделать Любе это предложение, но без Витьки оно уже
недопустимо. Теперь он от Витьки безнадёжно отстал. У друга уже всё определено, а у него
продолжается, как и намечалось, дорога в своё село. Каким незначительным кажется ему на какое-
то мгновение это возвращение.
Хотя дома его, кажется, ждёт сюрприз. Мать уже несколько раз упоминала в письмах о какой-то
Свете Овчинниковой. Только вот фантазии о предстоящем знакомстве со Светой, волнующие ещё
вчера, сейчас кажутся совершенно тусклыми.
Вечером Роман снова сидит в купе проводников. Скорый поезд останавливается редко, все
пассажиры уже спят. Отдыхает в купе за стенкой и набегавшаяся за день Наташа, а они с Любой
пьют чай из стаканов тонкого стекла.
Люба сегодня уже не та. Романа она слушает как будто больше из приличия. Теперь она словно
не вся здесь, а если изредка улыбается ему, то какая-то часть улыбки отсылается человеку,
который уже в её душе. Конечно же, теперь ей хочется как можно больше знать о Витьке. Роман с
грустью понимает, что теперь он для неё не более, чем источник сведений о другом.
На столике рядом с заварником лежит тоненькая книжка Брежнева «Целина» с нарисованными
на обложке комбайном и жёлтыми колосьями пшеницы.
– Ты что, читаешь это? – спрашивает Роман.
– У нас перед поездкой лекция была, – поясняет Люба, – а после неё лектор купить предложил.
Я взяла, чтобы в дороге полистать. Об этом сейчас так много говорят.
– Ну и как тебе?
– А знаешь, многие ведь посмеиваются над этой книжкой. А я почитала – мне интересно. А сам-
то ты читал?
– Мы изучали её на политзанятиях – в погранвойсках с этим строго. Многие, правда,
отлынивали, но мне тоже показалось, что неплохо, хотя, например, нашему совхозу до этих
описанных достижений как до Китая пешком.
Теперь, без Витьки, вспоминать о службе вроде бы нет смысла, и когда о нём выложено,
кажется, уже всё, Роман невольно рассказывает о себе, о том, как он представляет свою
дальнейшую жизнь.
В последний год службы отец писал чаще, рассказывая о совхозных делах и как-то между
строчками призывая сына вернуться домой, а не мотануть, как некоторые, куда-нибудь на стройку.
Романа это даже задевало, потому что все его планы и без всяких призывов связывались с родным
селом. В каждом письме, пестрящем массой ошибок, отец агитационно расхваливал новые
порядки в селе, утверждая, что теперь людям стало жить легче. Теперь уж, например, можно
забыть про крапиву, которой раньше всё лето кормили чушек – куда удобней прихватить из совхоза
мешок комбикорма. И тут его уже прорывало (дальше хвалить не получалось): он костерил и
расцветшее в селе воровство, и самого директора совхоза, и всех прочих, кто находится при
директоре. И в конце, спохватившись, что от агитации его увело куда-то вкось, приписывал всегда
одно и то же: «Ну, в общем, приедешь, так сам всё увидишь».
Изменения, о которых говорил отец, связывались с преобразованием их среднего, но
стабильного по достатку колхоза в совхоз. Преобразования начались ещё тогда, когда Роман
заканчивал десятый класс. В селе тогда только об этом и гудели. Районные верхи считали тогда,
что это неприличная отсталость – не иметь в районе ни одного совхоза. И выбор пал на Пылёвку.
Впрочем, все нынешние дела Роман знает не только из писем отца, но и из писем лучшего
школьного друга Сёреги Макарова, который совсем недавно поступил в музыкальное училище в
Чите. До этого он учился в политехническом институте, но на втором курсе бросил его. Послужить
в армии Серёге не довелось – забраковали на медкомиссии из-за плоскостопия. Живя теперь в
городе, он тоже тоскует по селу, только вот своё будущее всё меньше и меньше связывает с ним.
Его тяга к дому почему-то постепенно сходит на нет. Роман же стоит на своём, так что главной
темой их двухлетней переписки всё равно были планы о том, как и что сделать дома, чтобы
жилось там хорошо.
Именно поэтому за время службы в белых, сухих песках Блондин, а потом Справедливый,
удивлял сослуживцев двумя совершенно противоположными страстями: фанатичным постижением
7
искусства рукопашного боя и чтением специальной литературы о зерновых культурах, об
овцеводстве и вообще обо всём, что хоть сколько-нибудь касалось земли и села. Ну, с
рукопашным-то боем всё понятно – на то они и погранвойска, чтобы этому учиться, а какая-нибудь
агрономия тут при чём? Да при том, что всё это сгодится после службы.
Уроки же рукопашного боя на их заставе почитались особо, потому что преподавал их
прапорщик Махонин, прошедший, судя по всему, и Крым, и рым и вроде как спрятанный от кого-то
на их заставе. Ходили слухи, что ещё совсем недавно Махонин был не пограничником, а служил
совсем в иных частях и был не прапорщиком, а офицером. Как-то во время одного доверительного
разговора после тренировки Роман спросил его, почему он оказался здесь, на отдалённой
заставе?
– Да так, – отмахнувшись, ответил Махонин, – убил случайно не того, кого следовало.
Но, судя по тому, что офицеры, приезжающие из отряда для разных проверок, называли его не
по званию, а просто и уважительно Александром Сергеевичем, убил-то он, видимо, как раз того,
кого следовало. И не случайно. Хоть и из своих. Иначе бы его не прятали. Однако, как бы ни
относились к нему офицеры, чувствовалось, что внутренне Махонин тёмен, как бездна.
Впечатление о нём такое, будто, находясь здесь, Махонин подчиняется чему-то далёкому и
невидимому. Такие люди всегда настораживали Романа, но здесь почему-то выходит иначе –
глубинная темнота и тайна прапорщика кажутся притягательными.
Уже с первых занятий по рукопашному бою Роман становится не только самым прилежным его
учеником, но и самым внимательным слушателем, хотя, конечно же, всего прапорщик не говорит
никому. Свой предмет, который он считает искусством, Махонин преподаёт не совсем обычно. Со
странной чуткой улыбочкой хищника прапор частенько предупреждает, что вот так наносить удары
в Советской Армии разрешается, а вот так – уже нет, потому что это из чуть иной программы, когда
надо кого-нибудь прямиком отправить на тот свет. А Советская Армия – защитница (такова наша
идеология – не забывайте, пожалуйста) и этого в ней знать не положено. «Так что всё
запрещённое, что я вам тут показываю, лучше забудьте». Странный совет – да как же после этого
что-нибудь забудешь? Более всего Махонин почитает искусство тайного удара. Никто ведь не
замечает, как работает фокусник. И мастер рукопашного боя может так! Бьёшь у всех на глазах, но
никто этого не видит. Разработка чисто махонинская. Во-первых, тут есть элементы отвлечения,
почти такие же, как в фокусах, а во-вторых – невероятная молниеносность удара.
– У каждого мастера своя фишка, – говорит Махонин, – у меня – эта. У неё два названия:
«Мгновенный зверь» (ну, это понятно) и «Щелчок волшебника».