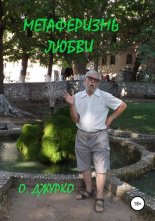Охота на овец Мураками Харуки

– Я нахожусь здесь как полномочный представитель всех интересов этого господина, – нарушил паузу посетитель. – Иначе говоря, я хотел бы от вас понимания того обстоятельства, что все, о чем я сообщу, передается вам в соответствии с его личными волей и желаниями.
– Желаниями… – повторил мой напарник.
– «Желание» – наиболее красивое слово для обозначения принципиальной позиции субъекта по отношению к намеченной цели. Разумеется, – добавил незнакомец, – могут быть и другие выражения. Вы меня понимаете?
Мой напарник попытался в уме перевести речь собеседника на человеческий язык.
– Понимаю…
– Как бы там ни было, мы не будем здесь рассуждать ни о понятиях с концепциями, ни о большой политике; разговор пойдет исключительно про бизнес.
Слово «бизнес» этот человек произнес очень отчетливо, с явным американским акцентом: «бейзнесс». Как пить дать – предки-иностранцы где-нибудь во втором колене.
– Вы бизнесмен – и я бизнесмен. Если исходить из реальности, то ни о чем другом, кроме бизнеса, мы с вами и не должны говорить. А вопросами нереальной природы пусть займутся другие. Не так ли?
– Именно так, – ответил мой напарник.
– Наши же обязанности сводятся к тому, чтобы придавать нереальным категориям утонченно-привлекательный вид и вставлять их в жесткие рамки реальности… Люди зачастую сами бывают рады убежать в нереальное. А все потому, – и указательным пальцем правой руки гость погладил изумрудного цвета перстень на среднем пальце левой, – что им так кажется проще. В силу этого иногда получается, будто нереальное уже вроде как вытесняет, выдавливает собой реальность. Однако заметим: в нереальном мире нет места для бизнеса. Мы же, таким образом, представляем собой особую разновидность людей, чье появление влечет за собой проблемы и осложнения. Поэтому, – прервавшись, он снова погладил зеленый перстень, – если то, что я вам сейчас сообщу, вдруг потребует от вас принятия важных решений либо еще как-нибудь усложнит вашу жизнь, – то я просил бы заранее меня извинить.
Плохо соображая, о чем идет речь, мой напарник молчал.
– Итак, перейдем к реальным желаниям. Первое: мы желаем, чтобы вы немедленно остановили выпуск журнала с изготовленной вами рекламой страхового агентства П.
– Но позвольте…
– Второе, – с силой оборвал незнакомец. – С работником, подготовившим эту страницу, мы желали бы непосредственно встретиться и поговорить.
Посетитель извлек из нагрудного кармана пиджака белоснежный конверт, вынул оттуда сложенный вчетверо лист бумаги и протянул моему напарнику Тот взял его и, развернув, пробежал глазами. Это была копия страницы с рекламой страхового агентства, сделанной, несомненно, в нашей конторе. Фотография – стандартный пейзаж Хоккайдо: снег, горы, овцы в долине да позаимствованные неведомо откуда строчки пастушьей песенки; ничего более.
– Таковы два наших желания. Собственно, насчет первого стоит сказать, что это дело решенное. А если быть совсем точным, то в русле этого желания уже принято соответствующее решение. И если имеют место какие-то сомнения, никто не мешает вам позвонить в издательство начальнику отдела рекламы.
– Да, действительно, – сказал мой напарник.
– Тем не менее мы, со своей стороны, с легкостью можем представить серьезность того ущерба, который подобное затруднение может нанести фирме вашего масштаба. Слава богу, мы – и вы это знаете – располагаем известного рода влиянием в данных кругах. И поэтому в случае, если наше второе желание окажется выполнимо и ваш сотрудник предоставит удовлетворяющую нас информацию, мы будем готовы компенсировать ваш ущерб. С лихвой, уверяю вас.
Глубокая тишина затопила комнату.
– Если же мы не встретим у вас понимания в этом вопросе, – продолжал после паузы незнакомец, – вам придется сойти с дистанции. С этого дня и до скончания века в этом мире для вас не найдется свободного места.
Снова – давящая тишина.
– У вас есть какие-нибудь вопросы?
– Если я вас правильно понимаю, проблема – в самой фотографии? – робко спросил мой напарник.
– Совершенно правильно, – подтвердил гость. Его постоянно шевелящиеся пальцы словно перебирали и отсортировывали слова перед тем, как он их произносил. – Совершенно правильно. Однако ничего сверх этого я вам объяснить не могу. Не располагаю для этого полномочиями.
– Сотруднику я позвоню домой… Думаю, он будет здесь в три, – сказал мой напарник.
– Прекрасно. – И гость скользнул глазами к часам на руке. – В таком случае, к четырем часам я присылаю машину. И наконец – особо важный момент: все, о чем здесь говорилось, ни малейшему разглашению не подлежит. Договорились?
И два бизнесмена расстались по-деловому.
3. Сэнсэй
– Вот такие дела, – сказал мой напарник.
– Ни черта не понятно, – сказал я, сжимая в губах незажженную сигарету. – Во-первых, непонятно, что за птица – настоящий хозяин карточки. Во-вторых, непонятно, почему он так нервничает из-за фотографии каких-то овец. Ну и, наконец, мне совершенно неясно, каким образом этот тип может изъять из печати нашу рекламу…
– Хозяин карточки – крупная акула правых. Во внешний мир особенно не высовывается, и поэтому простому народу его имя может ничего и не говорить; в деловых же кругах о нем знают практически все. Ты, видно, единственное исключение…
– Далек я от светской жизни, – буркнул я, словно оправдываясь.
– Вообще говоря, он не совсем из правых… Даже, скорее, – совсем не из правых.
– Ну вот – вообще ничего не понятно…
– Если честно, всегда было сложно разобраться, что там у него в голове. Работ он не пишет, речей перед публикой не говорит. Пять лет назад репортер из одного ежемесячника попробовал было копнуть под него по поводу взяток, оформлявшихся как партийные взносы, – да самого же репортера и закопали…
– А ты, я смотрю, неплохо осведомлен.
– Я хорошо знал того репортера.
Я поднес зажигалку к сигарете в губах и затянулся.
– А этот репортер… Чем он сейчас занимается?
– Перебросили в общий отдел. С утра до вечера, не разгибаясь, правит рекламные тексты… Мир «масс-коми»[6], как тебе известно, до удивления тесен, так что его фигура теперь – как бы наглядный урок, предостережение всем остальным. Знаешь, как у африканских аборигенов – белые кости при входе в деревню…
– Да уж, – хмыкнул я.
– Впрочем, кое-что из довоенной биографии этого типа мне все-таки известно. Родился в 1913-м на Хоккайдо. Закончил школу – перебрался в Токио; скакал с работы на работу, пока не прибился к правым. Кажется, всего однажды – но все-таки угодил тогда за решетку Отсидел – подался в Маньчжурию, где спелся с офицерами Квантунской армии и создал какую-то организацию диверсионного толка. Чем занималась эта организация, я уже толком не знаю. Именно с тех пор он неожиданно становится человеком-загадкой. Поговаривали, что он наркоман; да, видимо, так и было… Погулял, порезвился по Китайской равнине – и ровно за две недели до прихода советских войск на большом эсминце благополучно эвакуировался на родную землю. Вместе с кучей трофейного золотишка, понятное дело…
– М-да, просто поразительно вовремя.
– В том-то и дело: этот тип всегда умел очень талантливо рассчитывать время. Когда лучше закидывать невод, когда – тащить… И, кроме того, всегда как-то заранее чувствовал, в какую именно точку следует бить.
Когда верхушку оккупационной армии арестовали за военные преступления категории «А», расследование по его делу прервали на полдороге, а само дело просто-напросто закрыли. Причины – сперва «по болезни», а потом все вообще окутано мраком и схоронено на века. Скорее всего, имела место какая-то сделка с вояками США. Макартур ведь тоже очень облизывался на китайские просторы…
Мой напарник снова вынул из карандашницы шариковую ручку и, зажав между средним и указательным пальцами, принялся вертеть ее туда-сюда.
– Так вот, выбрался он из казематов Сугамо[7], вытащил на свет божий свои сокровища, которые прятал неизвестно где, – и разделил их на две половины. На первую купил с потрохами одну из фракций в партии консерваторов; на вторую же – весь мир рекламы. Это еще в те времена, когда всей-то рекламы было афишки замызганные да листовки на заборах…
– М-да, тип дальновидный, ничего не скажешь… А что, насчет его теневых капиталов так ни разу нигде ничего не всплыло?
– Перестань. Владелец целой фракции консерваторов.
– Да, действительно… – пробормотал я.
– В общем, с помощью денег он зажал в одном кулаке и политиков, и рекламу; и этот его механизм прекрасно функционирует по сей день. А на поверхность он не вылазит потому, что не видит в том ни малейшей нужды. Поскольку если в твоих руках и политика, и реклама, для тебя, говоря строго, нет ничего невозможного, так ведь? А ты вообще представляешь себе, что значит владеть всей рекламой?
– Не очень…
– Владеть всей рекламой – это значит держать за горло практически всю печать, телевидение и радио. Ни одно издательство, ни единый канал в эфире просто не могут существовать без рекламы. Все равно что аквариум без воды. До 95 % всей информации, которую воспринимают твои глаза и уши каждый день, заранее отобраны по чьей-то воле и оплачены из чьего-то кармана.
– Все равно пока непонятно, – упорствовал я. – То, что этот тип прибрал к рукам все СМИ, – это я понял. Но какую силу он имеет над рекламными издательствами страховых агентств? Здесь же прямые контракты без участия крупных рекламопроизводителей, так или нет?
Мой напарник откашлялся и залпом допил остывший чай.
– Акции. Основной источник постоянного роста его капитала – это чьи-нибудь акции. Движение акций, перепродажа, скупка контрольных пакетов и тому подобное. Всю необходимую для этого информацию собирает его «Особый отдел»; он же только выбирает, что ему нужно, а что – нет. Естественно, из всего мощного потока данных лишь ничтожно малая часть отходит «масс-коми» и публикуется «для народа». Все остальное Сэнсэй прибирает к своим рукам и, тщательно пересмотрев, скупает самые выгодные варианты. Не напрямую, разумеется, – шантажом всех мастей и оттенков. Ну, а если шантаж не действует, то информация, как и положено в сообщающихся сосудах, перетекает в большую политику…
– Что-то по принципу «у всякой фирмы есть хоть одна маленькая слабость»?
– Еще проще: ни у какой фирмы нет желания услышать заявление-бомбу на собрании учредителей… В общем, я тебе все сказал. Дух Сэнсэя царит над нами сразу в трех измерениях этого мира: в политике, в рекламе и в акциях. Это ты, я надеюсь, себе уяснил. А раз так, то нетрудно представить, что раздавить рекламный журнальчик, вроде нашего, и выкинуть нас на улицу – для него еще проще, чем тебе почистить яйцо на завтрак…
– Уф-ф… – перевел я дыхание. – Но все равно: за каким дьяволом такому большому дяде напрягаться из-за фотографий хоккайдосской природы?
– А вот это – и в самом деле хороший вопрос! – парировал мой напарник. – Я как раз собирался задать его тебе.
Мы помолчали.
– Как ты догадался, что разговор – про овец? – спросил он. – Откуда? Что вообще происходит такого, о чем я не знаю?
– «То карлик неведомый вертит Кармы веретено, наших судеб нити переплетая»…
– Ты не мог бы выражаться яснее?
– Шестое чувство.
– Ну-ну… – вздохнул мой напарник. – В любом случае, вот тебе еще парочка свежих новостей. Я позвонил тому бывшему репортеру из ежемесячника, и он мне кое-что сообщил. Первое – Сэнсэя свалил инсульт, и на ноги он больше не встанет. Хотя на официальном уровне это пока не подтверждено… И второе – насчет типа, который сюда заявился. Это первый секретарь Сэнсэя, в Организации – Человек Номер Два, который ведает всеми вопросами управления. Сын иностранца, выпускник Стэнфорда, под Сэнсэем работает вот уже двадцать лет. Темная лошадка, но с мертвой хваткой и мгновенной реакцией. Это все, что мне удалось разузнать.
– Спасибо, – вежливо сказал я.
– Не за что, – ответил мой напарник, стараясь не глядеть на меня.
До тех пор, пока он не напивался, – что говорить! – он был гораздо достойнее меня. Во всех отношениях – добрее, наивнее, рассудительнее. Но рано или поздно он все-таки непременно сопьется. И от этого на душе у меня делалось тяжело. От самой мысли – о том, что многие люди явно достойней меня приходят в негодность гораздо быстрее.
Когда мой напарник вышел из комнаты, я отыскал в шкафу его виски, сел и принялся пить в одиночку.
4. Считая овец
Бывает так, что ни с того ни с сего, без какой-то конкретной цели Судьба забрасывает нас в совершенно чужие края. «Случайно», – говорим мы тогда. Точно так же, мол, капризами весеннего ветра заносит за тридевять земель крылатое семя какого-нибудь растения.
В то же время можно с равной уверенностью утверждать, что никакой «случайности» не бывает. Мы всегда вправе сказать: то, что с нами уже произошло, случилось как незыблемый факт; а то, что до сих пор не произошло, пока не случилось, и с этим тоже трудно поспорить. Одним словом, мгновение, в котором мы единственно существуем, постоянно отсекает и отбрасывает назад все, оставляя нам вечный ноль перед носом; и тут уже ни «случайностям», ни каким-то еще «вероятностям» просто места не остается.
На самом деле между двумя этими точками зрения нет никакой особенной разницы. Просто здесь (как и при любой конфронтации взглядов) мы имеем два разных названия для одного и того же блюда.
Но это все – аллегории.
С одной стороны (точка зрения А), то, что я решил использовать в рекламе фотографию с пейзажем Хоккайдо, – чистейшей воды случайность. С другой стороны (точка зрения Б) – никакой случайности нет.
А) Я искал подходящее фото для макета рекламной страницы. В ящике стола завалялся снимок хоккайдосской долины с овцами, который я и взял. Мирная случайность из мирной, обычной жизни.
Б) Фотография уже давно дожидалась меня. Не в том, так в другом макете, выходящем из моих рук, я все равно бы ее использовал.
Подумав, я прихожу к мысли: вероятно, подобная формула применима и для анализа всей моей прожитой жизни в разрезе. Возможно даже, если я потренируюсь еще немного, то научусь-таки поддерживать этот баланс: левой рукой – свою жизнь в измерении «А», правой – свою жизнь в измерении «Б»… Впрочем, не все ли равно? Здесь ведь как с дыркой от бублика. Скажем ли мы: «внутри нет ничего», или будем утверждать: «есть дырка», – все это сплошные абстракции, и вкус бублика от них не изменится.
Мой напарник ушел по своим делам – и комната неожиданно опустела. Только стрелка электронных часов описывала бесшумно круг за кругом. До четырех, когда за мной должна приехать машина, оставалось еще порядочно времени, но никакой неотложной работы не было. Из конторы за дверью также не доносилось ни звука.
Потягивая виски на небесно-голубом диване, я медитировал в воздушном потоке кондиционера, как пух одуванчика на ласковом ветерке, и неотрывно следил глазами за стрелкой электронных часов. Я видел бегущую стрелку – значит, мир еще продолжает вертеться. Не такой уж и замечательный мир, но вертеться он все-таки продолжает. А поскольку я осознаю, что мир продолжает вертеться, я по-прежнему живу на свете. Не такой уж и замечательной жизнью, но все-таки живу. Как странно выходит, подумал я: неужели только по стрелкам часов люди могут удостоверяться в том, что они существуют? На свете наверняка должны быть и другие способы подобной «самопроверки». Но как ни пытался я придумать что-то еще, ничего больше в голову не приходило.
Я отказался от дальнейших попыток и хлебнул еще виски. Горячая волна обожгла горло, прокатилась по стенкам пищевода, добралась, искусно лавируя, до желудка и уже там, наконец, улеглась на самое дно и затихла. За окном висело густо-синее летнее небо с белыми облаками. Красивое небо, но с тем странным, едва уловимым налетом изношенности, какой бывает у подержанной вещи. Старое небо, которое лишь снаружи – для товарного вида – протерли медицинским спиртом перед тем, как пускать с молотка. Вот за это самое небо, которое было новехоньким когда-то давным-давно, я и выпил еще глоток виски. Скотч был совсем недурен. Да и небо, когда глаза привыкли к нему, больше не казалось плохим. Слева направо по небесному своду лениво полз реактивный самолет. Его жесткая, поблескивавшая на солнце скорлупа напоминала кокон с личинкой какого-то насекомого.
После второго виски в моей голове червяком зашевелился вопрос: а что это я, собственно, здесь сижу? О чем это я, черт побери, все время пытаюсь думать?
Да об овцах же.
Я привстал с дивана, стянул со стола бумагу с оттиском рекламной страницы – и плюхнулся на место. Затем, посасывая кусок льда, сохранившего вкус виски, я добрых двадцать секунд безотрывно разглядывал фотографию и терпеливо пытался обнаружить в ней хоть какой-нибудь скрытый смысл.
На фотографии было изображено стадо овец на лугу. По краю луга тянулась березовая роща. Такие березы-гиганты можно встретить лишь на Хоккайдо. Здесь уж не те хилые березки, что посадил возле дома зубной врач у меня по соседству. Об одну такую березищу смогли бы, не толкаясь, поточить когти четыре медведя одновременно. Судя по густой листве на деревьях, дело происходит скорее всего весной. На горных вершинах вдали еще лежит снег. Значит, где-то апрель или май. Время года, когда земля под снегом размывается в кашу. Небо голубое (то есть – наверное, голубое: черно-белая фотография не давала уверенности в его голубизне; кто его знает – может, и ярко-розовое, как рыба лосось). Белые облака стелились тонкими полосами над пиками гор. Тут уж, сколько ни напрягай воображение, «стадо овец» может означать только стадо овец, «березовая роща» имеет смысл лишь как березовая роща, а «белые облака» не содержат в себе никакой другой информации, кроме того, что это – облака, и цвет у них белый. Вот и все, и ничего больше.
Я бросил фотографию обратно на стол, выкурил сигарету и смачно зевнул. Затем снова взял фотографию в руки – и на этот раз попробовал посчитать овец. Однако долина была настолько просторной, и все эти овцы разбрелись по ней, как отдыхающие на пикнике, – так беспорядочно, что чем дальше к горизонту уходил я в своих подсчетах, тем труднее было отличить овцу от простого белого пятнышка, белое пятнышко – от обмана зрения, а обман зрения – от пустоты. Тогда – делать нечего – кончиком шариковой ручки я попытался сосчитать хотя бы тех овец, в чьем «овечестве» был уверен на сто процентов. Худо ли бедно, у меня получилось число тридцать два. Тридцать две овцы. Стандартная, ничем не примечательная фотография. Ни интересной композиции, ни того, что можно назвать «изюминкой».
И все-таки что-то в ней явно было… Странный привкус тревоги. В миг, когда я увидал этот снимок впервые, именно такое ощущение поселилось в душе и все три последующих месяца уже не покидало меня.
Я повалился спиной на диван и, держа фотографию над собой, еще раз пересчитал овец. Тридцать три овцы.
ТРИДЦАТЬ ТРИ?
Я зажмурился и помотал головой, пытаясь вытряхнуть скопившуюся чертовщину… А, ладно, сказал я себе. Чему быть, того не миновать. А что случилось – того уже не изменишь.
Лежа на диване, я собрался с духом и начал считать овец заново. За этим занятием меня и сразил тот внезапный глубокий сон, какой случается, если пить двойной виски сразу после обеда. За миг до того, как уснуть, я подумал об ушах своей новой подруги.
5. Автомобиль и его водитель (1)
Машина за мной, как и было назначено, прибыла ровно в четыре. Секунда в секунду – словно кукушка из часов. Девочка-секретарша вызволила меня из бездонного сна. Я наскоро сполоснул лицо в туалете, но сонливость не проходила. В лифте, пока тот вез меня вниз, я трижды зевнул. Зевнул так, будто зевками звал кого-то на помощь; хотя в моем случае и тем, кто звал, и тем кого звали, мог быть разве только я сам.
Гигантский автомобиль громоздился у входа в здание, точно подводная лодка, всплывшая из океанской пучины. Скромная небольшая семья могла бы неплохо разместиться под капотом этой громадины. Стекла мрачно-синего цвета не позволяли даже в общих чертах разобрать, что творится внутри. Корпус машины был покрыт умопомрачительной черной краской, и куда ни глянь, везде – от бампера до колпаков на колесах – не было ни пылинки, ни пятнышка.
Водитель – средних лет, с оранжевым галстуком поверх свежайшей белой сорочки – стоял навытяжку рядом с автомобилем. То был Водитель в полном смысле слова. При моем приближении он, ни слова не говоря, распахнул дверцу, внимательно проследил затем, чтобы я устроился на сиденье поудобнее, и только после этого закрыл дверцу. Потом он занял место за рулем и так же мягко затворил дверцу за собой. Звука от этих действий происходило не больше, чем от перетасовывания колоды карт. Куда там моему пятнадцатилетнему «жучку-фольксвагену», приобретенному у приятеля по дешевке… Находиться в этой машине было все равно что сидеть на дне озера с затычками в ушах.
Внутри автомобиля все было тоже очень солидно. И хотя у человека, который решал, что подходит для салона огромного лимузина, был не самый безупречный вкус, результаты его усилий оказались просто внушительными. Между подушек необъятного заднего сиденья утопал шикарный кнопочный телефон, и с ним рядом на пульте я обнаружил пепельницу, сигаретницу и зажигалку – все из чистого серебра. В спинке кресла водителя были встроены откидной столик и секретер для письменных принадлежностей – и перекусить, и поработать с бумагами. Из кондиционера дул едва различимый ветерок, а пол устилало мягкое ковровое покрытие.
О том, что машина тронулась, я догадался, когда мы уже были в пути. Казалось, будто в каком-то железном тазу я бесшумно скольжу по гладкой как ртуть поверхности огромного озера. Я попытался прикинуть, сколько денег ухлопали на этот автомобиль, но представить это оказалось мне не под силу. Это просто выходило за пределы моего воображения.
– Из музыки что пожелаете? – осведомился водитель.
– Хорошо бы что-нибудь… усыпляющее, – ответил я.
– Как изволите.
Откуда-то из под сиденья водитель выудил кассету, вставил в панель перед собой и нажал кнопку. Из динамиков, скрытых неведомо где, выплеснулась и потекла, заполняя салон, соната для виолончели. Безупречная музыка, безукоризненный звук.
– А вы что же, все время вот так… клиентов развозите? – спросил я.
– Да, – осторожно ответил водитель. – В последнее время – постоянно.
– А-а, – протянул я.
– Вообще говоря, это персональная машина Сэнсэя, – продолжал водитель после небольшой паузы. В душе он, похоже, был гораздо приветливее, чем казался на вид. – Да нынешней осенью Сэнсэй занемог, и из дому теперь не выходит. И мы с машиной оказались вроде как не у дел. Ну а у машины – вы, наверное, сами знаете, – если долго не заводить, снижаются технические возможности…
– И не говорите, – сказал я. Значит, из болезни Сэнсэя вовсе не делалось особенной тайны. Я вытянул из сигаретницы сигарету и исследовал ее со всех сторон. Сделано по заказу, без фильтра, оба конца обрезаны, без торговой марки, без имени фирмы-изготовителя. По запаху напоминало русский табак. Поколебавшись немного – закурить или сунуть в карман? – я передумал и вернул сигарету на место. И на зажигалке, и на сигаретнице прямо по центру были впаяны тончайшей гравировки геральдические гербы. На гербах были овцы.
Овцы?!..
Я почувствовал, что здесь уже бесполезно пытаться что-то понять, просто помотал головой и закрыл глаза. С того полудня, когда я впервые увидел фотографию ушей, похоже, слишком много вещей вокруг стало выходить из-под моего контроля.
– Сколько нам еще ехать? – спросил я у водителя.
– Минут тридцать – ну, может, сорок… Смотря как дорога будет заполнена.
– Тогда, будьте любезны, сделайте ветерок послабее. Я тут, понимаете, один сон не успел досмотреть…
– Как прикажете.
Водитель настроил кондиционер и нажал какую-то кнопку на центральной панели. Массивное стекло, плавно поднявшись, отрезало пассажирский салон от сиденья водителя. И если бы не еле слышная музыка Баха, я бы сказал, что салон затопила абсолютная, космическая тишина. Впрочем, к тому моменту меня уже трудно было чем-либо поразить. Зарывшись в подушку сиденья, я спал крепким сном.
В сон ко мне явилась корова. Вполне опрятная, чистенькая коровка, но какая-то исстрадавшаяся и заметно побитая жизнью. Мы встретились нос к носу на широком мосту. Ласковое весеннее солнце клонилось к закату. В одном копыте корова держала старенький электрический вентилятор, предлагая мне – мол, не купишь ли, дешево отдам. «Денег нет», – сказал я. Денег и правда не было.
«Ну давай хоть на плоскогубцы махнемся», – сказала корова. Звучало заманчиво. Мы пошли с коровой ко мне, и я перевернул все в доме вверх дном, пытаясь найти плоскогубцы. Но их нигде не было.
«Очень странно, – сказал я корове. – Ведь еще вчера они были!..»
Я потащил стул к антресолям, чтоб поискать и там, но водитель уже будил меня, хлопая по плечу.
– Приехали! – бросил он односложно.
Дверь открылась, и лучи летнего предзакатного солнца обласкали мое лицо. Мириады цикад издавали скрежет, будто кто-то проворачивал ключ у гигантского механического будильника. Пахло землей.
Я выбрался из машины, размял спину, глубоко вздохнул и помолился Небу, чтобы мой сон не имел отношения к так называемым «Символическим Сновидениям».
6. Вселенная глазами Червяка
Бывают символические сновидения – и реальная жизнь, которую они символизируют. Или же наоборот: бывает символическая жизнь – и сновидения, в которых она реализуется. Символ – почетный мэр города, если смотреть на Вселенную глазами крохотного червячка. Во Вселенной Глазами Червяка никто не станет удивляться, зачем корове плоскогубцы. Раз ей так хочется, достанутся ей эти несчастные плоскогубцы не сейчас, так потом. Мне-то с моими проблемами от этого не легче…
Иное дело, если для того, чтобы раздобыть себе плоскогубцы, корова решила использовать именно меня. Тогда ситуация в корне меняется. Тут уж меня забрасывает в совершенно чужие измерения, где кто-то другой видит все совсем иначе. Когда вдруг тебя забрасывает в другое измерение, самое неудобное – это долгие разговоры. «На фига тебе плоскогубцы?» – спрошу я корову. «Очень кушать охота», – ответит она. «А на фига плоскогубцы, когда кушать охота?» – спрошу я. «А повешу на ветку с персиками!» – ответит она. «А ветка с персиками – на фига?» – спрошу я. «Так ведь я ж тебе целый вентилятор взамен отдаю!» – ответит она. И так без конца. И вот в бесконечном таком разговоре я постепенно начну ненавидеть корову, а корова начнет ненавидеть меня. Так и случается во Вселенной Глазами Червяка. И единственный способ убежать оттуда – это поскорее увидеть еще какой-нибудь сон.
И вот теперь, сентябрьским полднем 1978 года, четырехколесное железное чудище завезло меня в самый центр Вселенной Глазами Червяка… Надо понимать, вопрос с моими молитвами там, на небесах, был решен отрицательно.
Я огляделся и невольно вздохнул. Вздыхать – единственное, что оставалось в моей ситуации.
Машина стояла на вершине небольшого холма. Дорожка из гравия, по которой мы, надо думать, сюда и приехали, убегала вниз по склону за нашей спиной, петляя вычурным серпантином до едва различимых вдали ворот. Слева и справа тянулись рядами криптомерии и ртутные фонари – на одинаковом расстоянии друг от друга, длинные и острые, как заточенные карандаши. Неспешно добрести до ворот можно было, наверное, минут за пятнадцать. Деревья осаждались полчищами неистребимых цикад, и воздух дрожал от скрежета, не оставлявшего ни малейших сомнений в том, что конец света уже начался.
Трава под деревьями ближе к дорожке была аккуратно подстрижена, и с наклонных обочин на меня таращились рассаженные в беспорядке то ли азалии, то ли розалии, то ли еще какие-то рододендроны. Стайка скворцов неторопливо переправлялась по газону справа налево, чудно шевелясь и волнуясь, как зыбучий песок.
По склонам холма вниз к подножию спускались мраморные ступени: направо – к японскому саду с прудом и каменными светильниками, налево – к небольшому полю для гольфа. На одном краю поля виднелась беседка непередаваемой расцветки мороженого с изюмом, на другом – маячила каменная статуя какого-то типа из греческой мифологии. Позади статуи громоздился исполинских размеров гараж: у самого входа еще один водитель поливал водой из шланга еще один автомобиль. Марки машины я не разобрал, но в том, что это не подержанный «фольксваген», сомневаться не приходилось.
Скрестив руки на груди, я еще раз обвел взглядом окрестности. Идеально, не к чему прицепиться… Голова раскалывалась от боли.
– А где почтовый ящик? – спросил я на всякий случай. Интересно, кого они тут гоняют за почтой по утрам и вечерам.
– Почтовый ящик – на задних воротах, – ответил водитель. Само собой, чего спрашивать. Конечно, должны быть и задние ворота.
Я перестал озираться, посмотрел прямо перед собой и уперся взглядом в огромных размеров дом.
То было – как лучше сказать? – просто пугающе одинокое здание. Скажем так: жило-было на свете Одно Общепринятое Утверждение. И были у него, как водится, свои маленькие исключения. Но годы шли, исключения росли, расползались безобразными пятнами по телу родителя – и спустя какое-то время превратили и его, и себя уже в Абсолютно Другое, чуть ли даже не в Совершенно Обратное Утверждение. Тоже, разумеется, со своими маленькими исключениями… Черт его знает, как еще лучше выразиться. Но именно так и выглядело это здание. Сильнее всего оно смахивало на доисторическую рептилию, чье тело в результате беспорядочных мутаций – зигзагов слепой эволюции – развилось до ненормальных, ей самой мешавших размеров.
По первоначальному плану здесь, видимо, имелся в виду европейский стиль периода Мэйдзи[8]. Над высокой классической аркой парадного хода громоздилось двухэтажное строение в кремовых тонах. Старомодные узкие окна с двойными рамами. Стены много раз перекрашивали. Крыша, как полагается, была покрыта листовой медью, а водостоки проложены с хитроумием и основательностью строителей римского водопровода. В общем, что касается самого дома, он был вовсе не так и плох. Что ни говори, в нем ощущалось какое-то утонченное благородство старого доброго времени.
Но уже справа от главного здания какому-то другому весельчаку-архитектору взбрело в голову пристроить еще два крыла – поменьше, но, по возможности, в том же стиле и той же расцветки. Задумка сама по себе неплохая, но результат оказался плачевным: пристройки эти ни по цвету, ни по духу с главным зданием не совпадали. Впечатление было такое, как если бы кто-то додумался смешать шербет со спаржей и подать эту несуразицу к столу на красивом серебряном блюде. В таком виде сей абсурд простоял, вероятно, не один десяток лет, после чего с самого боку к нему прилепили еще и башенку-флигель из серого камня. При этом на верхушку флигеля насадили металлический шпиль декоративного громоотвода. Явный ляпсус: первая же молния, попади она в эту штуку, спалила бы все здание с потрохами.
Крытый переход вел из флигеля к еще одному строению. Как и все предыдущее, этот суррогат архитектуры был также отмечен печатью Абсурда, но здесь, по крайней мере, ощущалась некая тематическая завершенность. Назовем это «идейным самосопротивлением»: именно такой вид мировой скорби глодал душу осла, который, стоя меж двух одинаковых стогов сена, никак не мог выбрать, с какого начать – да так и сдох с голодухи.
Слева же от главного здания резким контрастом ко всему, что я видел справа, тянулись стены одноэтажного японского особняка. С живой изгородью, заботливо ухоженными сосенками и великолепными верандами, прямыми и длинными – хоть устраивай кегельбан.
Как бы то ни было, весь пейзаж смотрелся с холма, точно странный фильм из трех разных частей вперемежку с рекламой. И если предположить, что фильм этот снимали продуманно, много лет и с осознанной целью: сгонять со зрителя сонливость и хмель, – то я бы сказал, расчет режиссера полностью оправдался. Хотя, конечно, никакого особого умысла здесь быть не могло. Просто вот так и бывает, когда кучку посредственностей, рожденных в разных эпохах, связывает один капитал.
Изучение усадьбы и ее окрестностей отняло у меня куда больше времени, чем я ожидал. Не успел я подумать об этом, как заметил, что все это время водитель простоял рядом со мной, уставившись в часы на руке. При этом в позе его чувствовалось что-то чересчур отшлифованное. Можно было подумать, что каждый гость, которого он доставлял сюда, выходил из машины точнехонько в том же месте, где вышел я, точно так же остолбеневал и с таким же ошарашенным видом разглядывал этот странный пейзаж.
– Если хотите еще посмотреть – пожалуйста, можно не торопиться, – промолвил водитель. – Есть целых восемь минут.
– Просторное местечко!.. – сказал я. Ничего более подходящего мне в голову не пришло.
– Три тысячи двести пятьдесят цубо[9], – сообщил водитель.
– А действующего вулкана у вас тут случайно нет? – попытался я пошутить. Шутка, разумеется, повисла в воздухе. В этом месте никто никогда не шутил.
Так прошло еще восемь минут.
От парадного входа меня провели направо в небольшой, метра три на четыре, кабинет в европейском стиле. До головокружения высокий потолок; между стенами и потолком бежала замысловатая фигурная лепка. Из мебели в комнате стояли антикварного вида стол и пара диванов, а на стене висел натюрморт, демонстрировавший, до чего способен дойти реализм в своем апогее. Яблоки, цветочная ваза и нож для бумаги. Видимо, предполагалось раскалывать яблоки вазой, а после ножом обдирать кожуру. Огрызки и семечки – выбрасывать в ту же вазу. Полураспахнутые занавески из толстой ткани и тюль по обеим сторонам окна аккуратно подобраны и подвязаны шнурками. В окне между ними виднелся вполне симпатичный уголок японского сада. Натертый дубовый паркет переливался бликами самых приятных оттенков. Половину комнаты занимал роскошный ковер, и хотя цвета его заметно поблекли от времени, длина ворса осталась такой, будто на него никогда не ступала нога человека.
Неплохая комната. Совсем неплохая.
Вошла средних лет горничная в кимоно, поставила на стол бокал с грейпфрутовым соком и удалилась, не промолвив ни слова. Дверь тихонько защелкнулась у нее за спиной, и воцарилась мертвая тишина.
На столе я увидел серебряный набор: сигаретница, пепельница, зажигалка. Точь-в-точь как в машине. На каждом предмете красовался тот же овечий герб… Я достал из кармана свои сигареты с фильтром, прикурил от серебряной зажигалки, затянулся, выпустил в высокий потолок длинную струю дыма. И принялся за грейпфрутовый сок.
Десять минут спустя дверь снова отворилась, и в комнату вошел высокого роста мужчина в черном костюме. Ни «добро пожаловать», ни «извините, заставил ждать», ни чего-либо другого он не сказал. Я тоже молчал. Он сел на диван напротив и, чуть склонив голову набок, принялся разглядывать меня с видом человека, определяющего цену товара на глаз. Мой напарник был прав: выражение на этом лице отсутствовало напрочь.
Так прошло еще какое-то время.
Часть пятая
Письма Крысы и то, что за ними последовало
1. Первое письмо Крысы (штемпель: 21 декабря 1977 года)
Ну, как дела?
Давненько же мы с тобой не виделись! Сколько лет-то прошло? В каком году это было?..
Все хуже ориентируюсь в датах и числах. Кажется, будто странная черная птица мечется, хлопает крыльями над моей головой, а я никак не могу сосредоточиться и сосчитать до трех. Так что извини, но лучше тебе посчитать самому.
То, что я тогда, не сказав никому, внезапно уехал из города, наверное, и тебе доставило немало проблем. Или, может, тебя задело, что я не сообщил об этом даже тебе? Сколько раз уже я собирался объясниться с тобой – и не мог. Сколько писем писал – да рвал одно за другим. Но, я думаю, это естественно: разве можно объяснить кому-то другому то, что не удается толком объяснить самому себе?
Вряд ли.
Никогда не умел писать писем как следует. То порядок мыслей с ног на голову, то доводы выводам не соответствуют, то еще что-нибудь. Получается, что, пытаясь изложить мысли на бумаге, я лишь еще больше запутываюсь. Не говоря уже о том, что мне недостает чувства юмора, и я частенько бросаю письмо, своим занудством себе же и надоев.
Хотя, положим, человеку, умеющему как следует писать письма, нет особой надобности этим заниматься. Ведь ему уже заранее известно, что и как он хочет сказать – и потому он может преспокойно оставаться живым внутри своего контекста. Но это, разумеется, моя личная точка зрения. Может быть, на самом деле жизнь в собственном контексте – вещь и вовсе невозможная.
Сейчас очень холодно, у меня коченеют руки. Я не чувствую, что это – мои руки. Даже мозги в голове – и те словно чужие. Падает снег. Снег, похожий на чьи-то мозги. Валит и валит, становясь, как и чьи-то мозги, все глубже, все непролазнее… (Что за бред я несу?)
Если не считать холодов – жизнь у меня в полном порядке. У тебя-то там как? Я не буду сообщать тебе мой нынешний адрес; не обижайся. Причина здесь вовсе не в том, что я хочу от тебя что-то скрыть. Пойми меня, если можешь. Для меня это очень деликатная проблема. Мне кажется, сообщи я тебе свой адрес – и внутри меня моментально что-то изменится. Не могу как следует объяснить…
По-моему, ты всегда хорошо понимал те вещи, которые я не умел как следует объяснить. Вот только чем больше ты понимал меня, тем хуже у меня получалось выражать свои мысли словами. Видимо, тут у меня с рождения какой-то мелкий изъян.
Конечно, у всех есть свои изъяны.
Но, видишь ли, величайший из моих изъянов как раз и заключается в том, что стоит мне выявить в душе какой-нибудь совсем небольшой изъянчик, как тот сразу начинает неудержимо расти. Иначе говоря – внутри у меня прямо какая-то птицеферма. Снесла курочка яичко, а оно превратилось в новую курочку, которая тоже снесла яичко… Вот так и плодятся изъяны в душе, и поражаешься: да разве может так жить человек – в постоянной попытке удержать весь их огромный, расползающийся рой жалким обхватом растопыренных рук? Но в том-то и дело, что может. В этом вся и беда.
Так или иначе, адреса своего я тебе сообщать не стану Уверен, что так будет лучше. И для меня, и для тебя.
…Нам с тобой, наверное, следовало родиться где-нибудь в России XIX столетия. Мне – князем Таким-то, тебе – графом Сяким-то. На пару охотиться, стреляться на дуэлях, соперничать в любовных интригах, страдать метафизическими душевными муками и потягивать пиво, созерцая черноморский закат. На склоне лет оказаться замешанными в заговоре каких-нибудь очередных мартобристов, пойти по этапу в Сибирь – и там помереть… Замечательно было бы – ты не находишь? Родись я в XIX веке – наверняка и писал бы куда приличнее. Пусть не как Достоевский, на порядок пониже – но достаточно солидно для признания в свете. Что бы делал ты? Скорее всего, просто графствовал себе помаленьку «Просто граф» – это ведь тоже неплохо. Очень даже в духе столетия…
Ладно, хватит фантазий. Вернемся в XX век.
Поговорим о провинциальных городах.
Не о тех, где мы родились, а обо всяких других.
На свете, знаешь ли, существует несметное количество провинциальных городков. И в каждом обязательно есть такое, о чем мы и слыхом не слыхивали; собственно, этим они меня всегда и притягивали. Из-за этой тяги за последние годы я прокочевал по великому множеству таких вот маленьких городишек.
Сев на первый попавшийся поезд, я отправлялся, куда бог пошлет, выходил на случайной станции – и видел перед собой: маленький кольцевой разъезд, карту городка на железном щите и прямо по курсу – торговый квартал с притиснутыми друг к дружке лавками и ресторанчиками. Картина одинаковая везде, куда бы я ни приехал. Одинаковая – до выражений на собачьих мордах. Описав пешком круг по городу, я заходил в контору по сдаче жилья и подбирал себе пансион подешевле. Известное дело, при первом знакомстве маленький, замкнутый в себе городишко не пылал особым доверием к чужакам вроде меня. Нуда ты меня знаешь: когда приспичит, я неплохо приспосабливаюсь к обстановке; дай мне 15 минут – и я сумею поладить с большинством окружающих. Так что и с жильем вопросы решались сразу, и любые сведения о жизни вокруг, когда нужно, всегда оказывались под рукой.
Дальше нужно было найти работу. Для этого, опять же, необходимо завести как можно больше знакомств. Ты, наверное, посчитал бы это чересчур утомительным (я и сам порой не знал, куда от скуки деваться) – пускаться во все тяжкие, чтобы найти работу на какие-то четыре месяца. Но, скажу тебе, «стать своим» в таком городишке совсем несложно. Первым делом вычисляется место, где собирается молодежь, какая-нибудь кофейня или закусочная (в любом городе есть что-то в этом роде – как колодец в деревне). Там, примелькавшись, заводишь приятелей, которые и знакомят тебя с очередным работодателем. Имя и биография, понятно, сочиняются всякий раз, исходя из ситуации. Ты просто не представляешь, каким количеством имен и биографий обзавелся я за последние годы. Иногда трудно даже вспомнить, кто я был в прошлом на самом деле.
Работа тоже случалась самая разная. В большинстве своем – скучная, но мне все равно нравилось. Чаще всего попадались бензоколонки. Затем – официантом в закусочных. Был я и приказчиком у букиниста, и ведущим радиопрограммы. Копал землю. Торговал косметикой. Между прочим, моей репутации торговца можно было позавидовать…
Ну и, конечно же, спал с разными девчонками. Скажу откровенно: спать поочередно с женщинами разных имен и биографий – штука совсем неплохая.
В общем, примерно так все и вертелось.
И вот мне двадцать девять. Через девять месяцев – тридцать.
Совпадала такая жизнь с моим внутренним «Я» или нет – этого я пока не пойму Может, у меня натура скитальца, помогающая приживаться где угодно; не знаю. Кто-то писал, что для долгой бродячей жизни человек должен тяготеть к какому-то из трех видов деятельности: проповедничеству, искусству или психоанализу. Дескать, без внутренней предрасположенности к одному из этих занятий долго не поскитаешься. Я же в своем характере ни одной из подобных склонностей не наблюдаю (хотя, если уж на то пошло… впрочем, не стоит).
А может быть, я просто по ошибке распахнул не ту дверь и забрел куда-то не туда – но слишком далеко, чтобы отступать назад. А раз уж ошибся дверью, так хоть веди себя прилично. Да и, в конце концов, не всю жизнь же прозябать на кредиты да займы…
Вот такие дела.
Я уже говорил (или нет?), что боюсь вспоминать о тебе. Наверное, ты просто напоминаешь мне о временах, когда я был более или менее приличным человеком.
P. S. Посылаю тебе свою повесть. Ценности для меня она больше не представляет, так что распорядись с ней, как сам сочтешь нужным.
Письмо пошлю срочной почтой – чтобы доставили к 24 декабря. Хорошо, если успеет вовремя…
Как бы там ни было, с днем рожденья.
Ну, и – Счастливого Рождества!
Письмо от Крысы пришло под самый Новый Год – 29 декабря истерзанный мятый конверт просунули мне в щель почтового ящика. На конверте – сразу две квитанции о переадресовке: адрес я сменил много лет назад. Что ж, я сам виноват, что не сообщал о себе.
Четыре странички бледно-зеленой бумаги, заполненные убористым почерком. Я прочитал письмо трижды, затем взял конверт и исследовал знаки на полувыцветшем штемпеле. О городе с таким названием я ни разу в жизни не слышал. Сняв с полки атлас, попробовал отыскать это место на карте. Из некоторых фраз в письме Крысы создавалось впечатление, что речь идет о каких-то северных окраинах Хонсю. Предчувствие не обмануло меня: я нашел, что искал, в префектуре Аомори. То был крохотный, забытый богом городишко: целый час езды на электричке от самого Аомори. По расписанию поезда там останавливались пять раз в день. Два раза утром, один в обед и два вечером. Что такое Аомори в декабре, я знаю: сам бывал несколько раз. Нечеловеческие холода. Светофоры – и те покрываются льдом.
Позже я показал письмо жене. «Бедняга», – только и сказала она. Возможно, она хотела сказать: «Бедняги». Сейчас, разумеется, это не имеет никакого значения.
Рукопись страниц этак в двести я отправил в ящик стола, даже не взглянув на название. Не знаю, почему, но читать ее у меня и мысли не было. Письма было более чем достаточно.
Вслед за этим я уселся на стул перед керосиновой печкой – и выкурил три сигареты подряд.
Второе письмо от Крысы пришло в мае следующего года.
2. Второе письмо Крысы (штемпель:? мая 1978 г.)
Кажется, в предыдущем письме я болтал много лишнего… Вот только о чем – хоть убей, не помню.
Я опять переехал. Нынешнее жилье – не сравнить с предыдущим. Очень тихое место. Может, даже слишком тихое для меня.
Но в каком-то смысле здесь – моя последняя пристань. С одной стороны, я чувствую, именно сюда меня и должно было занести в конечном итоге; с другой стороны – кажется, будто весь свой путь досюда я плыл «против течения». Которое из ощущений вернее – судить не берусь…
Что-то у меня со слогом неладно. Все чересчур туманно – ты, наверное, никак не поймешь, что к чему. А может, ты решил, что меня заклинило на теме Судьбы в своей жизни и прочих фатальных вопросах? Если я и вправду заставил тебя так думать – что ж, никого, кроме себя, за то не виню.
Я просто хочу, чтоб ты понял одно: чем дальше я буду пытаться объяснить свою нынешнюю ситуацию, тем больше таких вот завихрений будет в моем письме, и тут уж ничего не поделаешь. Но с головой у меня все нормально. Нормальнее, чем когда-либо.
Итак, поговорим конкретно.
Вокруг меня, как я уже говорил, – могильная тишина. Поскольку заняться здесь больше нечем, каждый день только и делаю, что читаю (книг здесь столько, что не прочесть и за 10 лет) да слушаю музыку – то радио на коротких волнах, то пластинки (пластинок тоже просто невообразимое количество). Так обстоятельно, с расстановкой я не слушал музыку уже, наверное, лет десять. Просто удивительно, что «Роллинг Стоунз» и «Бич Бойз» еще что-то сочиняют. Все-таки Время, куда ни глянь, сплетает все вещи и события в одно непрерывное полотно, тебе не кажется? Мы привыкли кромсать эту ткань, подгоняя отдельные куски под свои персональные размеры – и потому часто видим Время лишь как разрозненные лоскутки своих же иллюзий; на самом же деле связь вещей в ткани Времени действительно непрерывна.