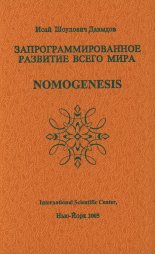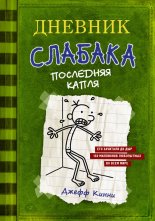Гураны. Исчезающее племя Рукосуев Владимир

ПРЕДИСЛОВИЕ
Кто такие гураны?
Одни ученые пишут, что гураны это результат смешения европеоидной и монголоидной рас, то есть этнос. Другие, что это всего лишь тип местного населения. Водится этот тип исключительно в Забайкалье, а зовется так, потому что встарь мужчины этого явления носили шапки с рожками самца косули. По-монгольски гурана.
Не хочу возражать ученым, косуль тогда было много, а козлов и сейчас в достатке. Но у меня, как некогда к этому типу принадлежавшего, есть своя классификация, основанная на жизненных наблюдениях.
Внешняя отличительная черта гуранов, точнее черты, это их монголоидность. Иногда до полного сходства. Однажды я спросил коллег на новом месте работы как мне утром опознать вахтовый автобус. Мне радостно сообщили, что в 7—00 автобус будет стоять возле магазина «Рассвет» (дело было на КСК в Чите). Для верности нужно держаться Иванова Саши, он здоровый, в унтах и полушубке, не ошибешься.
Я все утро искал Иванова и прозевал автобус. Коллеги назвали меня растяпой и показали «приметного» Иванова. Внешне это был бурят, т.е. монгол в российской интерпретации. Но назови его бурятом – обидится. В Москве на вокзале однажды гуран удивился, как это я определил, что он едет в Читу. А на одном из московских мероприятий, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к забайкальской среде я подошел к компании читинцев и предводителю с чисто гуранской внешностью неуклюже отпустил комплимент вроде того, что нас ни с кем не спутаешь: «Глаз узкий, нос плюский, чистый русский!». Оказался без чувства юмора и дружба не состоялась. Кстати, тоже оказался Ивановым.
Но внешность, все же, не единственное и не главное определяющее качество гурана. Есть гураны и с чисто европейской внешностью. Или не очень перемешались или приобрели свойства гурана в результате проживания в этой местности.
Кстати, о местности. Нельзя считать, что все проживающие в Забайкалье поголовно гураны. Даже местные.
По моей классификации принадлежность к этому племени можно присваивать только носителям определенной субкультуры.
На первый взгляд это может показаться абсурдным и спорным. Я считаю, что гураном можно стать не только по рождению, но вследствие воспитания в среде с малолетства, если попадаешь в нее с детства, как Маугли в стаю. А еще гураном можно перестать быть. Попытаюсь разъяснить свою мысль на примере. Маугли пожил с людьми, перенял их привычки и перестал быть волком. Как паста. Выдавить из тюбика можно, а вернуть уже нельзя.
Один из моих коллег, когда в начале возрождения казачества объявилось много атаманов, и они соревновались, завлекая в свои ряды как можно больше статусных фигур, с деланным простодушием спросил:
– А казаки это нация или сословие? Вот вы хлопочете о причастности к репрессированным народам, значит все-таки нация?
– Ну, да. Этнос такой.
– Этнос это почти нация?
– Конечно!
– А я могу стать казаком?
– Любой может. Вступайте к нам.
– И сразу стану казаком?
– Да, как только на круге «Любо!» скажут.
– Странно… Вот я могу принять китайское гражданство, но китайцем от этого мне не стать. А казаком могу. Как же это получается?
Все-таки, казаки это носители определенной субкультуры. Пусть они это называют традициями дедов, духом народа, как угодно. Подтверждается тем, что когда их не чествовали, то их и не было. Как только привилегиями запахло, так они и объявились. В их рядах оказались и евреи и горцы, а возглавили их впоследствии профессора и генералы со смутным происхождением, но явной принадлежностью к структурам профессионально подготовленным направлять в нужное русло любые сообщества. Никакой этнос все это не напоминает. А напоминает массовку под управлением умелых аниматоров, а иногда и стадо овец на мясокомбинате под руководством тех, из кого гураны раньше шили шапки.
Гураны же, будучи казаками, атеистами, православными и кем угодно, прежде всего, являются гуранами. Но сохранить эту культуру можно только там, где не меняется образ жизни предков. Как только они отрываются от родных корней, так сразу утрачивают свое гуранство. И тем, кому повезло с европейским обликом, вообще его подтвердить не смогут.
Собственно гуранские черты характера включают в себя: прямодушие, бесхитростность, личную храбрость, преданность, способность к взаимовыручке. За это они ценились на всех войнах. Отличаются трудолюбием, за что ценятся повсеместно. В чужой среде, скажем в городе, приходится идти на компромиссы, приспосабливаться, ловчить, т. е. отказываться от своих родовых привычек. И все, это уже не гуран.
У гуранов, помимо всего, есть собственный диалект, почти язык, который понимают только они.
Вот тестовый отрывок речи:
– Лонись с братаном на Халзанке хлынял еланью всундалой.
В переводе:
– Прошлогодней осенью мы с двоюродным братом ехали мелкой рысью по склону горы с еловой порослью вдвоем на одной лошади, у которой была белая полоса на морде.
Оцените лаконичность. В немногословии коренные гураны не уступят финнам, что тоже часто служит темой фольклора.
А вот за пределами проживания они своего говора стесняются, Считая признаком необразованности, дети их, его вовсе утрачивают.
С сокращением ареала обитания племя гуранов стремительно исчезает. Причина не только в естественной убыли населения, но и в условиях, которые образовались в результате преобразований в советские времена с провозглашенным «слиянием города с деревней» и последующих «реформ» в стране, «стабильностей и развития».
В результате созданные в забайкальском селе условия оказались непригодными для нормальной жизни. Все кто способен получить информацию, а сейчас это не трудно, кто выезжал за пределы края и способен анализировать, сравнивать, стремятся вырваться, с кровью отрывая свою пуповину от родимой матери-родины. Препятствием для бегства на сегодняшний день является только материальное неблагополучие.
А если выехал, то ты уже не гуран, ибо сохранить свои качества в чужой среде невозможно.
Мне тем более жалко наблюдать исчезновение этого чудесного народа. Сам, будучи ребенком, завезенным в целинные годы в забайкальскую деревню, был гураном.
О том, как иногда вопреки здравому смыслу выживали гураны в благополучные, казалось бы, времена я и рассказываю в этой книге.
На фото автор в семнадцать лет.
ГЛАВА 1. ВОЖДЬ
В полдень раньше времени из школы вдруг прибежала в слезах двенадцатилетняя Галька, тетка. С порога истерически закричала:
– Спите здесь!
И захлебнувшись рыданиями, выбежала на улицу. Бабушка вскочила, отдернула занавеску на окне, ахнула:
– Помер, поди!
Выбежала, на ходу накидывая на себя верхнюю одежду.
Мне не было еще и пяти лет, конечно, я не мог отстать. Выбежал в коридор барака как был, без верхней одежды. Следом двоюродные сестры Томка и Танька. Соседка перехватила всех и загнала назад в комнату. Потом вернулась бабушка, забрала меня, кое-как накинув одежонку, а младших заперла в комнате. Мы побежали на какую-то площадь, где уже собирался народ. Над головами разносился скорбный и торжественный голос. О чем он говорил, я не понял, но все вокруг плакали, некоторые обнявшись. Голос разносился из тарелки на столбе. Обычно из нее лилась музыка, иногда песни и гимнастика. Вообще, до этого дня я ничего в своей жизни не помнил. Видимо всеобщее потрясение подвело черту под моей прежней бессознательной жизнью, тревога окружающих, почти осязаемая, заставила осмысливать действительность. С того дня я уже помнил почти все, что происходило вокруг и со мной. Наверное, кончилось «безмятежное детство». Если принимать этот штамп, то, какое детство началось? Мятежное? Тогда я об этом не думал, а стоял и ревел вместе со всеми, чувствуя, что неотвратимо надвигается что-то неизвестное и страшное. Такое же, как ежедневное появление в бараке соседских пьяных дядей с криками, ругательствами и потасовками. Тревога нарастала по мере увеличения толпы. Потом речь закончилась, появился дяденька, стал говорить и распоряжаться. Люди вокруг еще сильнее зарыдали и разволновались. Толпа теснилась, продвигаясь к оратору, и меня чуть не затоптали. Бабушка взяла меня на руки, стала выбираться из толчеи. Какой-то мужчина посадил к себе на плечи, я увидел, что людей много, а плачут только женщины. Немногочисленные мужчины молчат с суровыми лицами. Дома я спросил, почему все плакали. Бабушка сказала, что умер вождь, и показала на портрет красивого усатого дядьки, похожего на соседа – шахтера, которого звали Давид. Он всегда приходил с работы черный и страшный, потом долго фыркал в общем душе под ругань жильцов и выходил оттуда красивый и веселый, протирая полотенцем толстые усы. Еще она сказала, что теперь будет война, и заплакала. В это время в армии служил ее сын, мой дядя и отец Таньки, и зять, Томкин отец. Своего отца я не знал, а матери наши все были на работе, моя и Танькина на шахте, а Томкина в больнице, она работала фельдшером.
Я обрадовался, хотел идти воевать, чтобы уехать от надоевших сестренок, которых меня обязали опекать, и за которых частенько попадало. Стал тут же собираться, но бабушка, смеясь сквозь слезы, сказала, что войну еще не объявили и повестку не прислали, придется подождать. Ждать я не любил, но смирился.
С работы пришли наши мамы, снова все поплакали, потом успокоились, только прабабка, крутилась по комнате и спрашивала, кто помер. Ей объясняли, она кивала головой, прикладывала уголки платка к глазам, потом снова спрашивала. Весь этот день говорили только о том, что теперь будет, и до нас никому не было дела. Мы играли в «смерть вождя», заканчивалось войной, а я был главным героем, для чего нарисовал себе сажей из печки усы.
В этот вечер даже соседские мужчины пришли с работы трезвые, никто не кричал и не пугал нас. За столом взрослые стали обсуждать случившееся, а потом вдруг все замолчали и тут старенькая бабушка, в полной тишине возвестила, показывая на портрет на стене:
– А вы знаете? Вот этот мужик-то, он ить, помер!
Взрослые рассмеялись. Потом бабушка, спохватившись, прикрикнула:
– Тише, дуры! Сталин помер, а вы смеетесь. Хотите, чтоб написали?
Все замолчали. Я не понимал, что так их испугало. Откуда мне было знать, что это семья осужденного и сгинувшего перед войной военного, выжившая, только потому, что удалось скрываться в леспромхозах и рудниках. А дощатые перегородки барака пропускали все звуки. Освободившуюся от многочисленных, расплодившихся жильцов комнатенку мог получить любой из доносчиков.
На следующее утро войну еще не объявили; нас одели и отправили на улицу гулять, наказав мне при этом, чтобы смотрел за девчонками, а то влетит, как следует. Мне это наказывали каждый день, и почти каждый день влетало. То за толстую Томку, которая была младше меня на восемь месяцев и не всегда слушалась. Приходилось бить. То за трехлетнюю Таньку, от которой мы убегали, заигравшись. Ее приводили домой взрослые, и тогда бабушка наказывала меня. Все справедливо, ведь в семье, кроме меня мужчин не было. Даже когда не было угля для печки, мне пеняли, что я не заготовил. Тогда я ревел, возмущенный невыполнимостью задачи, под хохот взрослых:
– Нахрена мне ваш уголь!
Мама успокаивала, говорила, что придут из армии дядя Женя и дядя Саша, тогда я с ними и заготовлю. А сейчас все шутят. И что я зря от соседей плохих слов набираюсь и торчу там, когда они «гуляют». Но меня тянуло к чужим мужчинам, своих то я не помнил.
Они возникли в нашей жизни как-то одновременно. Красивые, большие, сильные, долго ходившие в солдатской одежде. Мы ими гордились. Весь барак стал нас уважать, а соседские пьяницы присмирели. Оба веселые, не делящие детей на своих и чужих. Теперь я больше ездил на их плечах или мне так запомнилось от мальчишеского тщеславия. Оба пошли работать в шахту. Ходили все время вдвоем, пока к ним не присоединился вдруг появившийся у меня папа, тоже в форме, да еще и с медалью за освобождение Китая, которую давал мне поносить. Он тоже работал в шахте. По вечерам они иногда выпивали, бабушка ворчала, а они смеялись. Ругала их за пенсию старенькой бабушки, которую той приносили, а она забывала, куда ее положила. Бабушка подозревала, что сын или зять выманивали пенсию, их выпивки часто возникали после ее пропажи.
Жили в тесноте, в семье с детьми было двенадцать человек. По сути, в одной комнате жили четыре семьи. Считалось, что это временно. Из мебели две кровати, сундук и стол. На кроватях спали бабушка и Галя – младшая тетка, на сундуке прабабушка. Остальные на полу. Вечером постель стелили, утром убирали.
После ужина взрослые уходили, вероятно, из-за тесноты и приходили только спать. В теплое время года все жители барака были во дворе. Турник, домино, карты, лото, скакалки, лапта. Там же чаепития, выпивка, иногда драки и разборки. С появлением мужчин ушла тревога, нас уже не трогали посторонние, мы не боялись ходить по двору и улице. Поселок Букачача маленький, все друг друга знают, детей излишне не опекали.
Как-то летом мне дали денег и разрешили купить квас в киоске через дорогу. Пошли втроем. Купили квас, сладкий и шипучий, не утерпели и выпили его за стенкой киоска, пристроившись под лучами ласкового весеннего солнышка. Танька первая стала как-то смешно разговаривать. Ей было уже три года, но она вдруг стала забывать слова. Потом посреди веселья легла на землю и уснула. Возле нее пристроилась разомлевшая Томка. Мне было весело, я не мог их растолкать и пошел звать взрослых. Во дворе присел на скамейку и тоже уснул. Меня нашли и разбудили взрослые, спросили, где девочки. Я сквозь сон сказал, что они спят возле киоска. Это надолго стало веселой притчей в семье. Продавщица продала нам старый забродивший квас. Так мы нечаянно впервые в жизни отведали взрослых радостей.
Вечерами нам читали сказки, разучивали сценки. У женщин других развлечений не было, занимались нами. Все, начиная с бабушки, освоившей грамоту в ликбезе, увлекались чтением. Хвастались добытыми напрокат книгами, передавали друг другу, берегли. Нам читали вслух, заставляя разучивать наизусть стихи. У меня была хорошая память, потом рассказывал сказки и стишки своим подопечным. Как-то получилось, что сам начал читать после того, как школьница тетка показала буквы. В заголовках газет находил ошибки. Например, в слове «США» пропущена буква «а». Доказывал, что это имя «Саша». Тетка увлеклась, принесла сказки, я по слогам стал читать их сестренкам. Все сказки мне очень нравились, но некоторые персонажи впечатлили особенно, чем пользовались взрослые для моего укрощения. Например, меня почему-то пугал одноглазый разбойник из «Али-Бабы».
Зимой общественная жизнь протекала в коридоре. Двери многих комнат не закрывались, можно было подсмотреть, что происходит у соседей. Даже поучаствовать. Однажды мне попало от бабушки за старенькую соседку. У них в комнате висела единственная икона на весь барак. Кроме их бабушки никто не молился. Зато над ней все подсмеивались, награждая нелестными эпитетами. Поэтому мы усвоили, что молитва занятие недостойное и смешное. Я подсмотрел в открытую дверь, как она молится, и когда та встала на колени и стала бить поклоны, с разбегу запрыгнул ей на спину. Не ожидавшая в молитвенном экстазе такого святотатства, старушка упала, я перелетел через ее голову и убежал. Бабушка, хоть и смеялась, как и все, мне всыпала так, что я это развлечение оставил навсегда.
Нас решили отдать в детский сад. Я в нем пробыл до обеда. Видимо, в садике была одна группа. При мне воспитательница стала ругать Таню, а я, привыкший их защищать, набросился на нее с кулаками. За это был «посажен на стул» – страшно унизительное наказание. Убежал из садика домой и наотрез отказался от этого учреждения.
Жили мы возле инфекционного отделения больницы. Очень интересное место с дырой в заборе, через которую тетя Тося ходила на работу. Я водил туда Томку и Таньку. Место для детских игр было неподходящим, но очень привлекательным. Отучить удалось с помощью больного, который перевязал глаз и с искаженным лицом зарычал на меня при очередной попытке проникнуть на территорию больницы. Помню, что он мне долго снился со своими сорока приятелями. Я вскакивал по ночам, а бабушка ругала тетю Тосю.
ГЛАВА 2. И НОСИЛО МЕНЯ
Семейство задумало переезжать в Читу, откуда все были родом. Перед войной пришлось бросить родной город и скитаться по чужим углам.
Дед наш, Василий, был из беспризорников. Остался без родителей, сосланных, как говорили, из Польши на каторгу в царские времена и сгинувших в безвременье. Может быть, красивая легенда. Откуда в Польше исконно сибирская фамилия? В четырнадцать лет в девятнадцатом году прибился к красным партизанам и провоевал до конца Гражданской, закончившейся на востоке страны в двадцать третьем году. К этому времени восемнадцатилетний парень уже был заслуженным, неоднократно награжденным за храбрость, бойцом. К тому же успел освоить грамоту. Его направили на курсы красных командиров. Повоевал под началом Блюхера, стал делать карьеру. Женился на бабушке Нине Яковлевне, неграмотной, наверставшей этот пробел в ликбезе. Она так пристрастилась к чтению, что привила эту любовь всем детям и внукам, которым пришлось с ней пожить. Я так и помню ее с книжкой в руках вместо привычного вязанья у других старушек. Она единственная кто никогда не ругал нас за чтение.
В каком-то из тридцать проклятых годов деда забрали и осудили. Было это в Иркутской области. В части, где он служил начальником штаба, сгорел дом офицерских служащих. Командование части было арестовано. Говорят, всех расстреляли, кроме деда, которого спасли награды и заслуги в Гражданской войне. Может быть, хотя тогда награды и наркомов не спасали. Кто-то из его сослуживцев, рискуя собой и семьей, посоветовал бабушке уехать из области, т.к. дело местного масштаба и разыскивать не будут. И поехала почти генеральша с тремя детьми в Читинскую область в глухую деревню Дровяная в леспромхоз. В Читу, откуда была родом, ехать побоялась. Попали туда после войны уже с Галей, которая появилась на свет от второго замужества, о котором мы ничего не знаем, старшие не вспоминали.
Так и скитались, особенно дядя Женя. Он убежал из дому и бродяжил всю войну, появляясь изредка завшивленный и потрепанный, чтобы оправиться от беспризорной жизни, потом исчезал снова и в следующий раз мог появиться разодетым франтом с подарками и деньгами. Деньги быстро кончались, он снова исчезал.
О его приключениях еще долго рассказывали родственники. Мне запомнился случай из жизни шпаны военных и послевоенных лет. Рассказывался он с явной симпатией к героям, занимавшимся мелкими кражами, а при случае и грабежами на поездах. Как-то выследили они на вокзале розовощекого кругленького «барыгу» с объемным мешком, явно, ценного добра. Запрыгнули на ходу вечером в тамбур. Проследили куда он сел. Света в теплушке не было. Решили дождаться ночи, и на знакомом им перегоне, когда поезд замедляет ход, вырвать мешок и прыгать. Роли были расписаны. Кто стоит на дверях тамбура, чтоб открыть, кто рвет мешок, кто мешает преследователям. Дождались, пока все пассажиры уснули, собрались в тамбуре, шепотом посовещались. Публика была такая, что их обходили стороной, держась за карманы. Милиции на дороге было мало, да и та не очень расторопная, нормальных мужиков давно забрали на фронт. Зато она имела право стрелять сразу на поражение. Так что игра была опасной. Выяснилось, что барыга, за годы промысла выработавший чутье, видимо заподозрил неладное и мешок привязал к себе, сорвать его не удастся. А намеченный перегон приближается, надо торопиться. На ощупь определили, что мешок тугой и мягкий. Так часто маскировали сало. Замотают в газету, потом уложат в мешок, туго набивают его мукой, чтобы не прощупывалось. Рецепт на такие случаи был простой. Бралась опасная бритва, два пальца незаметно накладывались на мешок, и бритва между ними глубоко прорезала ткань, так чтобы сало вывалилось. Подхватывали добычу и убегали. Утром незадачливый коммерсант просыпался в обнимку с пустым мешком, а мука разносилась по всему вагону ногами пассажиров. Полуголодные пассажиры теплушек таким пострадавшим не сочувствовали, даже злорадствовали.
В этот раз резать мешок выпало дяде, как самому опытному. Было ему уже пятнадцать, стаж бродяжничества года три. Прокрался к объекту, привалился, будто спящий сосед, который просто сменил позу. Наложил на мешок руку и полоснул бритвой. В следующее мгновение какая-то невероятная сила отшвырнула его в сторону. Одновременно раздался душераздирающий рев. Вся банда сыпанула под откос.
Когда собрались после эвакуации и поделились впечатлениями, выяснилось, что барыга для пущей сохранности повернулся и лег на мешок. А дядька нащупал в темноте его пухлый зад.
К двадцати годам не имел документов, зато обзавелся прошлым, которое светлого будущего не сулило. Тогда он пошел на очередную авантюру. Выкрал мое свидетельство о рождении, исправил в нем дату рождения и в соответствии с ней, поехал в шестнадцать лет из Букачачи, где семья к тому времени оказалась, в районный центр поселок Чернышевский, получать паспорт. Переночевав на вокзале в привычных условиях, небритый и помятый он сунул голову в окошко паспортного стола, немало удивив сотрудницу:
– Ого! Вот это юноша! Каким же ты в двадцать лет будешь?
Дядя, которому как раз двадцать и было, прикинулся деревенским дурачком и засмущался. В свое время ушел в армию, отслужил. Так и жил с опозданием в четыре года. Привычки свои не утратил и потом. Мне было восемнадцать, когда он попросил у меня ружье пострелять и пропил его. Когда я служил в армии, он наведался в гости к своим сестрам. Приехав, я не обнаружил своего единственного приличного костюма. Среди родственников все ему сходило с рук, списывалось на тяжелое детство.
В Читу поехали не все. Родители Томы и Тани остались. Бабушка с Галей и наша семья переехали. Стали приспосабливаться к новой жизни. Помню, что сначала было очень весело, поселились в доме родственников. Семья была многодетная. Глава, дядя Степа, брат бабушки, высокий слепой и немногословный старик, которого водили по очереди подрастающие сыновья, все как один в детстве отчаянные хулиганы, а потом горькие пьяницы. Билась со всем этим семейством его жена тетя Катя, никогда не сидевшая праздно, всегда в хлопотах по хозяйству на огороде и за козами, чем и жила семья. Крупная рыхлая и добрая. Даже меня успевала приласкать и погладить по голове, чего так не хватало ребенку, у родителей которого в хлопотах по обустройству на новом месте времени не было. Часто плакала. Потом я узнал, что она вспоминала своих погибших на войне сыновей и братьев.
Запомнился рассказ матери о молодости тети Кати и дяди Степы. Жили в одном селе, тетя Катя была статной красавицей, дочерью местного купца, по деревенским меркам зажиточного. Степка, сын многодетного бедняка, вздорного и задиристого, не почитающего сельских богатеев, верховодящих на всех сходах и навязывающих свои решения бедноте.
Родители категорически возражали, когда заметили симпатии молодых людей друг к другу. Купец не хотел опускаться до такой родни, а отец Степана не желал родниться с заносчивым односельчанином.
Все это пришлось на лихую пору гражданской войны. Когда семеновцы в восемнадцатом году погнали красных, куда успел попасть Степан, всем уцелевшим пришлось уходить в леса и там отсиживаться, делая вылазки в зависимости от обстановки и активности командиров. Многие просто спасались.
Командир Степана, легендарный Погодаев, отсиживаться не любил, объявил свой отряд коммуной и увеличивал его за счет убегавших от зверств семеновцев жителей. Однажды, планируя очередную вылазку, Погодаев отправил группу партизан на разведку в родное село Степана. Как знающий местность и людей в группу был включен и Степан. Им не повезло, дозорные обнаружили группу на подходе и обстреляли. В темноте партизаны разбежались, при этом растеряв друг друга. Зимой не очень-то побегаешь, поэтому Степан ушел на заимку купца и прожил в ней впроголодь с неделю. Стрелять нельзя, ловил в силки рябчиков. Потом для какой-то надобности там появилась тетя Катя, прямо как в «Даурии» К. Седых. Так периодически снабжавшийся провизией дядя Степа прожил с месяц и потом ушел к партизанам уже развернувшими настоящий фронт, в итоге прогнавший семеновцев. Красные, заняв села, начали мстить и освобождать их от приспешников атамана. Под горячую руку попадали все, кого можно было заподозрить в пристрастии к врагу или объявить чуждым элементом. В число первых попадали зажиточные. Так и семья купца не смогла бы уцелеть, не заступись за нее заслуженный к тому времени партизан, наш дядя Степа обязанный этой семье жизнью.
С тех пор прошло тридцать лет и худой высокий дядя Степа, передвигавшийся с помощью сыновей, ничем не напоминал геройского партизана. С детьми не повезло. Средний Вовка, когда ему выпадала очередь водить отца, запросто мог завести в незнакомое место и убежать. После того, как направил его в выгребную яму общественного туалета, был освобожден от этой обязанности.
ГЛАВА 3. ОТДЕЛЬНЫЕ НОГИ
Через некоторое время мы переехали к родителям моего нового папы. Ярких впечатлений я там не получил. Детей в семье не было. Зато была бабушка, которая не отпускала от себя и следила за каждым моим шагом, что мне, непривычному к излишней опеке не нравилось. Была еще младшая сестра отчима Галя, которая незамедлительно занялась моим воспитанием, продолжив дело первой моей тети Гали. Они были ровесницами, так что эстафета была подхвачена удачно, и пробелов в постижении грамоты у меня не оказалось.
Жили мы здесь недолго. Запомнилось, что по утрам бабушка и дед, шепотом шушукаясь, заглядывали ко мне за занавеску, которой была отделена наша кровать, убеждались, что я сплю, потом дед начинал одеваться. Однажды я притворился и увидел такое, что поразило меня не меньше чем Али-баба. У деда ноги отстегивались! Они отдыхали прямо в унтах отдельно от него под кроватью, и он их утром пристегивал на место. Я долго размышлял над этим, потом решил, что это для удобства. Сам я тоже не любил одеваться и обуваться. Родителям вопросы задавать не стал, понимая по поведению стариков, что это надо скрывать. Долго гадал, как деду удается эта хитрость, пробовал отстегивать свои ноги, но у меня ничего не получилось. Они долго прятали от меня протезы, одергивая друг друга: «Тише стучи, ребенка напугаешь!», – когда укладывали их под кровать.
Перестали таиться, после того как не нашли протезы на месте. Долго ругались, обвиняя один другого, что после вчерашней «гулянки» закинули ноги не на место. Все это украдкой, боясь, как бы я не наткнулся на протезы, и не хватил бы меня «родимчик». Тайком выглядывая из-под одеяла, ждал, как же теперь дед будет ходить без протезов, которые сам я и спрятал перед этим из любопытства. Деду было около пятидесяти лет, не имея обеих ног, он ходил с тростью так, что я за ним не успевал, а увеселившись, еще и пытался плясать. Работал сторожем в угольном разрезе, куда мы с бабушкой приносили ему обед и увозили домой тачку угля, который как инвалиду ему разрешали рубить кайлом для отопления. Я сидел наверху угольной кучи на зависть встречным мальчишкам.
Когда уже был взрослым, дед открыл мне свою тайну и многое другое из своей непростой жизни.
Уроженец таежной деревушки, ни дня не ходил в школу, так и не научился читать до конца жизни. В тридцать втором году, когда ему было двадцать семь лет, чуть ли не впервые выбрался из тайги и устроился помощником оператора котельной на Черновскую электростанцию, первую очередь которой только что запустили. Если проще, то оператор котельной это старший кочегар. Его помощник как обладатель недюжинного здоровья, «стоял на лопате», топливом служил уголь. По воле судьбы начальником деда, старшим оператором был дед моей будущей жены Пушкарев Василий. Дед его боготворил, что подтвердил впоследствии своей готовностью пожертвовать за него здоровьем и жизнью.
В тридцать седьмом году начальника арестовали. Через некоторое время арестовали и деда. Из него побоями выбивали признание, что он под руководством своего старшего товарища помогал кому-то из руководства электростанции, подготовить ее взрыв. Допросы проводились примерно по одной схеме. Сначала уговаривали, потом били. При потере сознания отливали водой и снова били. Когда уже было невмоготу, дед признавался и следователь писал протокол. Дед тянул время, прикидываясь дурачком, для отсрочки побоев. Потом отказывался подписывать по неграмотности. Мало ли что вы там написали. Его снова били до бесчувствия и бросали. Так было несколько раз. При смене наркома, многих из тех, кого не успели осудить, и кто не подписал признательных показаний просто повышвыривали из тюрем. Дед Пушкарев тоже ни в чем не признался. Его полтора года калечили, на свободу вышел без зубов, с переломанными ребрами и отбитыми внутренностями, здоровье так и не восстановилось.
А наш дед, выйдя на свободу из Ингодинской тюрьмы, получил на автобусный билет монету в порядке компенсации за ошибку «органов».
– Вышел я, Володя, на улицу, смотрю, стоит «гайка» (так назывались рюмочные за шестигранную форму киоска), дай, думаю после такого выпью, а до дома как-нибудь доберусь. Хватило на стакан красного. Выпил, а встать не могу. И вот тут заплакал. Сколько меня мордовали и запугивали, я только злился, но, ни разу не плакал. А тут заплакал.
– А что это ты заплакал?
– Так испугался. Я ведь раньше ковшами пил. Хвачу ковш самогона или спирта и иду подвиги искать. Здоровый был, смену возле топки без перекуров выстаивал. А тут от стакана красного ноги отнялись. Что же, думаю, гады, вы со мной сделали? Я от красных петлиц еще долго вздрагивал и обходил их десятой дорогой.
Дед до войны так и работал на электростанции. Призвали его в тридцать шесть лет. Попал в противотанковую артиллерию ездовым. Под Ленинградом получил тяжелые ранения, ноги оказались нафаршированы осколками. Три года провел в госпиталях, ноги укорачивали ломтями, домой не писал. Поначалу пробовал, но ответов не было, и он перестал. Когда вернулся домой на культяпках чуть ниже колен, узнал, что жена его спилась, ушла неизвестно куда, а четырехлетняя дочка, которая родилась без него, живет у чужих людей. Забрал дочь, стали жить вдвоем. Потом сошлись с бабушкой, взрослые дети ее уже разъехались, так и жили до конца своих дней.
Дед и после поражал своим упрямством и преданностью идеалам молодости. Спустя много лет, в шестидесятые после разоблачения культа личности, стали сносить памятники Сталину. В Красном уголке, как назывался клуб, на втором этаже стоял большой гипсовый бюст Сталина. Его уничтожить не успели. Никто не мог понять, куда он исчез. И много лет спустя, когда в семидесятые годы, стало модно возить на лобовых стеклах автомобилей портреты Сталина, а приверженцы открыто призывать к его методам наведения порядка в стране, я пришел в гости к деду. В переднем углу на тумбочке стоял роскошный бюст генералиссимуса, выселив единственную дорогую вещь в доме – телевизор, на подоконник. Одно ухо у него отличалось по форме и цвету. Оно было случайно повреждено, когда дед десять лет назад ночью тайком выкрал его и спрятал у себя дома.
Человек, которого под мудрым руководством вождя мордовали ни за что в подвалах, потерявший ноги на войне и не получивший достойной пенсии, подрабатывающий физическим трудом, чтоб прокормиться, в шестьдесят лет, будучи инвалидом первой группы, не побоялся рисковать, испытав на своей шкуре как власть поступает с неугодными. А восстановление уха с учетом риска он оплатил оформителю какого-то предприятия половиной своей скромной пенсии.
Здесь мы прожили до весны. А на следующий год было объявлено о грандиозных планах освоения целинных земель и призывах к населению на эти планы откликнуться. Мои родители откликнулись одними из первых. Отчим окончил курсы трактористов, получил направление, и мы отправились, полные энтузиазма и решимости осчастливить еще не отъевшееся после войны население страны полными закромами. Взрослых очередные перемены тревожили. Но не меня, за последний год своей жизни сменившего несколько мест проживания.
ГЛАВА 4. НАМ НЕТ ПРЕГРАД
На целину мы попали в самом начале. Приехали втроем – мама, папа и я. Правда, папа не настоящий, но кроме них никто этого не знал. Мне год назад сказали, что он пришел из армии, будет жить с нами и надо звать его папой. Я обрадовался и не возражал. У двоюродных сестренок были папы, а у меня не было.
Вероятно, гиря на ногах в моем лице не давала широко шагнуть, и решено было отправиться не в героический Казахстан, где первые поселенцы жили в палатках, а в более скромные собственные степи Забайкалья.
В здешних степях могла бы разместиться половина европейских держав, но для нашей великой Родины это была такая мелочь, что об этой целине я не встречал ни одной публикации, хотя подвигов там было немало и, без иронии, самоотверженных. Например, в нашем совхозе стоял сгоревший трактор С-80. На нем кавказский тракторист по имени Оскар, погиб, опахивая отару овец, спасая ее от огня. Что такое целина мне не объяснили, поэтому важностью момента проникнуться я не мог, но предстоящие приключения, которыми любой переезд просто обязан сопровождаться, очень возбуждали.
Итак – в путь!
Раздобыли какую-то тележонку, покидали на нее скарб, простились с родственниками и поехали на станцию, все пешком, я верхом на узлах, понукая лошаденку. Сзади прыгали соседские мальчишки, жутко мне завидуя. Провожал нас дядя Вася, рыжий как огонь и веселый. Все пугал меня, что я свалюсь и останусь. Это он недавно катал меня на раме велосипеда и неудачно. Моя нога попала в спицы колеса, мы упали. При этом я поранил пятку, в рану попали крупный песок и мелкие камешки. Промыли, залили зеленкой, перевязали. Последние камни, которые остались внутри я выковыривал из-под кожи, уже служа в армии.
Как добирались – в памяти не отложилось. А жаль, весна, двести километров полного бездорожья от последней железнодорожной станции Борзя, должны были впечатлить.
Ну да ладно, приехали в Быркинский район (центр село Бырка в сорока километрах от китайской границы), затем в совхоз в пятидесяти километрах от райцентра, потом в отделение (в просторечии 3-я ферма) еще пятнадцать километров от центральной усадьбы совхоза (так и называлась «Центральная», название села – Бутунтай).
Автомашин на той целине не было, значит на телегах, т.е. взрослые пешком.
Выгрузили возле управления, которое звали исключительно «Конторой», и тотчас собралась толпа смешно и громко говорящих, без стеснения разглядывающих нас, а то и пытавшихся пощупать, людей, одетых очень по разному: от модных тогда шаровар и платьев под Любовь Орлову до замызганных телогреек и брезентовых штанов спецодежды.
Подошел управляющий («управ»). Скуластый, плечистый дядька с раскосыми, как у большинства собравшихся здесь людей, глазами. Зычным голосом пустил всех по матушке, и толпа быстро повиновалась.
«Принесло вас на мою голову, куды ж девать?».
После недолгих раздумий приказано было позвать «Каргиху». Пришла женщина лет 40, махнула рукой в направлении своего дома: «Пошли, хозяин с отары приедет, с управом сам разберется».
Так мы оказались на целине. Вообще-то это был овцеводческий совхоз, но степей в нем было столько, что часть пастбищ решили отдать под целину. Раньше хлебопашеством здесь никто не занимался, так что мои родители из шахтеров превратились в, пока единственных, целинников.
Отчим тракторист, мать продавщица на радость всем, т.к. до нее грамотных и способных к этой работе не находилось. Ну а я стал вольношатающимся к великому осуждению селян. В таком возрасте болтаться без работы считалось очень неприличным. У всех сверстников были обязанности по хозяйству, главным образом, уход за скотиной или работа в совхозе. Скотины у нас, понятно, пока не было, а на работу меня родители не пускали. У них были об этом свои, городские, представления. Да и не взяли бы местные по причине полной моей непригодности и безответственности. Оно и понятно. На сакман, ягнят пасти не отправишь, не углядит и своих с чужими перепутает. На волокушу сено возить – на лошади не умеет ездить.
Любой род занятий сопряжен с навыками, привитыми ребятишкам с младенчества. Презрению этих тружеников не было границ.
Поселили нас, пока строился наш дом, у Каргиных на квартире. Дома там у всех были на один лад, внутри одна комната, поделенная русской печью на две части – спальную вповалку и подобие кухни. Отличались только размерами. Отопление дровами, освещение керосиновой лампой. У всех самовары, примусы, керосинки. У родителей кровати, у детей топчаны. Старики и маленькие дети на печке. У Каргиных было трое сыновей и одна дочь. Отец и двое старших сыновей дома появлялись редко, жили на отаре. Младший, Гошка, был меня на два года старше, но в семье считался маленьким и ему все угождали. Дом утром просыпался от его истошного с надрывом вопля: -«Слиииивааааку!». Это он, еще не открыв глаза, требовал сливки. Мать с кружкой бежала к нему на печь. Потом пили чай и он, как и все, шел заниматься хозяйством или на работу. Семья считалась зажиточной. Они первые купили мотоцикл и веселили им всю деревню. Старый Каргин был патологически жаден. У него под замком в кладовой (по местному «казенке») висело на шпалерах сало. Свиньи забивались каждый год и старому желтому салу, лет было не меньше, чем Гошке. Но старик, приезжая раз в неделю на выходные, выделял именно старые запасы, а свежее сало оставалось желтеть. С мотоциклом то же самое. Купил, а сам ездить не может, потому, что инвалид. Взрослым сыновьям не дает, жалко. Но они приспособились, укатывали вечером мотоцикл из сарая за деревню, уже там заводили, чтоб родители не услыхали и до утра катались с девчатами. Когда мы у них поселились, парней чуть не сдал мой отчим. Старик попросил его как механизатора посмотреть мотоцикл, т.к. его за два года ни разу не заводили после покупки. Тот глянул и говорит:
– Отец, тебя надурили, мотоцикл с пробегом продали.
– Как так, он же в упаковке был?
Тут отчим увидел встревоженные, мягко выражаясь, лица сыновей и быстро нашел выход. Выяснил у старика, что мотоцикл стоит на подножке с поднятым передним колесом и объявил, что через щели в сарае ветер крутит колесо и наматывает пробег на спидометре. Колесо поставили на землю, неприятность устранили, а парни уцелели. Старший сын, Геннадий, иногда устраивал акты неповиновения. Запомнился один, перед его уходом в армию. Пришла повестка, а отцу вдруг захотелось его женить, льготы или еще что-то можно было выхлопотать. Объявил об этом сыну и, не слушая его возражений, поехал в соседнее село Манкечур сватать невесту, которую сыновья в глаза не видели. Сосватал, объявил день свадьбы, пригласил гостей. Геннадий возражает, а приготовления идут своим чередом. Выполняются все положенные ритуалы, назначаются ведущие, дружки, кто там еще. В день свадьбы все наготове, ждут сватов с невестой и новой родней. Тут вдруг Санька, второй сын, который на 2 года младше жениха, приходит и говорит, что Генка сбежал куда-то и до ухода в армию не появится. Позор полбеды, а затраты какие! Старик нашел выход: поняв, что Генку не достать, а сваты подъезжают, заставил жениться семнадцатилетнего Саньку. И ничего, нормальная семья получилась.
ГЛАВА 5. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Козел был большой, бородатый и страшный. Он уперся мне в голый живот метровыми перекрещенными рогами и противно мекая, выдавливал из него жизнь, взамен наполняя ужасом. На заборе бесновались мои новые друзья, восхищенными возгласами выражая восторг. Я орал так, что заглушил все звуки и опомнился, когда в загон влетела какая-то тетка с ведром в руке, которым стала охаживать моего рогатого обидчика, разбрызгивая во все стороны молоко из подойника. Тот бросил меня и напал на тетку. Я, обезумев от страха и боли, пытался залезть на высокий забор в поисках спасения. Женщина, свалив козла на землю и надавав ему пинков в бока кирзовыми сапогами, взяла меня за руку и вывела через калитку, пятясь задом и отмахиваясь ведром от не желавшего оставаться в долгу хозяина загона.
А так интересно все начиналось. Переезд в деревню мои ожидания оправдал в полной мере и даже больше. Я и раньше не был чрезмерно опекаемым, но все же за нами присматривали то бабушка, то родители. Здесь бабушек не было, а родители, сразу впряженные в работу с непривычно безразмерным рабочим днем, и хотели бы принять участие в моей адаптации, но возможности не имели. Робкие попытки матери напомнить о существовании ребенка вызывали у селян смех. Одного ребенка они обременением не считали, у них по три-пять, без присмотра бегало. Побежал и я, ошалев от неожиданно свалившейся на меня свободы.
Наставником по ускоренному вживанию в сельскую жизнь, конечно, оказался сын наших временных хозяев, Гошка. Наш дом был достроен месяца через три и к этому времени я прошел «курс молодого бойца» под его руководством и активном участии многочисленных помощников.
Первый этап на новом месте, естественно, ознакомление. На следующий день мама взяла меня на работу в магазин, куда ее назначили немедленно, так как он не работал уже с полгода. Продавщица ушла в декретный отпуск без намерения возвращаться назад. Оповещенное об открытии магазина незанятое население, а это старухи и дети, с утра в полном составе заявилось в магазин. Все захотели познакомиться с новыми односельчанами и принять живейшее участие в их судьбе. Было очень интересно. Все на «ты». Имена, по которым обращались друг к другу необычные. Очень редко можно было услышать «Сергеевна» или «Матвеевна», в основном это были Юльки, Тоськи, Маньки и Катьки. Еще Каргиха, Швалиха, Кузнечиха, Фартусиха и т. п. По имени и отчеству прозывалась только учительница Валентина Семеновна Колесникова. Даже управляющего звали либо «управ» либо Иннокентий или Гурбатов. Общение мало отличалось от того, к которому я привык, живя в шахтерском бараке, да и людей в деревне не больше.
Еще мне пришлось привыкать к новому языку. В Букачаче и Черновских, где я до этого жил, по-гурански не говорили. Здесь же над моей речью смеялись. Сверстники не понимали, а те, что постарше, передразнивали, говоря, что я выделываюсь – «выбражаю». Так что я быстро освоил местное наречие, потешая домашних. Особенно тщательно приходилось следить за окончаниями, чтобы ненароком не оконфузиться, сказав, например, «гуляем» вместо правильного «гулям».
Добровольные помощники открыли без всяких церемоний склад и стали расставлять товар на полки. Увидев тревогу продавщицы, успокоили тем, что у них не принято зариться на чужое. Это правда. Можно было оставить любую вещь в любом месте, она все равно находила хозяина. Запоры имелись только от животных. Тащили корма с коровников из совхозного хозяйства, но это не воровство, а культурный элемент образа жизни.
Пока разобрались с промтоварами, подоспела автолавка с продуктами. Холодильников не было, посему скоропортящегося товара тоже. Завезли крупы, табак, чай, конфеты, пряники и, в нагрузку, сыр. Сыр был одной большой головкой, килограммов на пять. Его никто не ел, недоумевали, зачем возят это вонючее «мыло». Исключение составляли мы и деревенский дурачок, не помню его имени. А нормальные люди имели своих коров и питались свежими продуктами. То, что мы с дурачком не съедали, потом списывалось по акту.
Попутно все интересовались городской жизнью. Многие от роду не выезжали за пределы совхоза, им в диковину были железная дорога, электричество и многоэтажные дома.
Детям вскоре все надоело, и они побежали играть, пригласив меня с собой. Пытавшуюся задержать меня маму, бабы подняли на смех, уверяя, что у них с детьми ничего не случается, а старшие присматривают за младшими. Гошка был на два года старше меня, да еще и хозяйский сын, ему я и был поручен.
Доверие он начал оправдывать сразу. Побежали к стайкам, там сейчас не было никого и можно было без помех разорять воробьиные гнезда. Делалось это очень просто. Забирались под крышу, доставали из гнезд голых и слепых птенцов. То, что делалось после, меня шокировало. Брали птенца за голову между указательным и средним пальцами, и энергично тряхнув рукой, отрывали тушку. Жалость воспринималась как слабость, я это быстро усвоил, сразу подражать не отважился, но делал вид, что мне все нипочем. В шесть лет человек обязан быть героем, чтоб не получить дурную репутацию. И без этого у меня уже была обидная кличка – «городской». Кстати, я от нее быстро избавился, загорев и исцарапавшись за неделю, ничем не выделяясь в этой полуразбойной шайке.
Сельские дети, которые растут без присмотра, вырабатывают в себе навыки охотников и добытчиков. А здесь не место сентиментальности.
Потом пошли выливать сусликов, по-местному «чумбурушек». Сразу за деревней в степи их было бесчисленное множество. Они стояли столбиками на холмиках и пересвистывались. Когда мы подходили близко, то по сигналу прятались в норах. Каждый холмик был «бутаном», т.е. общежитием, состоящим из множества ходов к внутренним камерам и гнездам. Устройство их изучалось посредством откапывания. Когда суслику было некуда деваться, он выскакивал и пытался убежать. Как правило, неудачно. Ближайшие ходы нами перекрывались, а на открытом пространстве у него шансов не оставалось. Зверька быстро забивали камнями и палками. Шкурку потом старшие сдавали за несколько копеек в «Заготконтору». Но нам интересен сам процесс, увлекательный и азартный. Это мне понравилось гораздо больше, чем уничтожать беспомощных птенцов. Хотя мне объяснили, что и воробьи и суслики одинаково вредны для человека.
Иногда в норах обнаруживались птичьи гнезда, которые тоже безжалостно уничтожались. Это трясогузки, по-местному имевшие совсем нецензурное название, выселяли сусликов и устраивали свое жилище.
Потом пришел Витька Русаков, он был старше нас, лет десяти. Сразу забраковал наш бестолковый и малоэффективный способ охоты и взял организацию добычи пушнины в свои руки. По его команде все разбежались по домам, чтобы вернуться с ведрами полными воды. Эту воду заливали разом в одну нору, а за другими следили. Через некоторое время из одних выливалась вода, а из других выскакивали мокрые, уменьшившиеся вдвое, ставшие некрасивыми, грызуны. Спрятаться им было негде, они становились нашей добычей.
Когда это занятие надоело, солнце уже было в зените, наступила жара. Все побросали ведра и побежали купаться на речку. Звали ее Шароварихой, иногда Переплюевкой. В любом месте ее можно перейти вброд, лишь искусственный, сделанный бульдозером прудик именовавшийся «купальней», был метров пять шириной и полтора глубиной.
К этой купальне и устремилась с пригорка вся ватага, на ходу снимая с себя единственную одежду, трусы. Попрыгали в воду, и шустро перебирая руками по-собачьи, устремились на другой берег.
И тут обнаружился мой изъян. Я не умел плавать, что вызвало удивление и презрение новых товарищей. К тому же стеснялся и не снимал трусы. Эти позорные факты чуть не сделали меня изгоем. Но спас случай.
К речке подошли два парня, они отмечали демобилизацию из армии друга и были навеселе. Узнав причину смеха над новеньким, немедленно решили исправить это недоразумение, пообещав научить плавать. Взяли меня, несмотря на протесты, за ноги и руки, раскачали и забросили на середину купальни. Я погрузился с головой, когда вынырнул, увидел, что мои «учителя» преспокойно уходят от берега в сторону деревни. Как-то само собой получилось, что я поплыл. Потом попробовал самостоятельно и к концу часового купания уже не отставал от всех. Как оказалось, другого способа обучения здесь не знали. Стиль плавания у всех был один – «по-собачьи».
После купания все почувствовали, что проголодались. Идти обедать означало потерять половину личного состава. У большинства дома находились бабушки, которые не могли упустить момента появления дома потенциального работника. У всех были обязанности, которые выполнялись из-под палки. Это уборка навоза, полив огородов, прополка, сбор яиц и прочие скучные дела. Все можно было отложить до вечера, когда деваться все равно некуда. А сейчас лучше обойтись подножным кормом. Буквально.
Сразу за речкой начинался луг, на котором чего только не было для пропитания. Мы с азартом набросились на полевой чеснок, мангыр и кислицу. Мне показывали, как их находить, не забывая подначивать. Среди чеснока росло какое-то отвратительное растение очень на него похожее, называвшееся неприлично. По смыслу «кобылья моча». Считалось, что по схожести вкуса. После него долго ничего не хотелось брать в рот. «Наставники» веселились, подсунув мне это «лакомство».
После мангыра и кислицы (разновидность полевого щавеля) мы себя сытыми не ощутили, поэтому решено было идти за саранками. Это растение из семейства лилий имело необычайно вкусную и питательную луковицу величиной с детский кулачок. Также поедались и сочные вкусные завитки ярко алых цветков. Конечно, пришлось потрудиться, но часа через два необходимость в обеде отпала.
Потом пошли в болотце возле речки, наткнулись на выводок дикой утки, переловили утят, которых кто-то, у кого была дома утка с потомством, понес домой, подсаживать к выводку.
Так мы пробегали до вечера, когда из степи в деревню потянулось стадо коров. Мои друзья о чем-то посовещались, потом Гошка предложил пойти к стайкам дразнить имана. Иман это козел. Зачем его дразнить я не понял, но согласился с удовольствием. Раньше, во время недолгого проживания у тетки на Черновских я видел коз. Это были общительные животные, которые с нами играли, особенно козлята. Я считал их безобидными и забавными.
Тот иман, которого мы пришли дразнить, был в два раза больше теткиных, с перекрещенными длинными рогами и бородой до колена. Он находился в загоне вместе с другими козами. Забор из жердей был метра два высотой. Мы забрались на него, чем сразу рассердили главного обитателя. Козел стал разбегаться и прыгать на забор в надежде достать нарушителей покоя. Ребятишки радовались и тыкали в козла палками, сидя в безопасности на заборе, чем распаляли его еще больше. Мне это развлечение очень понравилось, я свесился с забора, чтобы достать ногой козла и в это время Гошка столкнул меня со стены. Я упал вниз, вскочил и тут же был пригвожден к забору. Козел, которому редко выпадала такая удача, решил отыграться на мне за все свои многолетние обиды. Хорошо, что в соседней стайке доила корову взрослая сестра Витьки Полякова. Как потом рассказывала, сама она боялась этого козла пуще смерти, но мои истошные вопли заставили ее позабыть страх. Впоследствии она не один раз поплатилась за свой подвиг. Злопамятный козел несколько раз подкарауливал ее, нападая из-за угла. Он запросто внезапным ударом под зад сбивал с ног взрослого человека. Даже когда ему отпили рога, он этой подлой привычки не оставил.
Меня доставили домой, перемазали йодом и зеленкой, напоили парным молоком и запретили выходить на улицу без разрешения. Запрет действовал до утра, потом забылся. Но в памяти навсегда остался этот насыщенный событиями первый день в деревне
ГЛАВА 6. ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
После нескольких месяцев обитания на квартире мы переехали в новый дом, предназначенный для специалистов, направленных на целину. Совсем другое дело! Это уже не угол в чужой избе, отгороженный ситцевой занавеской.
Дом стоял посреди пустыря, без забора и сеней, сразу с улицы входишь в помещение. Планировка простая, размерами примерно шесть метров на семь, организованная вокруг печки, сложенной почти посередине помещения. От входной двери до печки метра три. Справа и слева окна. С одной стороны между печкой и окном соорудили двухметровой ширины настил из досок, который отец называл нарами, мать полатями, а местные топчаном. Все правы. Назначение от этого не менялось. За печкой кровать родителей, отгороженная занавеской (куда без нее?), там же зыбка с родившейся осенью сестренкой.
Топчан сначала был моим, потом, по мере появления младших, я стал делить его с ними. Удобная вещь. Особенно пространство под ним, зимой там можно было возиться часами, никого не раздражая. Там же прятался от гнева взрослых, избегая наказания за проказы. На топчане спал. С одной стороны холодная наружная стена, зато с другой горячая печка. С вечера от нее отодвигался, к утру к ней прижимался. Справа от печки стол, две скамьи и две табуретки. Все как у людей.
Полку целинников прибыло. На постой к нам направили нового тракториста, Митю Пирожкова. Поставили ему кровать возле двери, завесив шторкой. Отец, уже признанный ударник труда, взял над ним опеку, тот не сводил с патрона глаз, очарованный его мастерством, повадками и брутальностью.
У отца был замечательный отзывчивый характер. Всегда готов для людей снять с себя последнюю рубаху, помочь в работе. Выполнял два плана на работе, в прошлом спортсмен, занимался боксом. Идеальный человек и кумир сельской молодежи. Пока трезвый.
Выпить же был готов с кем угодно, принципиально за свой счет. Поначалу это привлекало односельчан к новому поселенцу, потом стали остерегаться.
Ко времени появления Мити, отец уже поставил себя в коллективе и деревне. С ним старались не связываться, но деваться некуда – село, что подводная лодка.
Выпив, менялся поразительно. Общительность превращалась в диктаторскую назойливость, теперь он вполне мог на человеке последнюю рубаху порвать. Кто не хотел угощаться от его щедрот, рисковал на себе испытать боксерские навыки.
Загулы начинались с получки. Приходил домой развеселый, в приливе щедрости мог дать мне много денег. Мать потом их потихоньку забирала. Делал роскошные подарки. Однажды купил настоящие заводские лыжи. Я ими гордился до следующей получки. Сверстники катались на самодельных, вытесанных из клепок деревянных бочек.
Фаза эйфории проходила, дома становилось скучно, он шел в магазин, покупал водку, прихватывал всех, кто попался на глаза. Напивался с ними до фазы свирепости, бил их и шел домой с чувством исполненного долга. Зная его натуру, собутыльники стремились вовремя улизнуть. Иногда не удавалось никого побить. Деревня садилась в осаду, никто не отзывался, а потребность оставалась. Тогда плохо приходилось домашним. Сначала он громил посуду, уничтожал вещи. Лыжи изрубил топором, предварительно испытав их прочность на моей спине за то, что я дал на них кому-то покататься. Стал поднимать руку на мать, вечно беременную или с грудничком на руках. Я убегал, если это было днем или сидел, затаившись за печкой под нарами.
С появлением Мити стало спокойней. Теперь у отца был постоянный собутыльник и собеседник, вынужденный часами слушать пьяную галиматью. Рук при нем не распускал.
Их гусеничные трактора стояли прямо возле дома, забора не было и в помине. Там быстро образовался промасленный пятачок, на котором никогда не росла трава. Из окна я наблюдал как они утром, еще затемно, заводят на морозе технику. У отца был современный ДТ-54, а у Мити «НАТИ» времен коммуны. Зимой они возили на них сено и другие корма по стоянкам чабанов и гуртам крупного рогатого скота. В полной темноте перед окном разводили костер под металлической двухсотлитровой бочкой с маслом. Вода в это время грелась на печке в доме в двух молочных бидонах. Когда носили воду, в избу, то и дело, врывался с улицы морозный воздух, заставляющий зарываться под одеялом. Все обволакивало плотным потоком пара, сквозь который различались тени мужиков с ведрами снующих туда и обратно.
Однажды они прозевали и закрытая бочка, перегревшись, взлетела в воздух с оглушительным взрывом. Я видел, что вместе с бочкой в воздухе перевернулся квартирант и упал на разметанный взрывом костер. Окна в доме вылетели, чудом меня не порезав. Перепуганный отец подбежал к приседающему Митьке, стал его держать и уговаривать. Набросив на себя одежду, я выскочил на улицу. Со всех сторон бежали, разбуженные взрывом, люди. Митька истерически хохотал, никакие усилия отца не могли его остановить. Подбежал управляющий, врезал ему пару раз по лицу, тот замолчал, начал ощупывать себя, с ног до головы залитого горячим маслом.
– Первое средство при контузии человека в чувство приводить. На войне всегда так делали.
Митя обмяк, ноги перестали его держать, он опустился прямо на снег. Пришел кузнец, живущий недалеко, метрах в пятидесяти от нашего дома. Его разбудил взрыв и страшный удар в стену. Вырванное днище бочки долетев, врезалось в бревна дома сантиметров на двадцать, чуть не прорубив их насквозь. Окна завесили одеялами, пока достали стекло, дня три жили в темноте с забитыми войлоком проемами. Смеялись, говоря, что и в юрте пришлось пожить. Войлок был для нас беда и выручка. На полу, на постели под матрацами, на валенках, везде, где требуется изоляция и утепление. В доме воняло керосином. Электричества в селе еще не было, лампа горела круглые сутки.
На ферму привезли новое индийское кино. О нем уже все были наслышаны и с нетерпением ждали. Это известный фильм «Бродяга». В те времена выходной был один – воскресенье. Накануне дали получку. Ее отмечали второй день. До вечернего сеанса (а других не было) все взрослое население успело поднабраться «сучка» – водки из древесных опилок, которая больше походила на керосин или ацетон, потому что перегонялась из того же сырья, только дольше и степень очистки у нее выше. Побочным эффектом популярного из-за дешевизны напитка, помимо опьянения, было полное одурение. Немногочисленное население деревни к началу фильма сохранилось в зависимости от устойчивости организма. Многие выпали из обращения еще до обеда, кто-то в клуб пришел, но ничего не видел, мирно похрапывая на скамейке, некоторые покинули фильм, безвольно влекомые домочадцами, несмотря на захватывающие эпизоды,.
После фильма мы с матерью пошли домой, а отец с квартирантом остались в клубе догуливать.
Проснулся от громких голосов. За столом сидели в стельку пьяные мужики, раздетые до пояса. С вечера всегда хорошо протапливали печь, чтоб до утра изба не выстыла. Перед ними стояли бутылки, прямо на столе большой кусок мороженой квашеной капусты и сало. В руке отца небольшой кухонный нож, которым он ковырял мерзлую закуску. Мать позвала меня к себе за занавеску. Обычно миролюбивый с Митей, сейчас отец говорил угрожающим тоном. Называл себя Раджой, а Митю Джаггой. Видимо по сценарию Радж уже враждовал с Джаггой. Только он, почему-то говорил «Раджа». Я проваливался в сон, при громких криках просыпался. Мать попробовала урезонить «индусов», но получила в ответ такой рык, что сразу замолчала, к этому времени отец уже не раз срывал зло на семье.
В очередной раз проснулся, под крики Раджа, Джагги и матери. Мать прижала меня к себе, занавеска сорвана. Квартирант лежал на полу, отец, окончательно вошедший в роль Раджа, схватил нож и несколько раз полоснул им по животу Мити – Джагги. Стол и пол были в крови, Митя вскочил, согнувшись, зажимая руками раны, бросился на улицу. Сквозь пальцы капала кровь. Я, в истерике, повис на матери. Она укрыла меня одеялом, уговаривая.
Раджа с ножом в руке побежал за Джагги. Потом, ругаясь, вернулся, налил стакан водки и выпил. Лег на стол головой, лбом задел горячую лампу, смахнул ее со стола. В темноте звякнуло стекло, запахло керосином. Все тише повторяя, что он Раджа, так и заснул. Я, дрожа всем телом, прижимался к матери. Она успокаивала, говорила, чтоб не боялся, большой уже, через год в школу идти. Пригревшись, заснул.
На следующее утро проснулся, когда отец уже уехал на работу. Мать мыла пол, наводила порядок в доме. Мне сказала, чтоб никому не рассказывал, что произошло. Если будут спрашивать, говорить, что спал и ничего не видел. А то папку посадят, как потом жить будем.
Никто и не спрашивал. Митя, приползший к соседям с кишками в руках, сказал, что это он сам по неосторожности порезался. Всем пришлось поверить. Они остались с отцом друзьями. Только Митя переехал жить в другое место.
А индийский фильм всем очень понравился и его еще долго вспоминали. Я – всю жизнь, благодаря продолжению.
ГЛАВА 7. КОНЕЦ СВЕТА
Деревня была безымянной, в совхозе значилась как третье отделение, а в быту называлась «третья ферма». Начальство, сколько помню, в ней не задерживалось. Когда мы приехали сюда осваивать целину, управляющим был малограмотный, самодур Иннокентий Гурбатов, впоследствии закончивший карьеру на своем месте, отличным чабаном. Потом его сменил Вениамин Богданов, наверное, один из самых удачных. Затем прошла череда людей случайных из чабанов, скотников, трактористов.
Дольше всех задержался Богданов, на период его работы и выпало время развития деревни и отделения. После этого уже началась деградация до полного исчезновения. Осталась деревушка только в памяти людей в ней родившихся и выросших.
Светлая полоса в ее жизни выпала на период правления Хрущева. Степи Забайкалья оживились в соответствии с постановлением Пленума ЦК « О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».
Возникали новые совхозы, расширялись старые, появлялись поселки, в которых селились целинники, техника вытесняла лошадиную тягу.
Коснулись изменения и нашей 3-й фермы совхоза «Бутунтаевский», входящего в Быркинский район (с 1962 Приаргунский).
Вроде бы ничего особенного, всего лишь протянули линию электропередачи, но желтые только что ошкуренные сосновые столбы и блестящие провода на белых фарфоровых чашечках изоляторов совершенно меняли облик улиц, придавая им солидность и презентабельность.
Дети позабыли на время привычные развлечения, воробьи, голуби и суслики получили передышку от истребительных набегов. Поголовно вовлеченные в процесс, они не отходили ни на шаг от строителей, постигая премудрости электромонтажных работ. Таскали теодолит и прочие геодезические приборы, держали разметочные рейки. Речь обогащалась терминологией специалистов. Траверсы, пасынки, анкеры употреблялись в разговорах по делу и без дела. Технологию и последовательность работ изучили досконально. В деревне дети не страдают равнодушием, они приучены осваивать любое ремесло, которое им доводится увидеть. После строительства линии каждому можно было присваивать профессиональный разряд.
Вначале готовились ямы, потом завозились столбы, укладывались возле каждой ямы. Затем на них накручивались изоляторы, после чего уже начинался монтаж.
В крупных центрах при установке опор использовались механизмы, в том числе для бурения и монтажа, у нас же все делалось вручную. Для того, чтобы установить столб выкапывалась прямоугольная яма размером метр на два, иначе требуемой глубины в полтора метра получить невозможно. Пока дошло дело до столбов, в эти могилы, особенно в темноте то и дело попадали животные, вынужденные ждать помощи до утра. Не повезло нескольким выпивохам. Первый случай запомнился односельчанам надолго.
Часа в три ночи посреди деревни раздался истошный вопль:
– Ой, спасите, помогите! Люди добрые, не дайте погибнуть! Да что же это делается, уже на людей ловушки ставят, фашисты проклятые!
Голос принадлежал Павлу Галанскому, который еще с вечера потешал народ пьяными выходками, потом угомонился. Он был назначен бригадиром на отгон овец в Борзю на мясокомбинат. Днем из конторы совхоза приезжало начальство для отработки маршрута и инструктажа отгонщикам. Большая часть совещания была уделена изучению маршрута и технике безопасности. После их отъезда, по обычаю, был устроен банкет. Паша так и остался в клубе, отягощенный свалившейся на него ответственностью. Это произошло, когда под опору копали первую яму. По закону подлости она оказалась на привычной для новоявленного бригадира тропинке. Проснувшись еще под впечатлением от инструктажа, самым обычным в таких случаях способом, т. е. на четвереньках, отправился домой. В кромешной тьме он в эту яму и сверзился. Инструкция гласила первым делом привлекать на помощь. Обладая тренированным в необъятной степи зычным голосом, усиленным ужасом, он возопил так, что возбудил всех собак не только в деревне, но и на ближайших чабанских стоянках.
Прибежавший на призыв дежурный скотник увидел Пашу простершего к небесам длинные руки и непрерывно изрыгающего проклятия, перемежая их с призывами не оставить в беде. После окрика тот, наконец, замолчал.
– Что ты орешь?
– Да ты не видишь, провалился я, выбраться не могу!
– Тебе что, другой дороги не было?
– Я свой маршрут знаю!
Приглядевшись, конюх увидел, что страдалец стоит на коленях.
– Да ты встань с колен!
Долговязый Паша встал, яма оказалась ему ниже пояса.
– Сказано в Писании: «Весь мир будет опутан паутиной, полетят по небу железные птицы и печать антихристову поставят на каждого». И наступит конец света!
С этой фразы начинался день деда Андрея, а заодно и всей деревни, как только приступили к строительству линии. Он, разбитый параличом, умирал за занавеской на печи больше года. От духоты и смрада окна в избе всегда были открыты и под густой неумолкающий бас старика жила вся деревня. Ненадолго замолкая на время короткого сна или приема пищи, он начинал свои предсказания, состоящие из мешанины библейских, и не только, текстов, с громкого возгласа очередного пророчества, протестуя против последнего наступления «антихриста». Увещевания родственников только распаляли его и вызывали еще более бурную реакцию. Категорически запретив, в свое время, проводить в дом радио, сейчас он не разрешил ставить возле дома столб.
Мы деда не боялись. Еще недавно все состояли в его личной свите при обходе деревни, что было обязательным ежедневным ритуалом, когда он еще ходил. Ростом выше всех в деревне, бородатый, широкоплечий и костистый, он был совершенно глухой. Фамилия его Кузнецов, сам был кузнецом, сын его, отец моих сверстниц, Лиды и Люды, кузнец. Старший внук Юрка работал с отцом в кузнице. Все высокие, дородные, сильные. Юрка, дурачась при ковке лошадей, справлялся с ними без станка.
Когда оглох дед, мы не знали, никто этого не помнил, старожилы говорят, что он такой с незапамятных времен. Сверстников давно не было. Даже самые старенькие бабушки называли его дядей Андреем. Он никогда не разлучался со скрипкой. Мелодии мало отличались от тележного скрипа. Мы другого не слышали, поэтому всегда его игрой восхищались. А чего еще можно ожидать от инструмента с таким названием?
Больше всех его смерти ждали внучки, которым сказали, что тогда и к ним проведут электричество и радио.
Работы велись целый год, только к следующей весне протянули линию, завели в дома, поставили пробки, провели на деревянных катушках провода с текстильной изоляцией поверх резиновой, повесили патроны с лампочками. Построили дизельную электростанцию, назначили тракториста Григория Каргина дизелистом.
Всем не терпелось. Для нас преимущества жизни с электричеством были очевидны. Отпадет необходимость крутить рукоятку генератора, когда идет кинофильм, который привозили раз в неделю. Это было нашей обязанностью. Я неожиданно оказался востребованным, так как до приезда сюда жил в городе и знал, как обращаться с выключателями и розетками. Меня водили по домам и все внимательно слушали, когда я, распираемый гордостью от явного уважения ко мне, еще вчера обычному дошкольнику, показывал, как щелкать выключателем и рассказывал, что после этого произойдет. Переспрашивали, уточняли. Бабушки верили не все.
К первомайским праздникам запустить электростанцию не удалось, что-то помешало, поэтому торжественный митинг по случаю пуска дизель-генератора назначили уже в июне. Собрались на улице, часов в одиннадцать вечера возле клуба под столбом, на котором стоял единственный уличный фонарь. Все принарядились. Развели костер. Управляющий говорил речь о достижениях и перспективах. Люди, соглашаясь, поддерживали. Жизнь и впрямь за очень короткое время стала лучше. Реже вспоминали о войне, забыли, что такое голод, говорить стали без оглядки, особенно молодежь. Раздавались аплодисменты, которые перешли в овации, когда заработал дизель.
Управляющий точно подгадал момент включения рубильника и под его лозунг: – «Да здравствует новая светлая жизнь!», вспыхнул яркий свет во всех домах, и вся площадь оказалась залитой светом установленного на ней фонаря.
Шапки взлетали вверх, все ликовали. Взрослые, забыв о солидности, прыгали и кружились с детьми, взявшись за руки.
Вдруг фонарь на площади и лампочки в домах вспыхнули нестерпимым блеском и разом потухли. Неопытный моторист дал чрезмерное напряжение и лампочки сгорели. В наступившей кромешной тьме, замолчавшие от неожиданности люди, из открытого окна Кузнецовых услышали торжествующий, перекрывающий рокот дизеля, густой бас деда Андрея:
– И настанет конец света! И накроет землю тьма кромешная!
ГЛАВА 8. ЧУЖОЙ ДЕД
От домика садовника раздался заливистый лай Находки и крик деда:
– Стойте, я вам говорю, все равно от собаки не уйти!
Те, что сидели на ветках, затаились, а кто собирал смородину, со всех ног кинулись к деревьям и, обдирая голые животы, карабкались вверх, спасаясь от собаки, хоть и знали, что она не укусит. Но паника делала свое дело. Кто-то даже начал всхлипывать. На него прикрикнули и велели всем затаиться. Садовник приближался, подбадривая собаку и постукивая палкой по стволам деревьев.