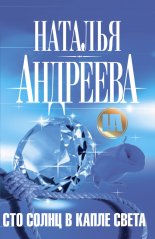Легенды Западного побережья (сборник) Ле Гуин Урсула

– Ничего, у меня есть вы оба, – шепнула ей в ответ моя мать.
Отец с рассвета до позднего вечера был занят всякими делами в поместье. Я ведь раньше оказывал ему посильную помощь, а теперь стал совершенно бесполезным, и мое место рядом с ним занял Аллок. Аллок был человеком на редкость чистосердечным, не обремененным ни амбициями, ни претензиями; себя он считал глуповатым, и кое-кто охотно с ним соглашался; но он умел порой, соображая, в общем, действительно довольно медленно, мгновенно уловить суть дела, да и суждения его в целом были очень даже разумными. Они с Каноком отлично сработались, и Аллок стал для него тем, кем я стать не сумел. Я и завидовал, и ревновал, но старался не показывать, насколько уязвлено мое чувство собственного достоинства: это могло обидеть Аллока и рассердить отца, а мне все равно легче от этого не стало бы.
Когда мои бесполезность и беспомощность становились особенно угнетающими, а внутренняя решимость ослабевала, мне ужасно хотелось сорвать с глаз повязку и вернуть себе все утраченное богатство жизни. Но передо мной тут же вставал образ отца, и я снова вспоминал, что представляю собой смертельную опасность для Меле, для Канока и для всех остальных. С завязанными глазами я служил Каноку щитом и опорой; он пользовался моей вынужденной слепотой как оружием.
Он редко говорил со мной о той поездке в Драммант, хоть и признался, что Огге Драм испугал тогда не только меня, но и его. Он, впрочем, заверил меня, что жестокие шутки Огге и его издевательства – это сущий блеф, желание показать свою силу и власть перед подчиненными.
– Больше всего ему хотелось тогда прогнать нас, – говорил отец. – Хотя он прямо-таки мечтал испытать тебя, и все же каждый раз, уже собравшись заставить тебя силой, отступал, не решался. И меня он тоже задевать не решался – потому что боялся тебя.
– Но та девочка… Вардан… Ведь он и ее использовал, чтобы унизить нас!
– Он решил сделать это давно, еще до того, как все мы узнали о твоем «диком даре». И угодил в собственную ловушку. Так что ему пришлось пройти через откровенное унижение, но показать, что он нас не боится. Только он боится нас, Оррек, очень боится!
Две наши телки давно уже снова вернулись в Каспромант и паслись вместе со всем стадом на верхних пастбищах, довольно далеко от границы с Драммантом. Огге Драм ни слова о них не сказал и никаких шагов против нас или Роддманта не предпринял.
– Я предложил ему выход, и он им воспользовался, – сказал Канок с усмешкой. Я чувствовал, что теперь он почти не улыбался, хотя со мной и с Меле был неизменно нежен и внимателен. Но с нами он проводил очень мало времени – вечно был занят, возвращался домой страшно усталым, едва держась на ногах, и старался поскорее лечь спать.
Меле медленно набиралась сил. В голосе за время болезни появилась какая-то несвойственная ей раньше покорность, которую я ненавидел. Мне хотелось по-прежнему слышать ее звонкий смех, ее быстрые легкие шаги. Она теперь уже ходила по дому, но очень быстро уставала, а если случался дождливый денек или дул северный ветер со стороны земель Каррантагов, отчего любой летний вечер становился по-осеннему холодным, она приказывала растопить в своей гостиной камин и сидела у огня, закутавшись в толстую шаль из некрашеной коричневой шерсти, которую связала для нее еще моя бабка, мать Канока. Однажды, сидя с нею рядом, я сказал, не подумавши:
– Ты все время мерзнешь с тех пор, как мы вернулись из Драмманта.
– Да, – откликнулась она. – Мерзну. С той самой ночи, когда я дежурила у постели бедной больной девочки. Тогда вообще произошло что-то странное… По-моему, я никогда еще не рассказывала тебе об этом? Я помню, что Денно пошла вниз, чтобы разнять подравшихся сыновей. А несчастная Даредан была так измучена, что я предложила ей немного поспать, пока я посижу с Вардан. Малышка тоже уснула, но могла проснуться в любую минуту, если возобновятся те судороги. Она и так все время вздрагивала, так что я притушила все свечи, кроме одной, которую отставила подальше, чтобы ей не мешал свет, и, по-моему, тоже задремала с нею рядышком. А через некоторое время меня разбудил какой-то странный шепот, а может, пение. Что-то вроде молитвы. Мне спросонок даже показалось, что я снова в родном доме, в Деррисе, и отец молится внизу, готовясь идти в храм. И это монотонное бормотание продолжалось очень долго, и только когда оно совсем затихло, я поняла, что нахожусь совсем не дома, а в Драмманте, и огонь в камине почти догорел, и мне ужасно холодно, так холодно, что я даже пошевелиться не могу. Холод пробирал меня до костей. И девочка Вардан лежала совершенно неподвижно, как мертвая. Это совсем напугало меня, и я вскочила, чтобы посмотреть, жива ли она, но она была жива и дышала спокойно. И тут как раз вошла Денно, подала мне свечу и сказала, что теперь я могу пойти отдохнуть. И я пошла, но Каноку нужно было еще разыскать Парн, и, когда он вышел из комнаты, мою свечу загасил сквозняк, а огонь в камине уже не горел. И я на что-то налетела в темноте, ты проснулся, и мы долго сидели с тобой, и я никак не могла согреться. Ты, наверно, и сам помнишь. И все время, пока мы ехали домой, мои руки и ноги были точно ледышки. Ах, как бы мне хотелось, чтобы этой поездки в Драммант никогда не было!
– Я их всех ненавижу! – вырвалось у меня.
– Тамошние женщины были ко мне добры, – возразила она.
– Отец говорит, что Огге очень нас боялся.
– Что ж, я тоже его очень боялась, – призналась Меле, слегка вздрогнув при воспоминании о Драмманте.
Когда я рассказал об этом Грай – ибо я рассказывал Грай все, если не считать того, что скрывал даже от самого себя, – я спросил ее о том, о чем не хотел спрашивать у матери: мог ли Огге Драм пробраться тайком в ту комнату, где была она с больной девочкой? Отец говорил мне, что Драму для применения своего дара нужны еще какие-то особые слова, какие-то магические заклинания, руки и глаз ему мало. Возможно, то, что слышала Меле…
Но Грай мои предположения совсем не понравились, и она стала горячо возражать:
– Но с какой стати Драм стал бы применять свой дар против Меле? Он ведь боялся не ее, а тебя и Канока. А Меле не могла причинить ему ни малейшего вреда.
А я вдруг вспомнил, как Канок говорил матери: «Надень свое красное платье, пусть он увидит тот подарок, что сделал мне». Вот где крылась беда! Но я вряд ли сумел бы выразить свои чувства словами. Так что я сказал Грай лишь одно:
– Он всех нас ненавидит!
– А Меле рассказывала твоему отцу о той ночи? – спросила Грай.
– Не знаю. Может, она считает это несущественным и не хочет зря его беспокоить… Понимаешь, она ведь… старается не думать о наших дарах, она говорит, что не понимает их. Я, например, не знаю даже, что она теперь думает обо мне и о моем «диком даре». Она, по-моему, понимает, зачем мне завязали глаза, но вряд ли верит… – Я умолк, чувствуя, что ступил на опасную почву. Наклонившись, я машинально погладил Коули по теплой спине – собака, как и всегда, лежала на полу у моих ног. Но даже Коули не могла служить мне поводырем в той тьме, которая теперь окутывала меня со всех сторон.
– Я думаю, тебе стоит все же рассказать об этом Каноку, – сказала Грай.
– Лучше бы это сделала сама Меле.
– Но мне же ты рассказал!
– Но ты же не Канок! – Я сказал это как нечто само собой разумеющееся, хотя в моих словах был и иной, скрытый смысл. И Грай это отлично понимала.
– Я спрошу Парн, нет ли таких людей, которые могут как-то бороться… с последствиями дара Драмов, – сказала она.
– Нет, не надо! – Одно дело рассказать Грай, но совсем другое – если эта история пойдет дальше и превратится в сплетню; тогда получится, что я предал собственную мать, которая доверилась мне.
– Но я не скажу ей, зачем мне это надо.
– Парн сама догадается.
– Между прочим, она, похоже, уже догадывается. Когда вы в тот вечер приехали к нам и Меле упала в обморок, я слышала, как мать говорила отцу: «Возможно, он все-таки ее коснулся». Я тогда не поняла, что она имела в виду. И подумала, что, может быть, Огге пытался изнасиловать Меле и как-то ей навредил.
Мы сидели молча, погрузившись в мрачные раздумья. Мысль о том, что Огге Драм наслал на мою мать проклятие, была ужасной, но настолько неясной и неправдоподобной, что с ней трудно было смириться. Мой разум невольно пытался ускользнуть от мысли об этом, переключаясь на другие вещи.
– Кстати, Парн больше не заговаривала со мной об Аннрене Барре, после того как побывала в Драмманте вместе с вами, – сказала вдруг Грай.
– Они там, в Кордеманте, все еще ссорятся. Раддо говорил, что там между родными братьями идет настоящая война. Они поселились в противоположных концах своих владений и боятся приближаться друг к другу на такое расстояние, когда человека можно увидеть невооруженным глазом, – боятся ослепнуть или оглохнуть.
– А мой отец считает, что ни один из братьев не обладает этим даром в полной мере, – сказала Грай, – зато им обладает их сестрица Нанно. И она пообещала, если они будут продолжать ссориться, сделать их обоих немыми, чтоб наконец перестали проклинать друг друга. – Грай засмеялась, и я тоже. Отчего-то столь жестокое решение семейной распри казалось нам смешным. Но мне явно полегчало, ведь, судя по всему, вопрос о помолвке Грай и этого парня из Кордеманта был надолго отложен.
– Мать говорит, что «дикий дар» – это чаще всего просто очень сильный дар. И человеку нужны годы, чтобы научиться как следует владеть им. – Голос Грай звучал чуть хрипловато, как всегда, когда она говорила о чем-то важном.
Я не ответил. Ответа и не требовалось. Если Парн хотела сказать, что верит в силу моего дара и в то, что он со временем будет полностью мне подвластен, значит она считает, что со временем я буду вполне под стать Грай. Этого для меня было более чем достаточно.
– Давай съездим на ту тропу над Рябиновым ручьем, – предложил я вдруг и вскочил. Сидеть и разговаривать было, конечно, очень приятно, но выбраться наружу и куда-то скакать было бы еще лучше. В данный момент я был полон надежд и сил – ведь мудрая Парн Барре сказала, что когда-нибудь я смогу снова видеть, как все, и, возможно, смогу жениться на Грай и даже убить Огге Драма одним лишь своим взглядом, если он, конечно, осмелится приблизиться к границам наших владений…
Мы ехали вдоль Рябинового ручья. Я попросил Грай сказать мне, когда мы окажемся возле того изуродованного участка холма. Коули бежала впереди. И когда Грай окликнула ее, она тут же прибежала, жалобно поскуливая, что было очень странно, потому что Коули обычно вообще молчала.
– Коули здесь что-то не нравится, – заметила Грай.
Я попросил ее описать, как выглядит склон холма. Трава на нем понемногу отрастала, но пейзаж был, видимо, не слишком приятный.
– Трава вся какая-то спутанная, – сказала Грай. – И повсюду какие-то ямки, и пыли очень много. Какое-то все бесформенное…
– Ну да, хаос.
– Что такое «хаос»?
– Это из одной истории, которую мне мать рассказывала, – о начале нашего мира. Сперва повсюду летали или плавали, как тебе больше нравится, всякие непонятные кусочки, и ни один из них не имел ни определенной формы, ни четких очертаний. Это были просто кусочки, крошки, пузырьки – даже не камни или земля, а просто всякая ерундовая мелочь. Совершенно бесцветная. И не было еще ни земли, ни неба, ни верха, ни низа, ни юга, ни севера. И ни в чем не было смысла. И не было направления. Ничто не было ни с чем соединено, ничто не имело отношения ни к чему другому. И было не темно и не светло. Так, нечто среднее. Хаос.
– А что случилось потом?
– Ничего никогда бы и не случилось, если бы эти кусочки неизвестно чего не начали понемногу соединяться. То тут, то там эта бесформенная чепуха стала обретать форму. Сперва появились комки земли. Потом камни. И камни стукались друг о друга, высекая искры, или растворялись один в другом и становились текучими, как вода. И эти огонь и вода встречались, и возникали потоки – реки, туман, воздух. И этим воздухом смог дышать сам Высший Дух. И этот Дух, вдохнув воздуха, собрал себя воедино и заговорил. И назвал все то, что должно было появиться вокруг. Он дал имена земле, огню, воде и воздуху, и его пение сделало сущими все живые существа. Все обрело свою форму – горы и реки, деревья и животные. И люди. Но сам Высший Дух никакой формы не принял и не дал себе никакого имени, потому что хотел остаться вездесущим, присутствовать одновременно всюду и во всем, во всех вещах и связях между вещами. И когда под конец вновь будут разрушены все связи и вернется хаос, Высший Дух по-прежнему будет существовать, и в итоге победит хаос, как и в начале времен.
Помолчав, Грай спросила:
– Но ведь тогда Дух не сможет дышать, верно?
– Не сможет, пока все не начнется сначала.
Расширяя границы рассказанной мне матерью истории, придумывая все новые детали в поисках ответа на вопросы Грай, я отошел весьма далеко от этого сюжета. Я часто так делал. Мне эта история ничуть не казалась чем-то священным; точнее, все эти истории были для меня священны, ибо все эти чудесные образы – во всяком случае, пока я слушал рассказ о них или рассказывал сам – создавали некий мир, в котором я всегда был зрячим, способным действовать по своему усмотрению; это был мир, который я знал и понимал, который имел свои собственные законы, но все же в определенной степени подчинялся мне – в отличие от настоящего мира, над которым я никакой власти не имел. В скуке и бездействии, порожденных моей вынужденной слепотой, я все чаще существовал внутри этих вымышленных историй, вспоминая их сам и прося мать снова и снова рассказывать их мне, а потом развивая тот или иной сюжет самостоятельно и с помощью слов заставляя его существовать, как это делал Великий Дух во время своей борьбы с хаосом.
– Твой дар очень силен! – услышал я хрипловатый голос Грай.
И вспомнил, где мы находимся. И мне стало стыдно за то, что я привел ее сюда, – я словно хвастался перед ней своей силой, и все же что-то ведь заставило меня привести ее сюда… Но что?
– А то деревце? – спросил я вдруг. – Там была маленькая рябинка… – И тут меня прорвало: – Понимаешь, я ведь тогда решил, что это мой отец! Я думал, что я… Я ведь даже не знал, на что именно смотрю…
Больше я ничего не мог сказать. Я тронул поводья Чалой, и мы покинули изуродованный берег ручья. Какое-то время мы ехали молча, а потом Грай сказала:
– Там все снова начинает расти, Оррек. И трава, и цветы. Мне кажется, Высший Дух не покинул этого места.
Глава 13
Осень, как и лето, прошла без особых событий и происшествий. До нас доносились слухи, что за эти месяцы ссора, начатая брантором Огге и его старшим сыном Харбой во время кабаньей охоты, переросла в настоящую вражду. Харба забрал свою жену и людей и перебрался в Риммант, а Себб, младший сын брантора, по-прежнему живет в Драмманте, и все относятся к нему как к наследнику и будущему брантору. Но дочь Себба и Даредан, Вардан, все лето болела и, видимо, постепенно угасает; у нее то и дело случаются припадки и судороги, а тот слабенький разум, что достался ей от рождения, почти совсем ею утрачен. Все это нам рассказала жена одного странствующего кузнеца. Такие люди – великие сплетники, однако приносят своеобразную пользу, сообщая о том, что творится в разных концах Верхних Земель. И мы жадно слушали ее, хотя мне было противно, что эта женщина смакует подробности недуга, поразившего несчастную Вардан. В какой-то степени я и себя чувствовал ответственным за страдания бедняжки.
И при мысли об этом передо мной тут же возникало лицо Огге Драма, обрюзгшее, с набрякшими веками и взглядом гадюки.
Осенью Грай не могла слишком часто навещать меня – вовсю шла уборка урожая, и в хозяйстве каждые руки были на счету. Да и нас с Коули учить больше не требовалось: мы теперь были, как говорила Меле, «шестиногим мальчиком с необычайно острым чутьем».
Но когда наступил октябрь, Грай стала приезжать к нам на целый день, и, после того как мы с Коули показывали ей свои последние достижения, мы подолгу сидели, беседовали обо всем на свете. Мы обсуждали распри в Кордеманте и Драмманте и вполне разумно заключали, что пока семьи тамошних правителей заняты междоусобицами, они вряд ли станут вторгаться на чужую территорию или засылать в чужие владения своих воров. Как-то раз я спросил Грай о Вардан, и она сказала, что, по слухам, девочка при смерти.
– А что, если это Огге? – принялся я размышлять вслух. – В ту самую ночь, когда моя мать сидела возле ее постели… Ведь Огге мог использовать свою силу и против девочки, правда?
– Ты хочешь сказать, что его интересовала вовсе не Меле?
– Может, и нет. – Эта спасительная мысль возникла у меня некоторое время назад и казалась мне вполне приемлемой, однако, высказанная вслух, она вызывала гораздо больше сомнений.
– С какой стати ему применять свой дар изнурения к собственной внучке?
– Потому что он ее стыдился! Он хотел, чтобы она умерла! Она ведь была… – В ушах моих вновь прозвучал тот невнятный слабый голосок: «Живаешь поживаешь по». – Она была идиоткой! – резко сказал я. И вспомнил о собаке по кличке Хамнеда.
Грай промолчала, хотя мне казалось, что она хочет что-то сказать. Видно, передумала.
– Мама в последнее время чувствует себя гораздо лучше, – сказал я. – Она даже прогулялась до Маленькой лощины вместе с Коули и со мной.
– Это хорошо. – Грай не стала говорить, а мне не хотелось и думать об этом, что всего полгода назад такая прогулка была Меле нипочем; тогда она запросто ходила со мной и на верхние холмы, и к роднику и возвращалась домой, весело напевая. И все-таки от мыслей об этом некуда было деться, и я сказал:
– Скажи, как она выглядит.
Это был один из тех моих приказов или просьб, которые Грай исполняла всегда и безоговорочно; это означало, что я прошу ее быть моими глазами, и она изо всех сил старалась видеть все для меня как можно лучше.
– Она очень похудела, – честно призналась Грай.
Но об этом я уже догадался по тому, какими тонкими стали запястья Меле.
– И выглядит немного печальной, – продолжала Грай. – Но все такая же красивая.
– А больной она не выглядит?
– Нет. Только худенькая очень. И кажется немного усталой. Потерять ребенка…
Я кивнул. Помолчав, я сказал:
– Знаешь, она рассказывала мне одну длинную историю… Это часть истории о герое древности Хамнеде. Точнее, о его друге Омнане, который сошел с ума и пытался убить Хамнеду. Если хочешь, я могу пересказать ее тебе.
– Конечно хочу! – радостно воскликнула Грай, и я сразу понял, что она усаживается поудобнее, готовясь слушать. Я погладил Коули по спине, и рука моя так и осталась лежать там – мне приятно было это прикосновение к мягкой шерсти; оно словно служило мне якорем в невидимом реальном мире, не дающем насовсем улететь в яркий и живой мир сказок и легенд.
Ничто из тех слов, которые мы произносили, говоря о моей матери, не казалось уж очень ужасным или безнадежным, и все равно всем было ясно, что она больна и лучше ей не становится. Ей с каждым днем становилось все хуже, и все понимали это.
Понимала это и моя мать. Она казалась немного растерянной, сбитой с толку, но держалась хорошо. Она очень старалась выздороветь. Она не могла и не хотела верить в то, что не в силах делать самую обычную свою работу по дому или хотя бы половину этой работы. «Ну до чего глупо!» – огорченно восклицала она в таких случаях, и это была самая большая жалоба, которая когда-либо срывалась с ее губ.
Отец тоже все понимал. По мере того как дни становились короче, а работы в полях и на пастбищах было все меньше, он старался больше времени проводить дома и поневоле видел, как Меле с каждым днем все больше слабеет, как быстро она устает, как мало ест, как сильно она похудела. Порой единственное, на что у нее хватало сил, – это, дрожа от озноба, сидеть у камина в своей коричневой шали и дремать.
– Я поправлюсь, когда снова станет тепло, – уверяла она всех, и Канок подбрасывал в камин дров и все искал, как бы еще услужить ей. Он готов был сделать для нее все что угодно.
– Что мне принести тебе, Меле? – Я не мог видеть лица Канока, но слышал его голос, и в голосе этом звучала такая нежность, что я внутренне скулил от боли.
Повязка, делавшая меня слепым, и болезнь моей матери давали нам обоим только одно преимущество: теперь у нас было более чем достаточно времени, чтобы с чистой совестью предаваться любимому занятию – рассказыванию историй. Эти истории спасали нас от того темного холодного и ужасно скучного мира, где мы с ней казались слабыми и бесполезными. У Меле была чудесная память, и стоило ей как следует в ней порыться – и она тут же находила какую-нибудь увлекательную историю, которую либо когда-то слышала, либо прочитала в книге. Если она не помнила ее всю целиком, то, как и я, запросто сама дополняла ее или домысливала, даже если это была история из какой-нибудь священной книги, ибо кого тут могли возмутить подобные вольности, кто мог назвать это ересью? Я сказал ей, что она как колодец: стоит опустить ведро – и поднимаешь его наверх, полное всяких историй. Ее насмешило мое детское сравнение, и она вдруг сказала мечтательно:
– А знаешь, я бы хотела записать кое-что из того, что ты зачерпываешь своим «ведром».
Сам я, конечно, не мог приготовить для нее должным образом ни ткань, ни чернила, но я рассказал Рэб и Соссо, двум нашим молодым служанкам, как это сделать, и они с радостью согласились помочь мне: им очень хотелось доставить Меле удовольствие.
Обе эти женщины по отцу были из рода Каспро, но их отцы – ни тот ни другой – фамильным даром не обладали. В доме среди слуг они занимали, можно сказать, привилегированное положение, полученное ими по наследству от матерей. Их матери вместе с Меле с детства учили девушек вести дом. Когда Меле заболела, Рэб и Соссо полностью взяли на себя домашнее хозяйство и делали все в полном соответствии с ее правилами, постоянно придумывая для своей хозяйки всякие приятные мелочи и стараясь по возможности облегчить ее нынешнее печальное существование. Обе они были очень хорошие – добрые, душевные, энергичные. Рэб была помолвлена с Аллоком и собиралась за него замуж, хотя ни он, ни она с этим, похоже, не спешили. Соссо же заявила, что мужчин под ногами и так слишком много болтается, чтобы еще замуж спешить.
Они научились растягивать полотно и замешивать чернила, а Канок сделал нечто вроде переносного столика, и теперь Меле могла писать даже в кровати. Она записывала все, что могла вспомнить, в том числе и из тех священных текстов и песнопений, которые учила наизусть в детстве. Иногда она писала по два-три часа подряд. Она никогда не говорила, почему ей вдруг захотелось все это записать. Она ни разу не сказала, что пишет для меня, что когда-нибудь я смогу все это прочесть. Она ни словом не намекнула, что пишет потому, что скоро ее, возможно, уже не будет с нами и тогда она не сможет больше ничего нам рассказать. А когда Канок, беспокоясь о ней, слегка пожурил ее за то, что она тратит столько сил на свою «писанину», она сказала ему:
– Знаешь, эта «писанина» дает мне ощущение, что все прочитанное и услышанное мною в детстве и юности не пропадет даром, что в этом был все же какой-то смысл. Когда я записываю то, что мне удается вспомнить, я всегда размышляю об этом.
Итак, по утрам Меле писала, а днем отдыхала. К вечеру к ней приходили мы с Коули, а часто заглядывал и Канок. Она рассказывала нам очередную историю о героях древности, которую не успела дорассказать накануне, или что-нибудь о тех временах, «когда королем был Кумбело», и мы, притихнув у камина в ее маленькой гостиной, внимательно слушали, а за стенами нашего Каменного Дома стояла зима.
Иногда она говорила:
– А дальше, Оррек, рассказывай ты. – Она утверждала, что просто хочет убедиться, хорошо ли я запомнил эту историю и умею ли ее рассказывать.
Все чаще и чаще она начинала рассказ, а я его заканчивал. Однажды она сказала:
– Мне что-то лень сегодня. Расскажи сам какую-нибудь историю.
– Какую?
– А ты придумай!
Откуда она узнала, что я придумываю истории? Что я без конца складываю их в уме в долгие часы своего вынужденного безделья и скуки?
– Я как-то раз думал о том, что бы сделал Хамнеда, если бы оказался в Алгаланде. Этого ведь нет в твоей истории, правда?
– Вот и расскажи мне.
– Значит, так: после того как Омнан оставил его в пустыне, помнишь, и он сам должен был искать дорогу… Мне кажется, он ужасно страдал от жажды… Там ведь одна пыль, в этой пустыне; куда ни посмотришь – все сплошь покрыто красной пылью. И ничего там не растет, и нет ни ручейка. И Хамнеда знал: если он не найдет воду, то непременно умрет. И он решил идти на север, ориентируясь только по солнцу и не имея для того иной причины, кроме того что на севере была его родина, Бенгдраман. Он все шел и шел, а солнце нещадно палило его голову и спину, и ветер задувал пыль ему в глаза и ноздри, так что трудно было дышать. Ветер становился все сильнее, и вскоре прямо перед Хамнедой возник смерч, взметая высоко над землей клубы красной пыли. Хамнеда не пытался убежать; он остановился и замер, бессильно раскинув руки, и смерч налетел на него, подхватил, закрутил и вдруг поднял высоко над землей. Хамнеда кашлял, задыхаясь в клубах пыли, а смерч все нес его над пустыней, время от времени яростно вращая и пытаясь задушить. Наконец солнце стало садиться, и ветер внезапно улегся. Смерч, опустившись на землю, бросил Хамнеду к воротам какого-то города и исчез. Голова у Хамнеды кружилась так, что он даже стоять не мог. И с ног до головы он был покрыт красной пылью. Пытаясь встать хотя бы на четвереньки и набрать в грудь воздуха, он лежал у ворот, а стражники время от времени посматривали в его сторону, пытаясь понять в сумерках, что же это такое. И один из них сказал: «Вон там кто-то оставил большой глиняный кувшин». Но второй возразил: «Это не кувшин, а какая-то статуя. Похоже, собаки. Должно быть, кто-то прислал ее в подарок нашему царю». И стражники решили отнести «статую» в город…
– Продолжай, – сказала Меле. И я стал рассказывать дальше.
Увы, теперь мое повествование подошло к тому, о чем мне совсем не хочется вспоминать. Передо мной тоже открылась пустыня. И не было такого смерча, который мог бы подхватить меня и перенести через нее.
И с каждым днем, с каждым шагом я все дальше углублялся в эту пустыню.
И вот пришел тот день, когда моя мать, отложив перо и чернила, сказала, что слишком устала и теперь, пожалуй, больше ничего не будет записывать. А потом однажды она попросила меня рассказать ей какую-нибудь историю, но, похоже, не очень-то слушала меня: ее бил озноб, она все время задремывала, но стоило моему голосу умолкнуть, как она говорила: «Не останавливайся», – и я послушно продолжал рассказывать, хоть и боялся слишком утомить ее.
Когда стоишь еще на самом краю пустыни, то кажется, будто она необычайно велика. Возможно, думаешь ты, потребуется целый месяц, чтобы ее пересечь. Но проходит и два месяца, и три, и четыре, а ты все идешь и идешь, с каждым шагом уходя все дальше в это царство красной пыли.
Рэб и Соссо, добрые и сильные девушки, отлично ухаживали за Меле, но, когда она стала совсем слаба, Канок сказал, что теперь сам будет ухаживать за нею. И делал это с удивительно деликатным терпением. Он заботился о ней, как о ребенке, – поднимал, обмывал, утешал, пытался согреть. Два месяца он почти не выходил из ее комнаты. Коули и я тоже большую часть времени проводили там, хотя бы для того, чтобы составить ему компанию. По ночам он нес свою бессонную вахту в одиночестве.
Порой ему удавалось немного поспать днем, подле нее. Как бы слаба она ни была, но шептала ему: «Иди сюда, ляг со мной, любовь моя. Ты, должно быть, ужасно устал. Ложись рядом, согрей меня. Вот, укройся моей шалью». И он ложился рядом с нею на ее узкое ложе, крепко обнимал ее и задремывал, а я сидел очень тихо, слушая их сонное дыхание.
Наступил май. Как-то утром я сидел у окна, чувствуя на руках теплые лучи солнца; я вдыхал ароматы весны, слушал легкий шелест ветерка в молодой листве. Канок приподнял Меле, чтобы Соссо могла постелить ей чистые простыни. Меле весила так мало, что он порой носил ее на руках, точно ребенка. Вдруг она пронзительно вскрикнула. Я даже не сразу понял, что, случилось. Оказывается, кости у нее стали настолько хрупкими, что, когда отец ее приподнял, ключица и бедренная кость хрустнули, как сухие ветки, и сломались.
Канок бережно опустил ее на кровать. Она была без сознания. Соссо бросилась за помощью. И я единственный раз за все эти долгие месяцы услышал, как Канок плачет. Он упал на колени возле ее постели и рыдал так громко, так ужасно задыхаясь и пряча лицо в ее простынях, что я весь съежился на скамейке у окна, стараясь стать совсем незаметным.
Явившийся лекарь предложил уложить плечо и ногу Меле в лубки, чтобы обеспечить им полную неподвижность, но отец не дал ему даже прикоснуться к ней.
На следующий день я вышел за ворота, чтобы дать Коули немного побегать, и вдруг меня позвала Рэб. Я бросился в дом. Коули, все понимая, тут же повела меня к матери. Мы поднялись в башню. Меле лежала среди подушек, и старая коричневая шаль по-прежнему была у нее на плечах. Я наклонился и поцеловал мать. Ее руки и щека были холодны как лед, но она тоже поцеловала меня и прошептала:
– Оррек, я хочу видеть твои глаза. – И, почувствовав мое сопротивление, прибавила: – Ты уже ничем не можешь мне повредить, дорогой мой.
Но я все-таки колебался.
– Снимай, – велел мне Канок тихим голосом; он всегда в ее комнате говорил очень тихо.
И я стянул с глаз повязку, снял с глаз мягкие прокладки и попытался приподнять веки. Но оказалось, что я не могу этого сделать. Пришлось подтолкнуть веки пальцами, и только тогда глаза мои открылись, но я ничего не увидел – лишь какой-то яркий, болезненно яркий туман, некий хаос света.
Потом глаза мои, видно припомнив былое умение, как-то приноровились к обстоятельствам, и я увидел лицо матери.
– Ну-ну, – одобрительно сказала она, – вот так, хорошо! – Она смотрела мне прямо в глаза, и ее глаза показались мне невероятно огромными на ставшем крошечным, до предела исхудавшем личике в ореоле черных спутанных волос, разметавшихся по подушке. – Да, все правильно, – сказала она удовлетворенно и уверенно. И попросила меня: – Ты сохрани это как память обо мне, ладно? – И раскрыла ладонь, на которой лежала ее подвеска с опалом на серебряной цепочке. Руку она поднять не могла. Я взял подвеску и надел через голову на шею. – Энну, услышь меня и приди! – прошептала она. И закрыла глаза.
Я посмотрел на отца. Лицо его точно окаменело, но было исполнено твердой решимости. Он слегка кивнул мне.
Я еще раз поцеловал мать в щеку, снова положил на глаза прокладки и затянул на затылке концы черной повязки.
Коули слегка потянула за поводок, и я позволил ей увести меня из комнаты.
В тот же день сразу после заката моя мать умерла.
Печаль, как и слепота, – дело довольно странное; ты должен научиться жить с этим. Мы ищем товарищей по несчастью, оплакивая кого-то, но после первых бурных рыданий, после всех хвалебных слов и воспоминаний о прекрасном прошлом, после того, как выкрикнуты все сожаления и проклятия и зарыта могила, в твоем горе, в твоей великой печали нет и не может быть никаких товарищей по несчастью. Эту ношу приходится нести в одиночку. И как ты будешь ее нести – дело твое. Во всяком случае, так казалось мне. Возможно, говоря так, я проявляю неблагодарность по отношению к Грай, к тем людям, что окружали меня дома и в нашем поместье, к своим друзьям, без которых я не вынес бы, возможно, столь тяжкую ношу, не выдержал бы этого ужасного, долгого, черного года.
Да, я так и называл его про себя: черный год.
Рассказать о нем невозможно – это все равно что попытаться рассказать, как тянется бессонная ночь. Когда ничего не случается, когда мысли приходят и уходят сами собой без конца, точно незваные гости, когда человек засыпает на краткие секунды и снова просыпается и страхи громоздятся в его сознании и улетают прочь, когда в голове крутятся какие-то бессмысленные слова, а порой мимолетный кошмар касается его своим темным крылом, когда время, похоже, застыло, и в комнате по-прежнему темно, и рассвет никак не наступает…
В горе мы с Каноком не были товарищами по несчастью. И не могли быть. Как бы ни была жестока и безвременна моя утрата, я утратил только то, что время так или иначе должно было забрать и возместить мне иной любовью. Для него же такое возмещение было невозможно; для него с уходом Меле исчез весь смысл, вся прелесть жизни.
И он, оставшись одиноким, винил во всем себя, и печаль его была столь тяжела и безутешна, что он ни в чем более не находил ни покоя, ни отрады.
После смерти Меле многие люди в нашем поместье стали опасаться и Канока, и меня. Про меня было известно, что я обладаю «диким даром», а уж что теперь могло прийти на ум Каноку, охваченному горем, трудно было даже предположить. Мы оба с ним были потомками Слепого Каддарда. И у нас, как у любого человека, было самое что ни на есть законное право на гнев. И поэтому все нас боялись. Хотя каждый человек в Каспроманте совершенно твердо знал: Меле Аулитту убил Огге Драм. Она умерла ровно через год и один день после той ночи, когда мы покинули Драммант. И не было никакой необходимости рассказывать людям ту историю, которую Меле тогда рассказала мне, а я рассказал Грай, – о ночи, проведенной у постели больной девочки, о странном шепоте в полутемной комнате, о холоде, от которого не было избавления… Мы с Грай никому об этом не рассказывали; и я никогда не спрашивал, рассказывала ли она ее Каноку. Он, как и все остальные, и без того знал, что, съездив в Драммант, эта прекрасная светлая женщина вернулась оттуда больной, потеряла ребенка, которого носила под сердцем, стала чахнуть и умерла.
Канок был сильным человеком, но последние месяцы перед кончиной Меле стали для него тяжким бременем, истерзав его тело и душу. Первые две недели после ее смерти он почти все время спал – в ее комнате, на той самой кровати, где она и умерла, когда он держал ее в своих объятиях. Он часами не выходил оттуда, и Рэб, Соссо и многие другие боялись за него. И его самого тоже боялись. А меня использовали как посредника. «Ты уж зайди туда тихонько, спроси, не нужно ли чего брантору Каноку», – говорили мне женщины. Аллок же обычно говорил так: «Ты спроси, чего брантор велит коню-то давать – отруби или овес?» Дело в том, что старый Грейлаг отказывался есть, и они беспокоились о его здоровье. Мы с Коули поднимались по винтовой лестнице в башню, и я, собравшись с духом, стучался. Иногда отец отвечал, иногда нет. Когда он открывал дверь, голос его звучал холодно и ровно. «Скажи им, что мне ничего не нужно», – говорил он обычно. Или: «Скажи Аллоку, пусть своей головой думает». И снова закрывал дверь.
Я до ужаса не любил ходить туда, ведь он совсем не желал меня видеть, но никакого физического страха перед ним я не испытывал. Я знал, что он никогда не воспользуется своим даром против меня, как знала это и Меле. Как она знала и то, что и я никогда бы не смог принести ей ни малейшего вреда.
Когда я окончательно осознал это, когда я стал все происшедшее со мной воспринимать именно так, то испытал настоящее потрясение. Это была не просто вера в отца; это было знание, понимание. Я твердо знал, что он никогда не причинит мне вреда. Я твердо знал, что никогда не причинил бы вреда Меле. А это означало, что я давным-давно мог бы снять свою повязку – во всяком случае, когда бывал с нею. Я мог бы видеть ее! Видеть весь тот последний год. Я мог бы заботиться о ней, быть ей полезным, читать ей, а не только рассказывать свои глупые истории. Я бы смотрел в ее дорогое лицо – и не один лишь краткий миг, а весь тот долгий, черный год!
Мысль об этом вызывала у меня не слезы, а приступы бешеного гнева, похожего, должно быть, на те чувства, которые испытывал отец, – сухую ярость бессильных сожалений.
И некого было за это наказывать, кроме меня самого. Или моего отца.
В ту ночь, когда умерла моя мать, я прижался к нему, и он крепко обнимал меня, и моя голова лежала у него на груди. Но с тех пор он едва ли хоть раз прикоснулся ко мне, да и говорил со мной очень мало; он заперся в ее комнате и всех сторонился. Он хочет в одиночку испить все свое горе до дна, думал я с болью в сердце.
Глава 14
Всю весну Тернок и Парн старались приезжать к нам из Роддманта так часто, как только могли. Тернок был человеком очень добрым и мягким, и в семье у них всегда главенствовала Парн; не думаю, что он был так уж счастлив со своей волевой супругой, но никогда на нее не жаловался. Моего отца он обожал и всю жизнь смотрел на него снизу вверх, а мою мать нежно любил и теперь горячо ее оплакивал. В конце июня он заехал к нам, поднялся в башню и долгое время о чем-то говорил с Каноком. И вечером Канок даже спустился вниз, поужинал вместе со всеми и с этого дня перестал запираться, заставляя себя понемногу возвращаться к своим прежним обязанностям, хотя спать всегда уходил в ту же комнату в башне. Со мной он по-прежнему разговаривал с трудом, как бы сквозь зубы, точно выполняя неприятную обязанность. Я отвечал ему тем же.
Я раньше надеялся, что, может быть, Парн знает, как помочь моей матери справиться с недугом, но Парн была охотницей, а не целительницей. В комнате больной она сразу начинала нервничать, проявлять нетерпение и, в общем, была бесполезной. На похоронах матери Парн руководила церемонией оплакивания, тем поистине ужасающим воем, который поднимают женщины Верхних Земель над могилой. Этот плач похож на вопли невыносимо страдающих от боли животных, так что даже Коули подняла голову и завыла вместе с женщинами, содрогаясь всем телом, а я стоял рядом с нею, тоже весь дрожа и тщетно борясь со слезами. Когда все было кончено, я чувствовал себя совершенно измученным, но, как ни странно, испытывал некоторое облегчение. Канок в течение всего оплакивания стоял не шелохнувшись, точно скала под дождем.
Вскоре после похорон Меле Парн отправилась в Каррантаг. Жители Барреманта, прослышав о ее умении приманивать дичь, послали за нею с вежливым приглашением погостить у них. Парн хотела, чтобы Грай непременно поехала с нею вместе и начала понемногу упражняться в применении своего дара. Подобная возможность отправиться к богатым горцам и завоевать там репутацию была редкой удачей. Но Грай отказалась, и Парн страшно на нее рассердилась. Но тут в очередной раз вмешался добросердечный Тернок и сказал жене:
– Ты уезжаешь, куда и когда хочешь, так позволь и своей почти взрослой дочери поступать так же.
Парн понимала справедливость его слов, но мириться с этим не хотела и на следующий же день уехала – без Грай и ни с кем даже не попрощавшись.
Молодого жеребца Блейза Грай уже вернула в Кордемант; он был полностью объезжен. И теперь она приезжала к нам на одной из рабочих лошадей из тех, на каких обычно пахали; если же свободной лошади не находилось, она просто шла пешком, хотя путь до Каспроманта был неблизкий, особенно если учесть, что оба конца нужно было сделать в один день. Для меня это было слишком далеко, чтобы я мог пойти туда пешком с Коули. А Чалая все старела, и я редко ездил на ней. Грейлаг, к счастью, преодолел свой недуг и дурное настроение, но и он тоже был уже старым жеребцом. Рыжему Бранти исполнилось четыре года, и на него среди наших соседей был большой спрос как на производителя, что ему самому, по всей видимости, очень нравилось, хотя и мешало выполнять свои прочие обязанности по хозяйству. В общем, конюшня у нас была весьма небогатой. И однажды вечером, собрав все свое самообладание – мне теперь постоянно приходилось это делать, разговаривая с отцом, – я сказал:
– Нам бы нужно завести еще одного жеребенка.
– Да вот я все думал спросить у Данно Барре: что он хочет за свою серую кобылу, – неожиданно миролюбиво откликнулся Канок.
– Она же старая! А если мы заведем жеребенка, Грай могла бы отлично его «обломать».
Когда не можешь видеть лица своего собеседника, его молчание всегда представляется несколько загадочным. Я ждал, не зная, то ли Канок просто обдумывает мое предложение, то ли уже отверг его.
– Ладно, я, пожалуй, действительно поищу жеребенка, – сказал он, и я обрадованно сообщил:
– Аллок говорил, что в Каллеманте есть очень хорошая молоденькая кобыла. Он о ней от нашего кузнеца слышал.
На этот раз молчание отца было более продолжительным. Ответа мне пришлось ждать целый месяц. Но он все же наконец был получен, когда Аллок, вне себя от восторга, крикнул мне, чтобы я быстрее шел на конюшню смотреть новую кобылу. Рассмотреть я ее, правда, не мог, но подошел, ощупал ее, погладил, почесал ей лоб и даже сел в седло, чтобы сделать пробный круг по двору. Аллок все нахваливал спокойный и разумный нрав кобылы и ее красоту. Ей всего год, сказал он, и она светло-гнедая, со звездочкой на лбу, благодаря которой и получила свою кличку: Звезда.
– Может, Грай стоит приехать к нам и поработать с лошадью? – спросил я, и Аллок сказал:
– Ох, да ведь Канок кобылу на целый год в Роддмант отправляет! Она все равно еще слишком молода, чтоб на ней твоему отцу можно было верхом ездить. Да и мне тоже.
Когда Канок вернулся в тот вечер домой, мне очень хотелось поблагодарить его, подойти, обнять, но я боялся – из-за своей вынужденной слепоты – сделать какое-нибудь неловкое движение; боялся, что он по-прежнему не захочет, чтобы я прикасался к нему.
И я сказал просто:
– Я проехал круг по двору на новой кобыле. Отличная лошадка!
– Вот и хорошо, – спокойно откликнулся Канок, тут же пожелал мне спокойной ночи, и я услышал его тяжелые шаги на лестнице, ведущей в башню.
Так что в этот тоскливый период Грай, к моей великой радости, могла теперь приезжать ко мне верхом на Звезде два-три раза в неделю, а то и чаще.
Когда она приезжала, мы отправлялись кататься вместе и она непременно рассказывала мне, чем они со Звездой занимаются. Кобыла была ласковой, как ребенок, и очень послушной, так что для ее «обламывания» особенных усилий не требовалось; Грай учила ее приемам выездки и всяким другим штукам, которые могли, как она считала, продемонстрировать и искусство тренера, и возможности самой лошади. Мы редко уезжали далеко от дома, потому что у Чалой сильно болели суставы, и вскоре возвращались назад, а потом, если было тепло, сидели у нас на огороде, а если погода была холодной и дождливой, устраивались в своем любимом уголке у камина в гостиной.
В тот первый год после смерти матери я, несмотря на ту радость, которую доставляло мне присутствие Грай, иногда не мог заставить себя буквально ни слова произнести. Мне просто нечего было сказать. Меня окружала какая-то пустота, мертвое пространство, которое с помощью слов было не преодолеть.
И тогда Грай принималась сама рассказывать мне обо всем, что узнала за последнее время, и, выложив новости, просто сидела рядом в молчании, и молчать с ней было так же легко, как с Коули. И я был очень благодарен ей за это.
Я не слишком хорошо помню тот год. Я тогда словно провалился в некую черную пустоту. Мне нечем было заняться. Я чувствовал себя совершенно бесполезным. Мне казалось, что я так никогда и не научусь пользоваться своим даром; просто привыкну им не пользоваться, и все. И вечно буду сидеть в зале Каменного Дома, а люди будут меня бояться, это и будет моим единственным предназначением в жизни. Я с тем же успехом мог бы родиться идиотом, как та бедная крошка из Драмманта. Разницы особой не было бы. Все равно ведь со своей повязкой на глазах я выполнял роль пугала.
Иногда я в течение нескольких дней никому не говорил ни слова. Соссо, Рэб и другие люди в доме пытались со мной заговаривать, старались развеселить меня, как-то побаловать, приносили мне из кухни всякие лакомства, а Рэб настолько осмелела, что стала предлагать мне выполнить кое-что по хозяйству, что можно было сделать, и не имея глаз. Я с радостью когда-то выполнял ее просьбы, но не теперь. Под конец дня вместе с отцом обычно приходил Аллок, и, когда они обсуждали свои дела, я сидел с ними, но молчал, хотя Аллок все время пытался и меня втянуть в разговор. А Канок лишь спрашивал (как мне казалось, сквозь зубы): «Ты здоров, Оррек?» или «Ты сегодня катался верхом?». И я отвечал: «Да, здоров» или «Да, катался».
Теперь-то я думаю, что и отец не меньше меня страдал от возникшего меж нами отчуждения. Но тогда я знал одно: не ему приходится платить такую цену, какую плачу я за наш фамильный дар.
В течение всей зимы я строил планы того, как доберусь до Драмманта, отыщу Огге, сниму с глаз повязку и уничтожу его! Я снова и снова представлял себе эту поездку: я выеду еще до рассвета и возьму Бранти, потому что наши старые лошади уже слабы и недостаточно быстры. Я весь день буду ехать до Драмманта, а потом пережду где-нибудь, спрятавшись, и дождусь вечера, когда Огге выйдет из дома… Нет, лучше так: я предстану в новом обличье – ведь в Драмманте меня видели мальчишкой, да еще и с повязкой на глазах, а я тем временем здорово подрос, да и голос у меня стал грубеть. Кроме того, я надену плащ серфа, а не куртку и килт, как всегда, и меня никто не узнает. А Бранти я спрячу где-нибудь в лесу, потому что такого коня люди, конечно, сразу узнают, а сам я пойду пешком, точно бедный фермер из далекой горной лощины, и подожду Огге; а когда он появится, я одним взглядом, одним словом и одним жестом… И пока все будут стоять, застыв от ужаса и изумления, я снова ускользну в лес, сяду на Бранти, и мы помчимся домой, и я скажу Каноку: «Ты боялся убить его, а я все же сделал это!»
Но я этого так и не сделал. Я верил в то, что сделаю это непременно, без конца обдумывая свой план мести, но когда история эта подходила к концу, вместе с ней остывала и моя решимость.
Я так часто рассказывал себе эту возможную историю своей мести, что она износилась настолько, что утратила для меня всякий интерес.
И я еще глубже погрузился в окутывавшую меня тьму.
Но где-то там, в темноте, я неожиданно повернул назад, даже не поняв, что это произошло. Там ведь царил хаос, там не было понятий «вперед» или «назад», не было направления; но я куда-то повернул, и тот путь, на котором я оказался, вел меня назад, к свету. И Коули была моим верным спутником и товарищем в этой тьме и в этом молчании. А Грай была моим провожатым.
Как-то раз, когда она приехала к нам, я сидел у камина. Огня в камине не было – на дворе стоял май или июнь, так что топили только плиту на кухне, но на этой скамье у камина в гостиной я просиживал большую часть дня. Я слышал, как она приехала; слышал легкий перестук копыт Звезды на дворе, голос Грай, голос Соссо, которая, поздоровавшись с ней, сказала: «Он там же, где и всегда», а потом почувствовал на плече руку Грай. Но на этот раз она этим не ограничилась: она наклонилась и поцеловала меня в щеку.
После смерти матери меня никто не целовал; люди ко мне едва прикасались. И это ласковое прикосновение, этот поцелуй были для меня точно удар молнии. У меня даже дыхание перехватило.
– Здравствуй, принц Зола, – сказала Грай. От нее замечательно пахло запахом наездницы – конским потом, пылью, травой, и голос ее звучал, как шорох ветра в листве деревьев. Она присела рядом со мной и весело спросила: – Помнишь такого?
Я покачал головой.
– Ой, ну что же ты! Ты же всегда все истории помнишь. Правда, эту нам рассказывали давным-давно. Когда мы были еще маленькими.
Я по-прежнему молчал. Привычка к молчанию свинцовой тяжестью придавила мой язык. А Грай продолжала как ни в чем не бывало:
– Принц Зола – это мальчик, который даже спал в уголке у очага, потому что родители не позволяли ему ложиться в кровать…
– Приемные родители.
– Верно. А настоящие родители его потеряли. Интересно, как можно потерять мальчика? Они, должно быть, были страшно беспечными людьми.
– Они были королем и королевой. А мальчика украла ведьма.
– Правильно! Он вышел из дому поиграть, а из лесу появилась ведьма… и у нее была сладкая спелая груша… и как только мальчик откусил от груши кусочек, она сказала: «Ага, сладкоежка! Ну что, перепачкался волшебным липким соком? Теперь ты мой!» – Грай даже засмеялась от радости, вспоминая все это. – Так она и прозвала его Сладкоежкой. А что случилось потом?
– Ведьма отдала его одной бедной паре, у которой уже было шестеро своих детей, так что седьмого иметь им совсем не хотелось. Но она хорошо заплатила им – дала золотой слиток, чтоб они все-таки оставили его у себя. – Слова и ритм знакомого повествования заставили меня во всех подробностях вспомнить эту сказку, которую я не вспоминал уже лет десять; и в ушах моих вновь зазвучал мелодичный голос матери, рассказывавшей нам о принце Золе. – В общем, мальчик стал у них в доме слугой, и ему приходилось бежать со всех ног, стоило приемным родителям его кликнуть, а окликали они его так: «Эй ты, чумазый Сладкоежка, сделай то-то и то-то!» – и у него никогда не было ни минутки свободной, пока не наступала глубокая ночь; к этому времени вся работа в доме была уже переделана, и он мог наконец пробраться к очагу, лечь спать прямо в теплую золу.
Я умолк.
– Ой, Оррек, ну что же ты? Рассказывай дальше, – прошептала Грай.
И я стал рассказывать дальше. Я рассказал ей всю историю принца Золы, который, конечно же, в конце концов стал королем.
Потом мы оба некоторое время молчали, и я услышал, как Грай высморкалась. Похоже, она плакала.
– Ты только подумай, плакать из-за какой-то сказки! – с досадой пробормотала она. – Просто я вспомнила Меле… Коули, да у тебя все лапы в золе! Ну-ка давай их сюда. Вот так. – Видимо, последовала чистка собачьих лап, и Коули принялась энергично отряхиваться.
– Давай выйдем на улицу, – предложила мне Грай и встала, но я продолжал сидеть совершенно неподвижно.
– Пойдем, посмотришь, что научилась делать Звезда, – услышал я снова ее чуть хрипловатый голос.
Она сказала «посмотришь». Впрочем, я и сам обычно так говорил, потому что очень трудно каждый раз подбирать какое-то другое, более точное слово. Но на этот раз – наверное, я уже повернул назад в своей темной стране, но еще не понимал этого, хотя что-то в моей душе уже переменилось, – я вдруг рассердился:
– Я не могу «посмотреть», что делает Звезда! Я вообще ни на что не могу «посмотреть». Хватит, Грай! Ступай лучше домой. Все это глупости, и нечего тебе сюда приезжать без толку.
Она помолчала, потом тихо сказала:
– Я сама в состоянии решить, как мне поступить, Оррек.
– Ну так реши! Воспользуйся своей головой!
– Сам воспользуйся своей головой! С ней ведь ничего плохого не случилось, если не считать того, что ты совсем перестал ею пользоваться! В точности как глазами!
При этих словах волна ярости вдруг поднялась в моей душе, той самой застарелой испепеляющей ярости отчаяния, какую я испытывал и в те мгновения, когда пробовал воспользоваться своим даром. Я протянул руку, нащупал посох Слепого Каддарда и встал.
– Убирайся отсюда, Грай! – выкрикнул я. – Убирайся немедленно, пока я не убил тебя!
– А ты попробуй! Сними с глаз повязку!
Обезумев от ярости, я бросился на нее, вслепую взмахнув посохом. Удар, разумеется, пришелся в пустоту.
Коули резко предупреждающе залаяла и крепко прижалась к моим коленям, чтобы я не мог сделать больше ни шагу вперед.
Я протянул руку и погладил собаку по голове.
– Все хорошо, Коули, – пробормотал я. Меня всего трясло от возбуждения и стыда.
Вскоре, но на некотором расстоянии от меня, послышался голос Грай: