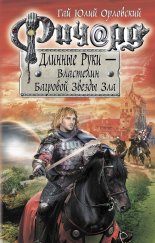Ночной бродяга. Часть первая Га?рду Джин

1
Имя, данное мне при рождении, – Рокамадур. Не знаю, кого из предков винить за это. Оглядываясь на пройденный путь, своим призванием назову реставрацию подушек. Рока не шутит! Никогда! С алмазной уверенностью возглашаю, что сие ремесло дается мне лучше всего. Откуда этот поток клиентов, не знаю, но вот уже долгие годы они неизменно возвращаются и приводят новых.
Мне тридцать лет. Я перспективный и амбициозный реставратор подушек, я поддерживаю силы человеческой привязанности, и это, сказать по правде, нелегкий труд.
Наткнуться на мой трейлер вы могли на улице А и на этой – B, и даже на этой – C с вторника по пятницу с 09:00 до 16:00. Основной обязанностью реставратора является «усердное ожидание». Ему предшествует этап «подготовки», состоящий из двух фаз: 1) перманентное созерцание картины Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт» (разворот из старой газеты); 2) чтение всевозможных книг, а также просмотр фильмов и сериалов. Этот важнейший из этапов непреложен и бесконечен!
Следующий этап – «предвкушение» – заключается в ожидании клиентов, и в это время меня посещают размышления о жизни. Все идет своим чередом, моя жизнь насыщена всякого рода раздумьями и никак не действиями. Зачем? До меня мир строили родители, а до этого их родители… А я чертовски хорош в созерцании и обдумывании! Пускай будущее сотворяют другие, у меня же есть уйма времени и тонны информации, которую следует поглотить, переварить и высрать. Но я никак не прожигатель жизни! Прошу не путать!
Этап «действий» состоит из одной фазы: берем подушку, потрошим ее и наполняем перьями. Все. Закончено.
Когда «пациента» укладывают на мой стол, зяблого, иссохшего и засаленного, я первым делом вспарываю живот «пером». Далее использую насос, чтобы уставшие и потрепанные перья отправить вслед за ангелами – в урну. В эти моменты перед глазами всплывает картина Отца (он художник): гигантский триптих, натянутый на старую оконную раму, – «Демон, вырывающий перья из крыла Ангела». Где-то глубоко-глубоко, в царстве мертвых, возле бездонной урны для перьев, край которой сверженный Ангел задевает своим крылом, в сладостном раздумье сидит Демон. Крылатый сложен пополам на его колене, как непослушный мальчишка на колене отца. Острые, черные, длинные когти беса держат перышко, острием повернутое к его козлиной бороде. Он запечатлен в момент гурманского предвкушения – в его распоряжении вечность.
Я облучаю перья бактерицидной лампой, наполняю наволочку наполовину и откладываю в сторону. На швейной машинке сшиваю края подушки и вновь включаю насос, в этот раз заполняя пространство полностью. Нить использую белую, так как большинство наволочек шились белыми, и только со временем пожелтели. Уж если перья очищены, так почему бы и нить не использовать белую? Белый – цвет чистоты.
В детстве, в Мире прошлого, держась за отцовскую руку, я попал в мастерскую реставратора подушек на улице N. К единственному и неповторимому мастеру своего дела, к которому Рокамадур прилип в качестве ноющего и любознательного подмастерья. Стоит пояснить: идея отреставрировать ветхие подушки принадлежала отнюдь не Графу (это прозвище Отец получил в награду за вечно вздернутый нос). Всему виной его Любовница! Графская наложница розовела под луной: розовое тело, розовая одежда, розовые зрачки, розовая аура… Розовый – цвет желаний. «Она любит кувыркаться на подушках. Мы их порядком износили…», – говорит Отец. Тогда я понятия не имел, что значит «кувыркаться». В особняке Фира, где скромный Рокамадур находился в ожидании отроческих капризов, было полным-полно подушек. Так что посещать мастерскую было совсем не обязательно, но, тем не менее, мы пришли.
Я внимательно следил за каждым движением Мастера и находил его род деятельности весьма и весьма интригующим. Мне уж точно была не по нраву мысль стать космонавтом или врачом. Потому в следующий раз я принес Мастеру подушку для иголок. Поделка была сделана грубо и безвкусно и ожидаемо получила негативный отзыв: «Молодой человек, нет в вашем изделии души!» Тогда я все воспринимал прямолинейно и уже на следующий день сшил куклу, ведь что еще, если не кукла, может обладать душой? Она ведь похожа на человека! Со второй попытки прокатило, и Рока был допущен к таинствам дела.
Тогда я закончил шить куклу. Не первую и не последнюю, но не хочу говорить – очередную. Род этих взаимоотношений можно было назвать «полузабытый роман»: меньше патетики, больше чувственности (еще одно пошлое словечко). Хотя в действительности лучший эпитет – убийство. Убийство прошлого… Мой странный способ прощаться. Кто-то рыдает на плече, кто-то пишет письма, кто-то оскверняет любовь дружбой, ну а я шью куклы и оставляю их у двери в знак расставания.
Окно выходило в крытый колодцеобразный дворик, какие бывают в Лондоне, в Львове или в Праге. Казалось, будто окно – это дверь лифта, медленно ползущего, чуть-чуть, и еще немного, но неизменно вниз, и я вот-вот поравняюсь взглядом, бездумно устремленным в красный мерцающий огонек сигнализации, с ночным бродягой у моего парадного. Но этот «лифт» недвижен, а потому я застыл посреди. Луна сверлит макушку, ноги топчут пол, взгляд прикован к синему огоньку, а бродяга продолжает путь и покидает дворик. Домохозяйки называют это релаксацией. Ну а мне всего-то нравится красный и синий цвет огоньков от сигнализации в колодцеобразном дворике.
Мой читатель, я расскажу обо всем случившемся оттуда – из Мира релаксации – в спокойной манере, потому что больше не осталось поводов для волнения.
Я был безмятежен и решителен: наступил тот самый день. Кукла завершена, а значит, пришло время прощаться с подругой сердца, подругой детства, подругой в постели, подругой жизни или дамой сердца, если угодно. Рока решил подарить куклу Клем и потому закрыл свой трейлер на неопределенный срок, чтобы не отвлекаться на работу. Так и написал на двери: «Прошу простить, временно не работаю – занят очень важным делом!» Но отвлекло меня другое: тем утром в дверь постучали. Я ударил со своей стороны, выбивая ритм утренней пульсации в висках, и в ответ опять послышался нетерпеливый звонкий стук. Я открыл.
Глуповатая улыбка обнажила 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – ровно 32! – белоснежных, коммерчески убедительных зуба.
– Мы собираем денежки! – она говорит с улыбкой.
– И зовут тебя… Мне Нужны Денежки, – отвечаю.
– Должно быть, это остроумно… – она замешкалась. – Но верно – меня зовут Клаудия.
Это имя кажется чересчур мелодичным для человеческого слуха. Не так ли? Как можно так обозвать свою принцессу? Ирония в ее словах… ах, эта ирония в словах… не могу сказать, что ее слова, интонация, улыбка были вестниками скорых перемен, отнюдь, этот визит не сказал мне ровным счетом ничего. Уже очень давно я не говорил с людьми. Однако в тот день все должно было перемениться, ведь Рока, спустя два года, решился подарить куклу Клем.
– Я собираю денежки в помощь казино, – она продолжает.
– Да, да, конечно, – отвлеченно киваю.
– У нас там можно выиграть шляпку. Мы на шляпки играем!
– Ну как же иначе, – улыбаюсь.
– Владелец казино Эдван Дедье, очень беспокойный тип. Мы его называем Ошпаренный. Мы в казино живем. Много людей там живет. Мы не хотим играть на деньги – мы играем на шляпки!
На устах пляшет слово «проза». Что за черт!
– Ага, я все понял: денежки – шляпки – казино – люди. Все понятно, конечно.
– Вот ты придешь в казино и сможешь выиграть! Многие выигрывали. Придешь и поставишь самое ценное в своей жизни. Придешь и выиграешь шляпку. Я эти шляпки шью для тех, кто выиграл. Всем нравятся мои шляпки!
– Нисколько в этом не сомневаюсь.
– Мне нужны денежки! Я хочу шить шляпки. Денежки пойдут на шляпки.
Проза, проза, проза… Мир прозы, как-то так…
– Идем в казино. Бери денежки, и идем в казино! – сверлит своим писклявым голоском, причиняя невыносимую боль.
– Да конечно, конечно.
Побойся бога, Клаудия! На дворе сказочный рассвет! К чему этот визг?!
Я опустил взгляд на ее ножки. Клаудия, хочу заметить, у тебя потрясающий зад! И пока я рассматривал ее фигуру, в памяти всплыли стройные ножки учительницы английского языка, доводящие меня до неистовства в старших классах. Эти ножки дали Рокамадуру представление об «истинной красоте». Теперь картины Тулуз-Лотрека2 – это ножки англичанки, сонеты Данте – это ножки англичанки, короче, вся красота мира – это ножки англичанки. Но только той – молоденькой англичанки, а не той, которую я встретил недавно в таксопарке, эта больше смахивала на поношенную обувь молодой. Глядя, как угасла ее красота, мне захотелось навсегда проститься с образом этой старухи и встречаться с ней, молоденькой, только в памяти. Я сшил ей куклу и передал ее через таксиста, который по вторникам и субботам подвозил старуху к дочке, живущей в пяти кварталах от таксопарка. У дочки тоже стройные ножки! Жить без этой красоты невозможно! Мы с моим Другом часто любовались ножками англичанки даже тогда, когда я жил с Клем в Белой комнате. Это он, Друг, научил меня сарказму в том виде, в котором его запоминают люди на операционном столе перед уколом.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть… забываю обо всем и следую порядку. Передо мной эта девка… Клаудия! Точно, ее зовут Клаудия! Она терпеливо ждала пока Рокамадур придет в себя. Я открыл глаза и молча вернулся в квартиру. На подоконнике в спальне лежала кукла, неподвижно и молча, она молчаливая такая! И глаза вишневого цвета. Ее зовут Клем. Мы познакомились в Фире, у нас за пазухой целая история. Удар был сильным! – глаза мне шепчут. Чертовски верно: я вышел из Белой комнаты, обернулся и увидел в ее чертах куклу из мешковины, с неестественно длинными трехпалыми руками и разноцветными плетеными косичками, повязанными серым платком. Она должна быть одета в пончо из бело-голубой ткани в клетку. Она приехала из Австралии, а в глазах огромных размеров надпись – «Франция». Глаза пуговичные, вишневого цвета. Она танцовщица, она ждет чуда от Франции. Но никто не узнает выдуманную историю этой куклы, она создавалась для одной цели – произнести свое имя и проститься. Куклу зовут Клем.
Я взял с собой австралийку и деньги, целую ясельную группу денег, и вышел к гостье.
Мы втроем идем в казино. Кукла, как обычно, молчит, а Клаудия без умолку рассказывает об этом сказочном казино и его владельце Эдване Дедье. Об этом Ошпаренном. А я шагаю прямо, уверенно чувствуя почву под ногами. Я не сказал Кукле, что подарю ее Клем: спустя столько лет я разорву с ней, с Клем, всякого рода связь и память о нашей жизни вдвоем, и память о той ночи, когда все изменилось, – все отдам Кукле. Начиню ее тряпичную головку тревогой, больным разумом и заботой о делах сердечных. Сейчас – Мир прозы, и мы втроем идем в казино…
Погода была ясная. По дороге нам встретился весь цвет босховского бестиария, словно в последней сцене «In Bruges»3: неслыханных размеров головы, хоботы, копыта, уши, зубы, губы, хвосты, горбы и прочее, прочее, прочее… а еще вампиры, оборотни и всякая другая живность, находящаяся в разных порочных связях – я никак не мог прогнать эти сумеречные образы из головы, потому что мое воображение всячески угнетали и дразнили их портретами с экранов, билбордов, обложек журналов. Бледными вампирскими рожами они облепили здания, которые своей длинной, уродливой тенью съедали наши шаги, принуждая поскорее забежать внутрь. В одном из таких домов с омерзительной десятиметровой рожей, скрывающей дивный фасад здания, жила Клем. Еще два года назад, когда бледнолицый своим портретом не закрывал нам вид на ботанический сад, я жил вместе с ней в этом доме, в той самой Белой комнате.
Мы пробились сквозь толпу единорогов к парадному, я попросил Клаудию подождать и взбежал на последний этаж, чтобы подарить свою подругу последнему убежищу – своей Клем.
Внутри было пусто – она ушла. Наверное, гуляет в саду.
Я смотрел в окно парадного вниз: на игуанодонов, на утконосов, на разнообразную живность, что толпилась у входа, где Клаудия терпеливо ждала меня, отбиваясь от навязчивых животных-людей-животных. Так мы с Клем отбивались от разъяренных мужчин не «облегченной» судьбы, в туалете кафе «Эсквайр», в котором висела табличка «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Поскольку мы были единственные нетитулованные посетители кафе, за прелюбодеяние в общественном месте нас жаждали вздернуть. Сей ублюдочный феодализм я попытался оспорить, впопыхах натягивая на себя штаны, а Клем оглушительно хохотала. Я заявил «дворянам» о своем несогласии с денежной компенсацией военному долгу, предложил вступить в наши ряды и уединиться в других кабинках, но штурм продолжился. Я истерически смеялся, когда эти толстосумы, нелепо покачиваясь из стороны в сторону, пытались меня догнать. Их дамы гневно глазели на нас, а мы со смехом перечисляли основные события, связанные с родом Йорк4 в «Войне Роз»5: смерть Ричарда, побег Эдуарда в Бургундию и другие сведения из Википедии. Готов поспорить, что экскурса в историю Англии они не ожидали, но, надеюсь, что таки «облегчились», не тая на нас зла.
Я поймал себя на том, что вслух рассказываю эту историю Кукле. Она по-прежнему бредила Францией, выпучив свои вишневые глаза.
– Дождешься ее? – спрашиваю. – Скажешь ей, что я буду в казино, попытаюсь выиграть шляпку. Скажешь ей, что это Мир прозы…
Я был уверен, что Кукла все в точности передаст Клем, и мы с Клаудией сможем продолжить путь вдоль стада бегемотов к сказочному, а может, и несуществующему казино, где чокнутые играют на шляпки.
2
Мы идем по мостовой, ноги вязнут в камне, а она болтает о шляпках на омерзительно повышенных тонах.
– Могу сшить пару шляпок для ваших кукол! Могу сшить! Назовите цвет. Головы у них стандартного размера? – спрашивает.
– Взаимоисключающего, – отвечаю.
На секунду Клаудия застыла в недоумении, и в чертах ее лица вырисовалась мордашка милого пони. В какой-то момент я даже задумался над тем, что ответ прозвучал слишком грубо, и мне хотелось сосредоточиться на этой мысли, понять, почему я так отреагировал и почему Клаудия выглядит как пони. Задумался над тем, почему в казино играют на шляпки и требуют денег, и почему их требуют именно от меня, и зачем я иду туда? Но в тот день, в тот самый день любое размышление приводило меня к Миру прошлого. Я иду в казино, потому что мне нужно идти – это движение вперед. Беги, Рока, беги! Только что ты нашкодничал, подлец! Что за игры с куклами? Будь мужиком и позвони Клем.
Мой внутренний монолог прервал тот тип! Он увел их, увел всех, всю ясельную группу. Он перетянул на свою сторону горизонт, как канат, и все деньги ушли к нему. Когда я опомнился, силуэт убегающего вора расплывался в закате. Клаудия?! Клаудия и не заметила ничего, продолжала трепаться о казино, о шляпках, о деньгах на шляпки.
– Услышь меня! – кричу. – Деньги на шляпки ноги делают!
Она замолкла.
Для меня погоня – это погружение в сон: нарастающая тревога перед силой воображения с каждым вдохом открывает взгляду новый мир, пародию на Чудо в том понимании, в котором мы привыкли видеть свое детство. Я отбиваю об асфальт сердце, как баскетбольный мяч, – надежда расщепляется на миллионы беспокойств – ускоряю шаг – мне нечего терять – этот гад забрал все – все мои деньги – я тяну руку – не достает всего пару сантиметров – позади кричит Клаудия – небо вспыхивает красным – падаю – кричу от боли – ясельная группа обступает меня – зажав деньги в кулак, он бьет меня по лицу и испаряется – тянусь за баскетбольным мячом, взлетевшим до небесного купола, – делаю усилие над собой – продлеваю шаг на миллиметр – вступаю в новый мир – настигаю вора у порога – Клаудия кричит позади: «Это казино!» – вор падает без сознания – я держу его за волосы – стучу его головой о косяк гигантской двери – бью его с безумным усердием – бью его за Клем, за Друга, за Брата, за Отца – двери открываются – целая толпа хиппи втаскивает бездыханное тело внутрь – я не отпускаю…
Боязливые люди отвели меня подальше вглубь зала. Клаудия преспокойно подходит к телу вора, тот валяется – ни шороха… думаю, она психически нездорова… его кожа морщится от засохшей крови, на голове воспаляется открытая рана, он почти не дышит. Она разжимает кулак вора и берет все мои деньги, вся ясельная группа чешет за ней. Огромная толпа таращится. Наплевать на это! Вор лежит неподвижно, а меня по-прежнему держат за руки, и все трусливо молчат.
Клаудия исчезла. Клянусь: никогда-никогда не шить ей куклу, теперь мы связаны навеки. Рока купился на человеческий взгляд. На рожу милого пони в ее чертах, на глупость про шляпки и казино… Клаудия взяла куш! Я самый богатый реставратор подушек в истории – и меня обокрали. Здравствуй, самый богатый реставратор подушек!
Синий огонек бьет по глазам, сквозь пелену слез я вижу надписи на стене – очень много надписей, вижу одинокие столы, держащие, как атланты, горы шляпок, вижу множество лестниц на второй этаж, расставленных архитектором с такой небрежностью, с какой дети переставляют фигурки на шахматной доске. И свет в зале исходит снизу, из-под ног. Эти люди здесь живут? Вид у них такой сопливый.
Созерцая, я встретил вспыхнувший взгляд. Я понял происходящее не сразу. Судорожно заглядывал в глаза окружающим, искал отзывчивости, понимания, но видел лишь огоньки, синие и красные, – программа релаксации. Синий мигает со счетом раз-два, красный вспыхивает только на три… раз… два… три… Среди огоньков блеснули глаза! Их огонь согревал меня три года кряду. Столь знакомые и горячо любимые… за доверие, за желание распрощаться, за оставшуюся надежду на возвращение домой. Она держала мою подругу у сердца, а та молила: «Отпусти! Отпусти во Францию!», а я в ответ прошептал: «Отпустил».
Клем протянула куклу. Клем. Последнее ребро в моем животе. Клементина Доре. Клем протягивает Клем. Я бессилен, страх сжирает меня при этих звуках, будто чума, слышу «К», и это значит Клем. Та, что бросила меня на обочине два года тому назад, которую я не видел и не знал все эти два года, – протягивает куклу. Будто контрибуцию, выплату, признание отсутствия… Клем сшила Рокамадура два года тому назад. Клем протягивает Рокамадура Рокамадуру. Я должен был сшить Клем ей в ответ.
Клем протягивает куклу сквозь толпу хиппи с видом «только ты и знаешь, солнце, только ты, я вся весьма себе сопливая… весьма и весьма». И я сопливый! Я вцепился в куклу со всем пылом, на который был способен, мне хотелось прижать ее к себе, как человека, которого я больше никогда не увижу, но тепло которого будет согревать меня всю жизнь. Не Клем – она назвала куклу моим именем… куклу – хотел обнять куклу! Но вместо этого я с силой швырнул ее в бездыханного вора, лежащего под ногами.
Толпа ринулась к телу. Я пошел прочь. Клем! Прочь! Голос Клаудии слился с шумом рулетки. Стало ясно, наконец, что это и есть казино, по пути в которое я многое вспомнил, с многим распрощался, с той, которая идет прочь, как и я, в разные, непохожие прочь…
3
Страшен белый цвет, страшен! В нем тонут мои мысли. Во время заточения они разбивались о стены этой чертовой комнаты. Белые стены, Белая комната, белый свет. Мысли мои белели от злости.
Я все упоминаю, забегая наперед, о Белой комнате, но ты, мой читатель, не знаешь, как я там оказался. Начнем с истоков.
Имя ей Клем. Так много женских имен! Мужские обиды чаще всего носят женские имена. Но Клем я никогда не забуду по другой причине. Ведь именно она шила куклы, когда мы закрылись в своем мире. Ведь именно с ней мне и не хотелось прощаться, но, после того что я сделал, это было неизбежно.
Последней кукле – имя, другим четырем десяткам – прозвища. Все заключается в именах. Обряд знакомства с набором букв, не с человеком, куклу наделяют именем как необходимым свойством для выживания. Говорю к ним, ибо больше нет никого. Обращаюсь к сорока куклам, называю своим именем сорок первую. Здравствуй, Рокамадур! Тряпичное сердце начинает биться.
Имя ей Клем. Она попросила больше не покидать Белую комнату. Клем шила. Этот творческий процесс занял три года, и три года я оставался рядом; она шила куклы, она любила меня, я поддавался всему этому, потому что в конечном итоге она ведь заточила и себя тоже. И я любил ее.
Черт, это не шутка! Мы закрылись в комнате на три гребаных года. Этот недотепа сдался, и суд закрыл дело: мне назначили ежемесячные выплаты за моральный и материальный ущерб, и этих денег хватало на жизнь. Я бросил дело своей жизни – реставрацию подушек – на три года и посвятил себя самопрощению, оправданию и любви. Но после той ночи, когда все изменилось, когда я сделал то, что сделал, любви не стало, – любовь расщепили на куклы, дабы вдохнуть в них жизнь. Клем убеждает: «Я буду шить куклы, я сделаю это за тебя». Рока соглашается и принимает: теперь мы узники обиды, расставания, белого цвета – цвета чистоты.
Начинаю вспоминать.
«Я жру, чтобы трахаться, и трахаюсь, чтобы жрать»6. Сигаретный дым наполняет более чем скромных размеров комнату: это один из тех редчайших вечеров, когда Фира пустует, когда в здании слышно эхо. Отец не курит «Winston», он дымит пятикопеечные сигареты без фильтра, его Любовница курит сигареты немного дороже и спорит со своей подругой о целесообразности приобретения собаки. Неужели она не понимает, что задержалась в нашем доме ненадолго?! Думает, что хорошо «дает» Графу. Я думаю, что в мои четырнадцать лет все хорошо, что дает, за исключением арбузов, апельсинов, пирогов и тому подобного. Отцу плевать на то, что я выкуриваю с подростковой ненасытностью уже второй десяток сигарет Любовницы, и ей плевать, что моя пьяная голова удобно уместилась на упругой заднице подруги. Та старше меня вдвое, пиво выдыхается, плевать – пришло время Рока познать женское тело! Отец одобрительно подмигивает: давай, возьми ее, сынок. Фантазия уходит за словом «взять»… Я думаю, как же сделать это с практической стороны. Никакой голливудской страсти, один лишь прагматизм. Я еще не знаком с Клем. Мои представления о женском теле берут свои корни из порнографических картинок в молодежном журнале, спрятанном под грудой книг. Интернет, в то время шипящий, жужжащий, трещащий агрегат с оплатой поминутно и вечно занятой телефонной линией, не стал моим просветителем, он чрезмерно медлителен для этого. Мои естественные желания обороняют Хефнер7 и Флинт8, вот только у меня нет денег на журналы, потому я мало что знаю о своем «желании». А чего желает женщина? Безусловно, этот вопрос терялся в сознании, в особенности после второго литра, в особенности после второго часа на чарующей заднице. А между тем меня наполняет хмель, голова тяжелеет, происходящее видится в искромсанном виде. Необъяснимым образом я сталкиваюсь в коридоре с Любовницей, не с подругой, мои руки машинально поднимают ее мужскую рубашку, и я прилипаю к ее груди, как к маминой титьке… нет! Мать этажом ниже принимает в себя Иисуса с новой порцией проклятий и коллоидного серебра. Любовница не сопротивляется, ее рот искажает ухмылка, из груди доносятся тихие-тихие стоны, она поддается, прислоняется спиной к стене и кокетливо поднимает руки над головой, словно Мэрилин Монро в первом выпуске «Playboy». Я не отстаю, прижимаюсь к груди, как цуцик, неуверенно, не лишенный алкогольного изящества и грации, касаюсь рукой оголенного бедра, продвигаясь выше, к белью, как к баррикаде, которую требуется сломать. Я чувствую, как Любовница дрожит, она невольно кусает губы, я чувствую на себе ее пьяный взгляд, пронизывающий макушку, но мне страшно поднять голову и посмотреть на нее, мне страшен флирт, – я боюсь этой игры… я вцепился в тело и не хочу отпускать, мои движения грубы, линии рук и ног острые… но она не сопротивляется, и это придает силы… в пяти шагах от нас поворот и малюсенькая комнатка, где теснятся Отец и подруга… я закрываю рот Любовнице, ее стоны могут разрушить все! Другой рукой продолжаю раздевать, мне кажется, что я весьма умело управляюсь с ее телом… И вот, когда она почти раздета, остается всего ничего до начала чего-то большего, я нахожу в себе силы поднять голову и посмотреть… Но в этот момент агрессивную прелюдию прерывает Граф малоразборчивым «милая, где ты?». «Милая» с силой отталкивает меня и в несколько движений приводит себя в порядок. Она переводит дух, выравнивает дыхание и окидывает меня с ног до головы беглым взглядом. «В другой раз», – говорит она, немного заплетающимся языком. Я разочарованно смотрю сквозь ее живот и медленно фокусирую взгляд на глазах, уже без страха, но с малой обидой, и одобрительно киваю в ответ.
В крошечную комнатушку Любовница вбежала со звонким смехом, радостно плюхнувшись рядом с Отцом, следом, уныло пряча свой стыд, вошел и я. Она, как ни в чем не бывало, протянула мне пачку сигарет: «Будешь, малой?» – и я, как ни в чем не бывало, взял одну, закрыл глаза и опустил голову на то место, где не так давно был упругий зад подруги, я приоткрыл глаз и обнаружил, что и она, и ее упругий зад, растворились в дыму, а отец разочарованно кивает: «Упустил свой шанс, дурак».
4
Молнии разрывают горизонт на небольшие фитильки, в моих глазах отражается фиолетовый отсвет. Мы с Отцом стоим на берегу реки, узлом опоясывающей Фиру. За нашими спинами шум веселья, окрашенный в оранжевый цвет. Гулкий звон, смех и топот: Фира забита под завязку. Свет молний просачивается сквозь опушку леса и послойно смешивается с раутом.
Мы молчим.
Зачастую дети задают вопросы, так положено: спрашивать обо всем на свете, чтобы довести предков до мысли об убийстве гадкого приставучего отпрыска, чтобы вырасти весьма себе образованным работником McDonalds или KFC и задаваться более взрослыми и важными вопросами, к примеру: что вы будете пить? Майонез или кетчуп? Но я решил стать реставратором подушек! А потому с малых лет воспитал в себе другое качество – безразличие. Мы молчим. Я не спрашиваю: «Какого черта в Фире живет столько народу? Что это за люди?», «Почему они располагают свободным пространством в доме, а мне приходится спать в сарае?», «Какого черта каждые два года мама перевоплощается, или думает, что перевоплощается, в разных женщин?», «Почему она стала просвещенной христианкой, рисующей рукой Бога, и больше не меняется? Почему она не осталась в образе гребаной Мэри Поппинс?», «Каким образом мы можем себе позволить такой дом?» и, наконец, «Почему мой младший брат считает, что он обеспечивает семью? Почему эта нелепость оправдывает его постоянные кражи и то, что он не посещает никакие учебные заведения?»
Отец выводит меня во двор, подальше от гостей и веселья. Он подкуривает сигарету и делает глоток граппы9 из горла, передает бутылку, и я, следуя примеру, обжигаю глотку.
– Ты мой сын, – он начинает разговор, – и это не повод любить тебя. Я твой Отец – это также не повод любить меня. Все дело в том, можно ли положиться на тебя? Во что ты превратишься? Вы растете свободными людьми, и любить стоит за это, а не за кровные узы.
Понимающе киваю и делаю еще глоток.
– Если хочешь жить в сарае – живи. Можешь вернуться в дом и жить со всеми, а я могу продолжать любить тебя, несмотря на то что ты мой сын.
Сейчас искренне смеюсь над этой фразой, но тогда даже граппа не могла ввести меня в курс дела.
Отец указывает пальцем на кроны деревьев: вспышки света тенью от листьев создают широкими мазками секундные иллюстрации. Отец заостряет мое внимание на тенях и упоминает, что рисунок светлых участков отличается, и с каждой вспышкой рождается две разные картины, два разных дерева, два разных взгляда. А я смотрю на него самого и фиксирую двойственные портреты, которые мне рисуют молнии. И в каждом из них существует общая грунтовая основа: взгляд, устремленный в будущее, – взгляд мечтателя, взгляд художника, взгляд того, кто дышит свободой и дарит ее другим. В этот момент я влюбляюсь в его мир: я признаюсь себе, что я горд тем, что моя эпоха, мой этап взросления и этап вопросов приходятся на ночь открытых дверей – на свободный доступ к прогулке по его внутренней площади, по его миру. Но мой Отец уважает «безразличие».
– Думаю, мы достаточно пьяны, чтобы вернуться назад, – он печально ухмыляется.
С последней каплей граппы я проглатываю «художественную наблюдательность» и сыновью любовь. Мы переступаем порог Фиры.
Фиолетовый цвет выделяет девчушку в парадном зале – на ней платье синего цвета с оранжевыми пуговицами. В моих зрачках отражение массы людей, которая кочует по просторам Фиры, но взгляд я приковываю к пуговицам. Дженис Джоплин10 поет «Summertime».
– Я хочу побывать в твоем мире, – обращаюсь к девчушке.
Она испуганно смотрит:
– А кто ты?
– Рока. Я здесь живу.
– Рока и Клем, – усмехается. – Мне сказали, что теперь и мы здесь живем.
– Такое случается, не расстраивайся, – улыбаюсь, – мой Друг тоже здесь живет, и Брат. Они куда-то подевались.
– Что ты сказал про мир?
– Что хочу в нем побывать…
– Может, нам стоит познакомиться?
– Нет. Не думаю. Для этого есть вся жизнь!
– Сколько тебе лет?
– Почти пятнадцать. Думаешь, еще есть время?
– Думаю, что можем начинать. – Ее щеки залились красным цветом.
Кажется, впервые за вечер я услышал гром, а следом за ним в здании погас свет, и вспышка молнии создала два портрета Клем: один из тени, другой из фиолетового цвета, в тон платью с оранжевыми пуговицами. Джоплин прекратила петь.
В моем Мире прошлого, на ветвях под облысевшими кронами, росли скрипучие двери, и я в надежде открыть путь в другой мир поворачивал ручку… и неизбежно напарывался на очередную ветку. Меня не могли утешить звезды, я не видел души в этих куклах. Конечно, я осознавал, что, подарив куклу Клем, я вселю в нее душу той, которая никогда не узнает, сколько своей души я испил, чтобы освятить эти лоскутки грубой мешковины.
В комнате мы провели три года. Один на один. Я говорил – она слушала. Ощущалось безумие в суставах и слюне, когда восхищение приклеивало язык к небу: я с ней, она рядом. Тогда она сшила сорок кукол. Клем говорит: «Я закончу то, что ты не закончил». У нее больше нет души – она разделила ее между куклами, прикрыв свои раны заплатками. Последняя кукла взяла мое имя.
Клем протянула Рокамадура Рокамадуру…
В той комнате за три года не менялись ни взгляды, ни люди… Можно сказать, что три года я засыпал, чтобы не успеть проститься, но она все равно кивнула мне вслед и сшила куклу. Она сшила очень много кукол.
5
Первым делом дам этой кукле имя – пожалуй, Клем. На седьмой день отдохну. За шесть дней до того я стоял у входа в казино и видел ту, которую видеть не должен был, и не отнял жизнь у того, кто взял чужое, а наказал безразличием и проклял ту, что забыл давно, и пришел в обитель, в дом свой, и приступил к созиданию той, что призвана быть безразличной ко мне самому.
Временами поигрываю в Бога…
За шесть дней бездомные прикрепили мне прозвище – Ослепший. В Мире прозы имя – это кличка, окрашенный характер неуверенных движений. Я целых шесть дней преодолевал расстояние длиною в десяток личных воспоминаний и сотню сопряженных с ними. И добравшись, наконец, до своей берлоги, принялся лихорадочно подбирать материалы: самую ценную домашнюю утварь, в которую заточили заботу «близкие» люди. А по праздникам дарили близкие – телефоны. «С тобой невозможно связаться, вот – будь на связи!» Целые легионы телефонных аппаратов стояли на страже связи с общественностью. Теперь таскаюсь с грудой телефонных трубок и не смею от них избавиться. Так и не ответил ни на один звонок, но храню телефоны по сей день. Даже выделил отдельную комнату для телефонных аппаратов: кладбище неоговоренного, неозвученного, неизведанного – короче того, чем жизнь свою наполняют длинноносые.
Я выплавил глаза из телефонной трубки, наделив кусок пластика даром безмолвного созерцания, провода стали органами тактильных чувств, а телом был назван отшлифованный обрезок жестяной банки из-под кофе в виде безрукого, безногого, безголового, отнюдь не по образу и подобию вырезанного калеки. Скрепил детали плотной шерстяной вязью. Глаза пришил к резиновому мячику, перетянутому замшей. Облачил кубистическую фигуру в черный льняной пиджак, сшитый из единственных за мою жизнь брюк, который облегал туловище от воображаемых мочек ушей до воображаемых пят.
Только теперь, окончив работу, прикоснулся к пище.
Эта кукла станет младшей сестрой австралийки, вот только глаза ее ни о чем не скажут: ни о мечте, ни о печали, ни о Франции, ни об истории своего создания. Старшую сестру я взращивал два года, для того чтобы бросить оземь, а младшая завершит означенное, но не начатое дело – проститься с прошлым. В день отдыха – пятницу – я работал, в день отдыха – субботу – я работал, в день отдыха – воскресенье – я работал. Не удалось на седьмой день отдохнуть. За пять дней до того повстречались мне Раввин, Имам и Священник, они боролись с холодом у горящего бака в квартале от приюта «Hopeless»11, за углом.
Я бреду прочь от казино, в котором играют на шляпки. Сквозь густую завесу индустриальной пыли доносятся редкие голоса прохожих. Где-то далеко, будто в параллельной вселенной, исполняют «U2»: «Hold me, Thrill me, Kiss me, Kill me». Босоногие бродяги выходят на проезжую часть, подальше от битого стекла у кирпичных зданий. Я наступаю на шов и полностью игнорирую плиточки, через шаг наталкиваюсь на прохожего. Один из них кричит своим беззубым ртом мне вдогонку: «Слепой! Ты слепой!» «Рока и Клем, Рока и Клем», – бубню под нос своим беззубым ртом я и врезаюсь в лысого гиганта, при столкновении с которым чуть не потеряю рассудок.
– Вы? – Пялюсь ему в лоб, он высокий такой – что мужик, что лоб.
Из-за его спины выскакивают двое пониже, в шутовской манере, у одного из них нож, у другого палка. Теперь я пялюсь на лбы обоих.
– Что тебя тревожит? – спрашивает высокий.
– Устал, очевидно, – говорит тот, что с ножом.
– Немного, – отвечаю.
– Содержательный рассказ, – замечает тот, что с палкой. – Кормить нас будем или как?
– Я уже кормил сегодня… тут недалеко… целую банду хиппи… в казино.
– Что он бубнит? – возмущается тот, что с палкой.
– Казино? Какое казино? Может, это «Крит»? – добавляет высокий.
– «Крит»? – спрашиваю.
– «Крит»…
Руки с ножом и палкой опустились, высокий обмяк.
– Пожалуй, это нам следует тебя накормить. – Фраза прозвучала заботливо и мило, из уст человека с ножом.
– Пожалуй, мне нужно попасть домой, – я говорю.
– Может, не стоило выходить? Что ты делал в казино? – Он уставился в свой нож, который, к слову, был кухонный и блестящий.
– Там на шляпки играют… Сам не знаю, зачем туда пошел… у меня были другие планы на сегодня. Девушка проводила до самого здания, и уже там этот тип обокрал меня. Не знаю, что происходит… – бубню.
– Может, дело не в деньгах?! – предполагает высокий. – Не стоит с Эдваном связываться?!
– Знаете Эдвана? Ошпаренный?
– Мы? – все трое закивали головой. – Не стоит с ним связываться! – повторяют в унисон.
– Я его не видел даже, видел Клаудию.
– И с ней тоже не стоит! – хором.
– Хоть у нее и чарующая задница… ох, попка Клаудии, – мечтательно протянул тот, что с палкой.
Воцарилось молчание. Гаснет свет, запускают проектор, брюхо наполняется попкорном, мочевой пузырь – кока-колой, глаза – уникальными кадрам и самой чарующей попки глупейшей из пони Клаудии. Ждите этой осенью: «Трое у бака, не считая Рокамадура, и разнузданные фантазии, со сказочным задом». В эту секунду я не думал о Клем, нисколько… и продолжал бы еще долгое время, но штаны начали расходиться по швам… Отключаю киноаппарат:
– Откуда вы их знаете?
– Из приюта «Hopeless», – хором.
В Мире прозы, конечно же, не существует иных приютов, все связано с одним и тем же. В этом приюте жил мой Друг, уже после Фиры и Белой комнаты. Я помню, потому что сам его туда отправил. В Фире, доме родном, дольше всех пребывали люди, с которыми мы говорили на разных языках и жили в полярных мирах, но близкие задерживались на небольшой срок. Те, кто не приживался в особняке Фира, цеплялись за время в «Hopeless».
Друг рассказывал мне историю создания приюта еще до того, как попал туда. К этому приложилось три пары рук. Говорят, что это внуки тех самоубийц, что прыгали из окон на Уолл-стрит в период Великой депрессии12, но стоит отметить, что официально было зафиксировано всего два подобных случая. Откуда взялся третий внук? Бегство привело их в Старый Свет13 и, мне не ясно почему, именно здесь их душевный приют принял физическую форму. Его строили бездомные. Обживали брошенные. Разрисовывали дети. Надежду в сердца вселяют дети – эти неунывающие смотрители молочников, художники и мечтатели.
Долгое время никто не задумывался над тем, кто же финансирует троих альтруистов, их руки всегда были чисты. И в действительности, это так! Никто не знает и по сей день, откуда Раввин, Имам и Священник брали деньги на содержание приюта. Но я лукавлю, кажется, один человек может знать – Эдван. Во всяком случае, несмотря на сытость, он принялся задавать вопросы и перестал рисовать. Друг не называл его имени, спустя годы я сопоставляю сам. Он рассказывал о человеке, выросшем в приюте, игравшем в «вопрос-ответ», при котором на стенах прекратили рисовать дети, но принялись писать взрослые. Его цели были совсем другими. Каждый платил за койку и следовал уставу. Многие жильцы рассчитывали на работу и получали ее, но после так и не могли ответить на вопрос, что же наниматель, Эдван, от них требует.
Их зовут Раввин, Имам и Священник. Так их Эдван назвал перед тем, как выставить за дверь. Теперь у входа в приют висит табличка: «Ошибки: 1) своенравные, 2) хреновы идеалисты, 3) думают о будущем».
– Это вы построили приют? – спрашиваю.
Боязливо, едва заметно, кивают.
– Нравится жить на улице?
Отрицательно кивают. Шеи хрустят.
– Что произошло?
– Смена власти, – высокий, Раввин, морщит лоб. – Мы больше не можем там появляться, и нам не следует говорить об этом. Это часть соглашения.
– А иначе?.. – спрашиваю.
– А ты как думаешь? – тот, что с ножом, Имам, ухмыляется.
– Не возвращайся в Крит, – Священник, тот, что с палкой, предостерегает.
– Кто он такой, этот Эдван? Что это за Крит?
Они отвернулись и встали вокруг горящего бака, стыдливо опустив головы ниц. Их страх гарцует по кварталу, нож и палка спрятаны, а взоры прогрызают асфальт. Я уставился высокому в затылок и вспоминаю, что ни разу не навестил Друга в приюте, мой брат навещал часто, но не я, моим приютом был белый цвет. Троица не хочет говорить: стоят у бака и дрожат. Значит, спрошу у тех, кто внутри.
Лбом упираюсь в табличку «Ошибки» на здании из бежевого, с пятнами старости кирпича. Без лишних вопросов пускают внутрь и с силой захлопывают дверь. Меня оглушили прямо на пороге: помню лишь, что стены были чистыми, ни одного рисунка, а вокруг лишь старики и ни звука детского смеха. В этот момент я погрузился в прошлое:
– Когда я умру (мне ведь недолго осталось) – Фира станет вашей. Мы с мамой для вас ее храним.
– Я неплохо рисую. Лучше, чем ваш отец. Лучше. Вы же мои дети? Верно?
– Вы поживите сами для себя, а мы с вашей мамой поживем друг для друга.
– Когда выйдет из тюрьмы твой брат, тогда мы отдадим вам Фиру. Нам ведь дом не нужен, мы с вашим папой для вас его храним.
– Твой брат крал для того, чтобы прокормить меня. Мы с вашей мамой заслужили пожить какое-то время друг для друга.
– Я знаю, что ты каждый день приходишь к реке и смотришь за домом. Не волнуйся, вот вы подрастете еще чуть-чуть, и мы с вашим отцом отдадим вам Фиру. У вас есть дом.
– Мы расстались с мамой.
– Мы расстались с папой.
– Твой брат опять пытался меня прокормить, просто чтобы я с голоду не сдох, ты же понимаешь… – он опять сел за решетку. Помоги мне. Я вашу маму из Фиры выгоню. Она ведь ваша. Мне она ни к чему. Пусть только твой брат выйдет. И маму выгоним. Я как раз нашел себе мадам, ей розовый цвет по душе.
– Помоги мне! Твой отец пьет, очень много пьет и бьет меня, очень много бьет! То есть часто… – часто бьет! Также часто, как и пьет. Не плачь! Он ведь наркоман. Я сама видела. Не дай ему меня выгнать, мне некуда идти, прошу тебя.
– Она испортила всю мою жизнь. Помоги мне. И дом заберете. Ей его не отдавайте, вашей маме! Я сказал ей убираться! Твой брат бросил меня! Трус! Он уехал в тюрьму.
– Он уехал! Помоги мне, сынок. Он меня бросил! В тюрьму уехал, трус! Меня некому защитить от вашего отца… помоги мне!
– Наша жизнь – это любовь! – говорю я им.
Я пришел в себя в своей кровати лишь спустя шесть дней и понятия не имел, как там очутился. Первым делом принялся шить куклу, и в какой-то момент мне показалось, что в этом и заключается ответ: шей куклу и не задавай вопросов. В сущности, какая разница, кто такой Эдван? Его боятся, за расспросы бьют по голове и крадут ту мелочь, что я ношу в кармане. Кому какое дело?! Мне плевать! Я вновь увидел Клем! И все же… А что она делала в казино?
6
Ставлю ногу только на плитку, ни в коем случае не на шов, от этого иду почти на цыпочках, и сердце сжимается от страха, если я вдруг не удерживаю равновесие. Спина согнута, глаза затянуты пеленой раздумий, руки у груди, в руках кукла – в этой позе я сливаюсь со звериным стадом. Прыгаю от клеточки к клеточке, только чтобы на шов не наступить. В один из прыжков приземляюсь не на клеточку и не на шов, а на старушку, которая в тот же час, без дрожи в голосе, будто дожидаясь этого, выливает на меня тонны уличной, прямо-таки гангстерской брани. Я как дурак смиренный, не разгибаясь, пытаюсь поднять с земли старуху, а та не дается и все больше своим костлявым задом присыхает к серой скользкой плитке, отчего процесс «спасения» старческого тела становится делом отнюдь непростым, но не менее занимательным. Картину дополняет дивный тембр ее ругательств: вязкий, как пастила, шипящий, чуть позвякивающий на букве «п» и слоге «-ор». Через какое-то время вокруг нас собирается толпа зевак, но бабка не замолкает, а я не прекращаю сутулиться подле нее. Кто-то кричит мне: «Не бей старуху!» А я в ответ растерянно оправдываюсь: «Да я в казино шел… упал на нее… и… я не бью ее… она не хочет вставать…» Мне кричат в ответ: «Ты наркоман? Странно выглядишь! Оставь старушку в покое! Позовите полицию». «Я пытаюсь ей помочь!» – не унываю, героически корчусь над старушкой. Но тут не по размерам сильный муж, подойдя к нам, одной рукой поднимает с земли бабку, а другой валит меня с ног. Еще в воздухе, будучи подвешена могучей рукой незнакомца, карга принимается пинать меня ногами, а я заливаюсь истерическим ржанием – и вновь я на пару минут забыл Клем!
Перед лицами свидетелей старуха пинала меня до полного изнеможения, которое наступило уже после того, как толпа рассосалась, обессиленная этим зрелищем. Но в конце концов и она ретировалась, бормоча ругательства охрипшим голосом, так как я не прекращал хохотать.
Мало-помалу истерика прошла, и я решил двигаться дальше: после эпизода со старухой подсознательно изменил походку, выпрямился, спрятал куклу в карман, а шаг ускорил, но за рамки плиточки по-прежнему изо всех сил пытался не заступать. Главное помнить: нога должна быть по центру клеточки – не наступать на шов!
Я так и не наступил, пока не дошел до казино. В этот раз представился шанс спокойно разглядеть здание снаружи: решетки на окнах и росписи на стенах, словно печать времени, заточили внутри жизни людей, эта коробочка заполнена мирами, за ее пределами жизни просто нет. Здание было заброшено долгие годы, и ни о каком казино и речи быть не может. По периметру его ограждает кованый забор. Чертовски похоже на тюрьму… От распахнутой калитки к главному входу вела широкая лестница. Часть строения обрушилась, но и без того его нельзя было назвать большим. Без преувеличения – казино, в котором играют на шляпки.
Солнце почти зашло за горизонт, этот закат был окрашен в синий и красный. Свист ветра напомнил полицейскую сирену. Страх мне сказал, что самое время проявить осторожность, скрывшись за углом. Две полицейские машины остановились перед входом, из них вышли четверо и направились внутрь. С полчаса они рыскали там, но, очевидно, ничего и никого не нашли. Я дождался, пока они уедут, и поспешил «играть на шляпки».
Над гигантской парадной дверью блестела зеленоватая с оранжевыми брызгами надпись «Крит». Вот так вот очевидно и просто, хотя несколько фальшиво – это о названии. Я, приложив немало усилий, отворил врата в сказочную страну и в кромешной темноте зала разглядел беззвездную пустыню – мрак, говорящий, что внутри ничего и никого нет. Стадо безумцев увел Пан14: и Клем увел, и Вора увел, и Клаудию. Думаю, что не мои деньги стали причиной операции таких масштабов… шучу, смеюсь – над самим собой смеюсь…
Зажегся свет: в зале было пусто и тихо. На меня таращились вишневые глаза и что-то говорили о Франции, посреди зала на полу сидела австралийка. Больше внутри ничего не было, все исчезло за неделю: и столы, и шляпки, и люди. Осталась только кукла. Именно поэтому возникла необходимость дать ей хорошего пинка – отомстить старушке! Разогнавшись до скорости человека, желающего дать пинка, я отправил куклу в полет, а она ударилась о надпись на стене, заглавная буква которой была украшена миниатюрой, подобно той, что изображали монахи в первых книгах: «Солнца не видел уже три месяца, проиграл все шляпки! Агасфер15».
Я бережно усадил свою новую куклу, сестру австралийки, на место старой и сел напротив, но, конечно, сел на плиточку – не на шов, и ноги поставил на разные плиточки перед собой, только не на шов, не на шов.
7
Из-за стен гулким эхом послышались голоса, орда голосов.
– Они все время приезжают, все время… так часто… так часто… – писклявый голос, очевидно Клаудии, громко выделялся среди остальных.
В один миг шум армии голосов стих.
– Скоро закончим. Не тревожься, светоч моей жизни! – прозвучал мягкий, ироничный незнакомый голос.
– Давай все расскажем, как если бы он был благодарным слушателем, а ты бардом, ты так похож на барда, – все тот же звонкий, наивный голос Клаудии.
Из глубины зала, из полумрака, вышли двое: Клаудия и ее спутник, некто, в ком я сразу признал, по крохам собрав женскую интуицию, Эдвана Дедье – Ошпаренного. За ними неспешно тянулась толпа тех бешеных, что втянули меня внутрь.
Я сорвался с места и на ходу, брюзжа слюной, закричал:
– Где Клем? Девушка с куклой с вишневыми глазами! Кукла с глазами… Где Клем?
Эдван окинул гостя взглядом с головы до пят, и я в ответ нахально уставился в его ключицу: всю шею уродливым узором покрывали шрамы от многочисленных ожогов. Он будто кичился этим, горделиво вздернув нос кверху. И нос, откровенно говоря, из-за своих нескромных размеров привлекал больше всего внимания.
– Я здесь занимаюсь делами, между прочим, мой милый друг, – монотонно произнес Эдван.
– Вы кто такие? Что вам…
– Я? – удивляется. – Я – Эдван Дедье.
– Мне нужно поговорить с Клем. Девушка… она швырнула куклу…
– А ты запущен, мой милый друг, – Клаудия хихикает, зомби глазеют. – В плохом состоянии, совсем плох… – делает чрезмерно долгую театральную паузу и смотрит в глаза… – Клем здесь нет. Ушла неделю тому назад. Как тебя зовут, мой милый друг?
– Рока. Рока от Рокамадур, – отвечаю скороговоркой. – Но, думаю, ты знаешь это.
– Рока! – хлопает в ладоши. – Рока, добро пожаловать домой!
С этими словами мне зарядили пощечину, от которой остался широкий красный след. Я был, мягко говоря, в недоумении, твердо говоря: освирепел. Отступив ближе к кукле, – казалось очень важным не забыть ее, – я обернулся к двери: она уже была заперта, а вот зеленоглазую, сволочи, не тронули. И хорошо, что не тронули, значит еще есть шанс отыскать Клем и подарить ей… Я машинально поднял куклу с земли и прижал к груди, как-то неестественно изогнув свое тело.
Помню, Эдван пошел на меня в своей плавной манере и с беспристрастным видом осыпал жесточайшими ударами. Не желая обороняться, я держал куклу у груди: это действие имело прямо-таки сакральное значение. Удар – белая комната; удар – армия кукол несет меня, как Гулливера, к дымящему вулкану; удар – казино и умалишенные; удар – Клем целует… Это не память – это данности. Я выстоял все удары, и только когда они прекратились, выждав еще и еще секунду, рухнул наземь без сознания. Думаю, что такого рапида16 кинематограф еще не видел никогда: ох, как же медленно я падал! И все же это падение с чувством полнейшего забвения (Клем? кто такая Клем?) во сто крат переплюнуло падение от ударов старухи. «Наш Иисус „иисусистее“ вашего – он страдал больше!» – как говорится в шутке.
Жизнь человека состоит из воспоминаний. Чем существенней личность, тем большее количество воспоминаний роится и множится в голове того, кто примеряет на себя маску «существенной личности». Пускай в голове Этого Человека (без обобщений, только конкретика, конкретика!) образы прошлого и не являются достоверностью фотографической памяти, пускай вся его жизнь состоит из фантастических деталей воображаемых событий. Гиперболизированная реальность. Дар лишенных. Призрак той далекой жизни, которая граничит с выдумкой, но которая пронизывает все пласты его существования, как стержень, позволяющий балерине, ставшей на носок, вертеться вокруг своей оси, как шест для искушенных пьяниц – они ведь тоже лишенные. Для человека неполноценного в какой-либо из сфер жизни воспоминания заменяются конкретными данностями, число которых во много крат превышает возможности памяти заурядного целостного человека. Вспомните разговор с Иренео Фунесом17. Конкретный человек, о котором я говорю, лишен цельного образа: он несчастен, он свиреп, он доверчив и оттого более жесток к окружающим, чем кто-либо иной, чем забота плохих матерей, которой они окружают своих детей, чем создатель к своему творению, чем робость, отлитая в акте отмщения. Я говорю о нем, о том, кто все помнит, о себе – проведшем в Белой комнате, как на задворках Тартара, ничего из прошлого не забывая, долгие три года. Компанию мне составили куклы, обретшие имена, и та, что играла с моим воображением.
Мне шестнадцать лет. Мы сидим на берегу реки и любуемся Фирой. Этот вечер был бирюзовым. Бирюзовый – цвет безмолвия.
– Мои родители не художники и не поэты… просто гости, – Клем мне говорит. – И я гостья в твоем мире. Но я тебя не брошу.
– Об этом никто не просит, чувствуй себя как дома!
– Я говорю о том, что никогда не брошу!
– Я понял… наверное… я люблю тебя?
– Любовь – прошлое. Ты помни обо мне, даже тогда, когда я нахожусь рядом с тобой.
– Тебя сложно забыть…