Звезды смотрят вниз Кронин Арчибалд
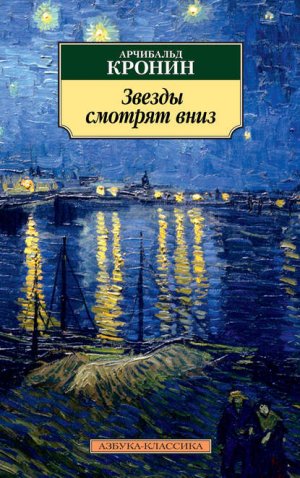
– Два шиллинга, папа. – И Дэвид показал флорин, который он с каким-то чувством стыда до сих пор еще крепко сжимал в кулаке.
Роберт взял монету, посмотрел на нее и с бешеной силой швырнул прочь.
– Вон ее! – сказал он, выговаривая эти слова так, как будто они причиняли ему боль. – Вон ее!
Флорин угодил прямо в середину навозной кучи.
XI
Наступил вечер, великий вечер праздника в Миллингтоновском клубе. Завод Миллингтона, расположенный в тупике одного из переулков Плэтт-стрит, был невелик – на нем работало всего человек двести, но с виду производил довольно внушительное впечатление, особенно в серенький мартовский день.
Из труб чугуноплавильных печей вырывались красные языки пламени и густые клубы дыма. Поток добела раскаленного жидкого металла, текущий из вагранки[3] в литейные ковши, освещал бурое небо, и оно словно пылало медным блеском. Едкие пары, поднимавшиеся с пола литейной, где вливалась в формы жидкая масса чугуна, раздражали ноздри. В уши мучительно били тяжелые удары молотов, звон зубил, которыми обтесывают железо после отливки, жужжание приводных ремней и колес, пронзительное гудение токарных и фрезерных станков, визг пил, вгрызающихся в металл. И в открытые двери виднелись сквозь туман неясные фигуры людей, обнаженных до пояса из-за невыносимой жары.
Завод готовил главным образом оборудование для угольных шахт – железные вагонетки, лебедки, балки для крепления кровли, массивные кованые болты. Но сбыт этих изделий затруднялся сильной конкуренцией, и Миллингтоны держались не столько благодаря своей предприимчивости, сколько благодаря связям со старыми солидными фирмами. Да Миллингтоны и сами были старой, много лет существовавшей фирмой, фирмой с традициями. И одной из таких традиций был Общественный клуб.
Клуб Миллингтоновского завода, открытый в семидесятых годах Великим Старцем – Уэсли Миллингтоном, должен был демонстрировать благосклонную заботу о Рабочем и Семье Рабочего. Клуб имел четыре секции: литературную, экскурсионную, фотосекцию с темной комнатой и секцию спорта. Но гвоздем клубной программы был ежегодный танцевальный вечер, который с незапамятных времен неизменно устраивался в «Зале Чудаков»[4].
И вечер пятницы, 23 марта, обещал быть вечером подлинного веселья и радости. А между тем Джо в этот день возвращался домой с завода угнетенный мрачными думами. Разумеется, Джо собирался идти на бал, он успел уже стать первым любимцем в клубе, почти чемпионом в кружке бокса, и его намечали в жюри по состязанию новичков на бильярде. Все эти восемь месяцев Джо преуспевал. Он заметно пополнел, развил мускулы и, по его собственному выражению, «завел чертову уйму приятелей». Джо был великий проныра, умел дружески хлопать каждого по спине с громким «Здорово, старина!», у него всегда была наготове улыбка – открытая, веселая улыбка и крепкое рукопожатие, и он так мило умел рассказывать неприличные анекдоты. На заводе все влиятельные лица, начиная от Портерфилда, старшего мастера, и кончая самим мистером Стэнли Миллингтоном, явно благоволили к Джо. Словом, он имел успех у всех, кроме Дженни.
Дженни! О ней и думал Джо, бредя через Высокий мост и уныло взвешивая свои шансы. Правда, она сегодня идет с ним на бал – ну конечно идет! – но какое это имеет значение, раз между ними уже все сказано и все кончено? Никакого, ровно никакого! Чего он добился от Дженни за восемь месяцев? Не слишком многого, видит бог! Он водил ее повсюду – Дженни любила развлечения, – тратился на нее, бросал свои кровные денежки на ветер. А что получил взамен? Несколько раз она неохотно позволила себя поцеловать, и только. Но из его объятий она вырывалась и этим только разжигала его аппетит.
Джо уныло вздохнул. Нет, Дженни ошибается, если думает, что его можно водить за нос. Он ей скажет правду в глаза и прекратит все это, порвет с ней окончательно.
Но Джо не в первый раз говорил себе это. Он говорил это себе уже десятый раз – и все же до сих пор не решился на разрыв. Его влекло к Дженни даже сильнее, чем в первый день. А ведь уже и тогда она возбудила в нем пылкие желания… Джо громко выругался.
Дженни ставила его в тупик: она была с ним то надменно-дерзка, то кокетливо-ласкова. Милостивее всего она бывала к нему, когда он надевал свой новый синий костюм и котелок, который она заставила его купить. Когда же она случайно встречала его в грязном рабочем комбинезоне, то проплывала мимо, чуть не замораживая его своим холодным взглядом. То же самое бывало, когда Джо приглашал ее пойти с ним куда-нибудь: если он брал хорошие места в «Эмпайре», она ворковала, улыбалась ему, позволяла держать ее за руку; если же он затевал прогулку в сумерки по городскому бульвару, она шла рядом недовольная, капризно вскинув голову, на все отвечала сердито и односложно и держалась от него на расстоянии целого ярда. Если Джо хотел повести ее в кофейню Макгайгена и угостить сосисками с картофельным пюре, она презрительно фыркала: «В такие места ходит только мой отец». Зато приглашение в первоклассный ресторан Леонарда на Хай-стрит она принимала сияя и нежно прижималась к Джо. Дженни считала себя выше своей семьи, лучше всех. Она делала замечания отцу, матери, сестрам, особенно Салли. Она и Джо постоянно делала замечания, поучала его, объясняя, как надо снимать шляпу при встрече, как держать тросточку, внушая, что по тротуару мужчине следует ходить ближе к краю, что, когда берешь чашку чая, мизинец следует сгибать. Дженни больше всего ценила в людях светский лоск и была помешана на правилах хорошего тона, вычитанных ею в грошовых дамских журналах. Из тех же журналов она черпала сведения о модах, «идеи» туалетов, которые сама себе шила, советы, как сохранить белизну рук, как придать волосам мягкость и блеск с помощью «яичного белка, влитого в воду перед ополаскиванием».
Нельзя сказать, чтобы Джо не одобрял этого стремления Дженни к аристократической изысканности. Оно ему даже нравилось. Всякие мелочи, вроде ее духов «Жокей-клуб», ее кружевных лифчиков и просвечивающих сквозь блузку розовых ленточек, приятно возбуждали его, создавали ощущение, что Дженни другая, особенная, не такая, как те уличные девицы, к которым он ходил иногда, когда Дженни заставляла его испытывать муки Тантала, дразня его надеждой.
Самая мысль о том, что он претерпел, еще больше разжигала в нем неутолимое желание. И сегодня, поднимаясь по лестнице дома № 117/А на Скоттсвуд-роуд, он говорил себе, что вечером доведет дело до конца или выяснит, почему это ему не удается.
Войдя в заднюю комнату, он взглянул на часы и увидел, что опоздал. Дженни уже ушла наверх одеваться. Миссис Сэнли лежала в гостиной с сильной мигренью. Филлис и Клэри убежали на улицу играть. Одна Салли дожидалась Джо, чтобы подать ему ужин.
– А где твой папа? – спросил вдруг Джо, после того как с волчьей жадностью проглотил две копченые рыбки и почти целую свежую булку, запив все это тремя большими чашками чаю.
– Уехал в Бирмингем. Секретарь не мог ехать, так папу послали вместо него. Он повез всех голубей, клубных и наших, для завтрашних полетов.
Джо задумчиво ковырял вилкой в зубах. Значит, Альф бесплатно прокатится в Бирмингем на полеты голубей, которые назначены на субботу! Везет же некоторым!
Салли, критически наблюдавшая за Джо, пустила в него стрелу своего скороспелого остроумия.
– Смотрите не проглотите вилку, – предупредила она серьезным тоном. – А то она станет дребезжать, когда вы будете танцевать польку.
Джо надулся. Он отлично понимал, что Салли его терпеть не может, и, как он ни старался, ему не удалось расположить ее к себе. Когда Салли смотрела на него своими темными глазами, он испытывал неприятное чувство человека, которого видят насквозь. Иногда резкий иронический смех Салли, врывавшийся в его самоуверенный разговор, приводил Джо в полное замешательство, лишал хладнокровия, заставлял мучительно краснеть.
Его кислая мина доставила Салли удовольствие: глаза у нее так и засверкали. Эта одиннадцатилетняя девочка обладала уже сильно развитым чувством юмора. Она весело продолжала его поддразнивать:
– Вы, должно быть, хорошо танцуете – у вас такие длинные ноги. «Вы умеете танцевать обратный вальс, мисс Сэнли?» – «Да, конечно, Джо… Ах, извините, я хотела сказать – мистер Гоулен». – «Так попробуем?» – «Да, пожалуйста, дорогой мистер Гоулен. Какая чу-уд-ная музыка, не правда ли?.. Ох! Грубиян, вы наступили мне на мозоль!»
Салли была и в самом деле очень забавна, когда, скорчив уморительную гримасу, закатывала свои большие черные глаза, артистически подражая жеманному, брюзгливому тону Дженни:
– «Разрешите угостить вас мороженым, дорогая? Или, может быть, хотите требухи? Чудная требуха, прямо из коровы. Можете получить все эти завитые штучки». – Салли остановилась и кивком головы указала на потолок. – Мисс Сэнди завивается наверху. А вы знаете, что наша франтиха Дженни на ночь надевает на нос зажим – ну, которым мокрое белье закрепляют на веревке? Явилась час тому назад прямо из своего магазина (она не «служит», имейте в виду, служат только рабы), заставила греть ей утюги… ни за что ни про что дала мне оплеуху. Вот приятный характер, не правда ли, Джозеф? Советую вам подумать, пока не поздно.
– Ах, да замолчи ты, нахальная девчонка! – Он встал из-за стола и направился к двери.
Салли притворилась смущенной и жеманно затараторила:
– К чему такие церемонии, дорогой мистер Гоулен? Зовите меня просто Магги. И как не стыдно курить молодому человеку с такими м-и-илыми глазами? О, не покидайте меня так скоро! – Она предусмотрительно загородила ему дорогу: – Позвольте, я спою вам песенку до вашего ухода, мистер Гоулен! Одну, и совсем коротенькую! – Она манерно сложила руки, точь-в-точь как Дженни у пианино, и запела высоким фальцетом:
- Погляди на анютины глазки,
- Что пестреют в нашем саду.
Пение прекратилось только тогда, когда за Джо захлопнулась дверь. Салли разразилась восторженным смехом, перекувырнувшись, бросилась со всего размаха на диван, свернулась калачиком на самом краю и от восторга забарабанила по пружинам.
У себя в комнате Джо побрился, вымылся, надел свой парадный синий костюм, повязал новый зеленый галстук, аккуратно зашнуровал блестящие коричневые ботинки. Все же он был готов раньше Дженни и нетерпеливо ожидал ее в передней. Но когда Дженни сошла вниз, у Джо дух захватило от восторга и он сразу перестал злиться: на ней было розовое платье, белые атласные туфельки, а на голове белый вязаный капор – последний крик моды. Серые глаза холодно блестели на прозрачном личике, нежном, как лепесток цветка. Она жеманно сосала ароматную пастилку.
– Честное слово, Дженни, вы просто загляденье!
Она приняла его восторг как нечто вполне естественное, накинула на свой наряд старое пальто, которое носила каждый день, взяла ключ от входной двери и сунула его в карман. Но тут ей бросились в глаза коричневые ботинки Джо. Углы ее губ опустились. Она сказала с раздражением:
– Я ведь еще неделю тому назад говорила вам, Джо, чтобы вы купили себе лакированные туфли.
– Пустяки, все наши ребята ходят на клубные вечера в таких, как у меня. Я у них нарочно спрашивал.
– Не говорите глупостей! Как будто я не знаю! Из-за ваших коричневых ботинок я буду казаться смешной… Наняли вы кеб?
«Кеб!» – Джо надулся. Что, она воображает, будто он – Карнеги? Он угрюмо возразил:
– Мы поедем в трамвае.
Глаза Дженни от гнева стали совсем ледяными:
– Ах так! Вот как вы, значит, ко мне относитесь! Я недостаточно хороша, по-вашему, чтобы ездить в кебе?
С верхней площадки раздался голос Ады:
– Дженни, Джо, не приходите поздно. Я приняла порошок и ложусь спать.
– Не беспокойся, ма, – ответила Дженни тоном оскорбленной добродетели. – Мы конечно придем рано.
Они успели вскочить в отходивший трамвай, но, к несчастью, он был переполнен. Теснота в трамвае еще больше рассердила Дженни, и она так посмотрела на кондуктора, когда он попросил Джо дать монету помельче, что кондуктор пришел в замешательство. Всю дорогу она молчала. Наконец приехали в Ерроу и вышли из битком набитого красного вагона. В холодном молчании, с видом оскорбленного достоинства Дженни дошла с Джо до «Зала Чудаков». Войдя, они увидели, что бал уже начался.
Вечер проходил неплохо, в атмосфере дружного непринужденного веселья и напоминал какое-нибудь ежегодное собрание родственников в большой счастливой семье зажиточного круга. На одном конце зала стояли столы, на которых был сервирован ужин: пирожные, сэндвичи, печенье, овощные консервы, груды мелких твердых апельсинов, по одному виду которых можно было безошибочно заключить, что они полны незрелых зернышек, бутылки колы с ярко-красными ярлыками и два огромных медных сосуда с кранами для чая и кофе. На другом конце зала, на очень высокой эстраде, замаскированной снизу пальмами в кадках, расположился оркестр – настоящий, с большим барабаном, который пускали в ход щедро, не жалея сил, а у рояля – Франк Макгарви. Таких чудесных веселых «штучек», как Франк, не умел играть никто. А такт? Когда Франк Макгарви играет, танцующим просто невозможно сбиться с такта, – он замечательно отбивает его, словно молотом ударяет: ля-до-ля-до. Самый пол в «Зале Чудаков», казалось, взлетал при этом «ля» и опускался в такт финальному «до».
Люди собрались компанейские, никто не важничал, не держался особняком. На стенах, один против другого, были наклеены два больших листа писчей бумаги, на которых великолепным почерком сестры Франка Макгарви были перечислены все танцы в том порядке, в каком они должны были исполняться: 1. Вальс «Ночи веселья»; 2. Валетта «С вами в гондоле» и так далее. У этих листов весело толпилась публика, пересмеиваясь, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть; пары подходили рука об руку, стоял смешанный запах духов и пота, раздавались восклицания. «Послушай, Белла, милочка, ты умеешь танцевать военный тустеп?» – так приглашали на танцы. Или какой-нибудь юный кавалер, внимательно просмотрев список, отважно скользил по усыпанному опилками полу и, с разбегу попав прямо в объятия своей избранницы, говорил ей: «Это лансье, детка, неужто ты не узнала мотив? Пошли танцевать!»
Дженни оглядела зал. Увидела жалкое угощение, программы, наклеенные прямо на запотевшие стены, дешевые, крикливые туалеты – ярко-красные, голубые и зеленые, смешной сюртук старого Маккенна, главного распорядителя. Заметила, что здесь многие не сочли нужным прийти в перчатках и бальных туфлях. Увидела кружок толстых пожилых жен пудлинговщиков, дружелюбно беседовавших в углу, пока их отпрыски прыгали и кружились на паркете перед ними. Все это Дженни успела охватить одним долгим взглядом и презрительно вздернула хорошенький носик.
– Фи! – фыркнула она, обращаясь к Джо. – Просто смотреть противно!
– На что?! – Джо изумленно воззрился на нее.
– Да на все, – отрезала она. – Все тут так неизящно, вульгарно, не так, как в приличном обществе.
– Неужели вы не будете танцевать?
Она равнодушно тряхнула головой:
– Отчего же… Потанцуем, пожалуй, раз за билеты заплачено. Пол здесь подходящий.
Они танцевали. Но Дженни при этом старалась держаться подальше от Джо и решительно отмежевалась от происходившего вокруг – от всего этого хлопанья в ладоши, топанья и оглушительных криков веселья.
– А это еще что за фигура? – спросила она пренебрежительно, когда они, танцуя тустеп, проносились мимо двери.
Джо посмотрел через плечо. «Фигура» оказалась мужчиной самого безобидного вида, средних лет, плотного сложения, с круглой головой и несколько кривыми ногами.
– Это Джейк Линч, – пояснил Джо. – Кузнец в нашем цеху. Вы ему, кажется, понравились.
– Очень нужно! – сказала чопорно Дженни и, самодовольно усмехаясь, добавила, гордая своим остроумием: – Я видела таких только в зоологическом саду!
Она снова стала неразговорчива, надменно подняла брови, откинула голову с видом снисходительного превосходства, желая показать, что она «выше всего этого».
Но Дженни немного преждевременно осудила бал. К концу вечера начали появляться новые лица – и уже не рабочие, не рядовые члены клуба, как те, что с самого начала наводнили зал, а почетные гости: несколько чертежников из конторы, бухгалтер мистер Ирвинг с женой, кассир Морган и даже старый мистер Клегг – директор завода. Дженни немного оттаяла; она даже улыбнулась Джо:
– Здесь становится как будто приличнее.
Не успела она это сказать, как дверь распахнулась и появился Стэнли Миллингтон – сам мистер Стэнли, «наш» мистер Стэнли! Великая минута! Он вошел веселый, свежий, вылощенный, в щегольском смокинге, и с ним пришла его невеста.
Тут Дженни совсем воспрянула духом и пристальным взглядом впилась в молодую элегантную пару, следя, как они улыбаются и пожимают руки старейшим членам клуба.
– Это с ним Лаура Тодд, – прошептала она, задыхаясь от волнения. – Знаете, дочь инженера Грот-Маркетских копей. Я ее очень часто вижу у нас в магазине. Они обручились в августе, об этом писали в «Курьере».
Джо посмотрел на ее оживившееся лицо. Жадный интерес Дженни к «лучшему» обществу Тайнкасла, ее упоение своей осведомленностью о всех подробностях их жизни очень удивили его. Но зато она теперь окончательно отбросила свою холодную чопорность в обращении с ним.
– Отчего мы не танцуем, Джо? – пролепетала она и, встав, томно закружилась в его объятиях, стараясь держаться поближе к Миллингтону и мисс Тодд.
– Это платье, что на ней, – модель… прямо от Бонара, – конфиденциально шепнула она на ухо Джо, когда они проносились мимо. – У Бонара в Тайнкасле, конечно, последние новинки… А кружева… – Она многозначительно закатила глаза. – Знаете…
Веселье было в разгаре, гремел барабан, Франк Макгарви чаще прежнего импровизировал разные «штучки», пары кружились все быстрее, все неистовее. Люди были довольны тем, что молодой мистер Стэнли «нашел время прийти», да еще привез с собою мисс Лауру. Стэнли Миллингтона «одобряли» в Ерроу. Отец его умер несколько лет назад, когда Стэнли было всего семнадцать лет и он еще учился в Сент-Бидской школе. Таким образом, Стэнли прямо со школьной скамьи, румяным и стройным молодым атлетом с только начинающими пробиваться усиками, явился на завод, чтобы знакомиться с делом под руководством старого Генри Клегга. Теперь, когда ему уже было двадцать пять, он сам управлял заводом и, как неутомимый энтузиаст, всегда стремился, по его собственному выражению, «поступать правильно». Все соглашались, что Стэнли – человек с устоями, и добавляли: «Вот что значит хорошая школа».
Основанная за пятьдесят лет перед тем группой богатых купцов-диссидентов, Сент-Бидская школа за короткое время своего существования успела приобрести все традиции закрытых учебных заведений. Здесь так же на старших учениках лежала обязанность поддерживать дисциплину, а младшие всячески угождали старшим; так же делались вылазки в одну любимую кондитерскую; так же царил «esprit de corps»[5]; так же практиковалось хоровое пение для поднятия духа, – словом, можно было подумать, что доктор Фулер, директор Сент-Бидской школы, обошел все старые школы в Англии и сеткой для бабочек ловко вылавливал в каждой школе наилучшие из ее традиций. Спорту в школе придавалось громадное значение. Значки присуждались щедро, – в них сочетались цвета школы, красивые цвета – пурпуровый, алый и золотой. Стэнли, питавший горячую привязанность к своей школе, остался верен ее цветам: он всегда носил что-нибудь – галстук, запонки, подтяжки или подвязки – этих знаменитых цветов, пурпурового, алого и золотого, как бы отдавая дань уважения тому «духу порядочности», который был девизом их школы.
Эта-то «истинная порядочность» мистера Стэнли и побудила его явиться на вечер в клуб. Он хотел «поступать, как полагается порядочному человеку». И вот он пришел, был в высшей степени мил, пожимал мозолистые руки и в промежутках между вальсами с Лаурой танцевал несколько раз с тяжеловесными супругами своих старых служащих.
Вечер проходил, и радостная улыбка, которой расцвело лицо Дженни при виде «нашего» мистера Стэнли и Лауры Тодд, стала несколько натянутой; ее журчащий смех, который раздавался всякий раз, когда она скользила в танце мимо этой пары или мимо одного из них, звучал уже чуточку искусственно.
Дженни сгорала от желания быть замеченной мисс Тодд, ей до смерти хотелось, чтобы мистер Стэнли пригласил ее танцевать. Но, увы, ни того ни другого не случилось. Как обидно! А тут еще этот Джейк Линч! Он не спускал с нее глаз, ходил за ней следом, ища случая пригласить ее танцевать.
Джейк был парень неплохой, но, на беду, он был пьян. Все знали, что Джейк любит выпить рюмочку, а в этот вечер он, шмыгая все время из клуба в соседний трактир «Герцог Кумберлендский», проглотил изрядное количество таких рюмочек. На прежних балах Джейк обычно стоял у дверей зала, блаженно кивая головой в такт музыке, а к концу вечера уходил домой, нетвердо ступая своими кривыми ногами. Но в этот вечер злой демон Джейка парил близко.
Когда заиграли последний вальс перед ужином, Джейк поправил галстук и важно подошел к Дженни.
– Пойдем, милочка, – сказал он со своим протяжным тайнсайдским акцентом. – Мы с тобой сейчас всем им утрем нос!
Дженни вскинула голову и с подчеркнутым презрением устремила глаза куда-то в противоположный конец зала. А сидевший рядом с нею Джо сказал:
– Уходи прочь, Джейк. Мисс Сэнли танцует со мной.
Джейк, пошатываясь, возразил:
– А я хочу, чтобы она танцевала со мной. – И с неуклюжей галантностью протянул руку Дженни.
В жесте Джейка не было ничего грубого, но в ту минуту он покачнулся, и его громадная лапа невольно опустилась на плечо Дженни.
Дженни драматически взвизгнула. И Джо, вскочив, с внезапной яростью нанес Джейку ловкий удар в подбородок. Джейк во всю длину растянулся на полу. Шум в зале сразу утих.
– Что тут у вас такое? – Мистер Стэнли пробрался сквозь толпу к тому месту, где стоял Джо, геройски выпятив грудь и одной рукой обнимая бледную, испуганную Дженни. – Что случилось?
У храброго Джо сразу душа ушла в пятки. Он с добродетельным видом пояснил:
– Линч пьян, мистер Миллингтон, мертвецки пьян. Должен же человек знать меру и уметь вести себя! – В прошлую субботу Джо вместе с Линчем участвовал в грандиозной попойке, их обоих вывели из бара «Эмпайр», но сейчас он уже не помнил об этом, чувство собственного достоинства не позволяло вспомнить. – Он напился и приставал к моей знакомой, мистер Стэнли. Я только хотел ее защитить.
Стэнли посмотрел на стоящую перед ним пару: хорошо сложенный юноша… оскорбленная красавица. Затем, нахмурившись, перевел взгляд на лежавшего на полу пьяницу.
– Пьян! – воскликнул он. – Нет, это уж слишком, право! Этого я не потерплю! Мои рабочие – приличные люди, и я хочу, чтобы они могли прилично развлекаться. Уберите его отсюда! Мистер Клегг, попрошу вас распорядиться. И скажите ему, чтобы он завтра пришел в контору за расчетом.
Джейк Линч за непристойное поведение был выведен вон. На следующий день его уволили с завода.
Наведя порядок, Стэнли обратился к Джо и Дженни и улыбнулся, смягченный широкой улыбкой Джо и воздушной прелестью Дженни.
– Все в порядке, – сказал он успокоительно. – Вы Джо Гоулен, не так ли? Я вас отлично знаю. Я знаю всех своих рабочих, поставил себе это за правило. Познакомьте же меня с вашей дамой, Джо. Здравствуйте, мисс Сэнли. Мы с вами должны потанцевать, мисс Сэнли, чтобы загладить эту маленькую неприятность. А вас, Джо, разрешите представить моей невесте. Может быть, вы потанцуете с ней?
И Дженни в экстазе упорхнула в объятиях мистера Стэнли, держась самым великолепным образом, выпрямив по последней моде локоть, сознавая, что все глаза в зале устремлены на нее. А Джо неуклюже и торжественно выступал с мисс Тодд, которая, видимо забавляясь, поглядывала на него с некоторым интересом.
– А ловко вы его ударили, – сказала она с характерной для нее насмешливой гримаской.
Джо согласился, что удар был первоклассный. Он чувствовал себя героем – и все-таки сильно конфузился.
– Мне нравится, когда человек умеет за себя постоять, – небрежно пояснила мисс Тодд. Она снова усмехнулась. – И не держите себя так, словно вы вступили в орден праведных тамплиеров!
Стэнли, мисс Тодд, Дженни и Джо ужинали вместе. Дженни была на седьмом небе. Она улыбалась, показывая красивые зубки, обворожительно опускала темные ресницы; желе она ела вилкой и от каждого блюда неизменно оставляла немножко на тарелке. Она была несколько шокирована, когда Лаура Тодд, взяв апельсин, преспокойно надкусила кожицу своими белыми зубами. Еще больше потрясло ее то, что Лаура без церемоний попросила у Стэнли его носовой платок. Но все, все было упоительно, упоительна каждая минута. И в довершение всего, когда вечер кончился, Джо, искупая свою давешнюю оплошность, с царственной щедростью нанял кеб. В последний раз обменялись любезностями, прокричали «до свидания», усердно помахали платками. Шурша юбками, трепеща от возбуждения, Дженни вошла в позеленевший от плесени экипаж, пахнувший мышами, похоронами, свадьбами, сыростью извозчичьего двора. Вязаные шарики ее капора исступленно качались. Она откинулась на спинку сиденья.
– О Джо! – затараторила она. – Какой чудесный вечер! А я и не знала, что вы так хорошо знакомы с мистером Миллингтоном. Почему вы не говорили мне об этом раньше? Я понятия не имела… Он премилый. И она тоже, разумеется. Красивой ее назвать нельзя, зато какой шик! Платье, что было на ней сегодня, стоит не один десяток фунтов. Можете мне поверить, это последний крик моды, уж я-то знаю! А между прочим, вы заметили, как она надкусила апельсин? А носовой платок? Я чуть в обморок не упала!.. Никогда я бы себе не позволила сделать такую вещь! Это же неприлично! Да вы меня слушаете, Джо?
Он нежно уверил ее, что слушает. С той минуты, как он очутился с ней наедине в темном кебе, желание, которое в нем вызывала эта девушка, сжигало его, как лихорадка. Все его тело горело и напрягалось в стремлении к ней. Целый вечер она была в его объятиях, он ощущал под тонким платьем ее тело, прижимавшееся к нему во время танцев. В течение долгих месяцев Дженни держала его на почтительном расстоянии, а теперь она в его руках, одна с ним. В волнении ерзая на месте, Джо осторожно придвинулся ближе к Дженни, которая забилась в угол, и обнял ее одной рукой. А она продолжала болтать без умолку, счастливая, веселая, взбудораженная.
– Когда-нибудь и у меня будет такое платье, как у нее… у мисс Тодд. Шелк и настоящие кружева. Да, она знает толк в таких вещах. Могу поручиться, что и пожить умеет, это сразу видно.
Джо тихонько притянул ее к себе и шепнул как можно ласковее:
– Не хочу говорить о ней, Дженни. Я на нее никакого внимания не обратил. Я смотрел только на вас. Я только о вас и думаю!
Она хихикнула, очень довольная.
– Вы гораздо, гораздо красивее. И платье у вас в сто раз лучше, и все лучше, чем у нее.
– А между тем эта материя по два шиллинга четыре пенса, Джо. А выкройку я достала у Уэлдона.
– Ей-богу, Дженни, вы просто чудо! – Он продолжал хитро льстить ей. И чем больше льстил, тем смелее ласкал. Он чувствовал, что она возбуждена, вся натянута, как струна. Она позволяла ему то, чего никогда не позволяла раньше. Окрыленный успехом, сгорая от желания, Джо осторожно приникал все ближе.
Дженни вдруг резко вскрикнула:
– Не смейте! Не смейте, Джо! Ведите себя прилично!
– Ну полно, чего ты испугалась, милая? – успокаивал он ее.
– Нет, Джо, нет! Этого нельзя. Это нехорошо.
– Ничего в этом нет дурного, Дженни, – вкрадчиво нашептывал он ей. – Разве мы не любим друг друга?
Тактика его была превосходна. Не знаю, каковы были его успехи на бильярде, но в тонком искусстве соблазнителя Джо был далеко не новичок.
Чувствуя, что он плотно прижимается к ней, Дженни в волнении пробормотала:
– Не надо, Джо… не здесь, Джо.
– Ах, Дженни…
Но она сопротивлялась:
– Смотри, Джо, мы уже совсем близко. Смотри, Пламмер-стрит. Мы уже почти дома. Пусти меня, Джо. Пусти же.
Он недовольно поднял с ее шеи разгоряченное лицо и увидел, что она говорит правду. Разочарование было так сильно, что он чуть не выругался вслух, но взял себя в руки и, выйдя из кеба, помог выйти Дженни. Потом бросил шиллинг «пугалу на козлах» и стал подниматься по лестнице вслед за девушкой. Линии ее фигуры, даже простой жест, которым она достала ключ и вставила его в замочную скважину, сводили его с ума. Тут он вспомнил, что Альф, ее отец, сегодня не ночует дома.
В кухне, освещенной только огнем в камине, Дженни остановилась перед Джо и взглянула ему в лицо: несмотря на оскорбленное целомудрие, ей, видимо, не хотелось идти спать. Она была возбуждена необычностью всего пережитого сегодня, и успех в клубе еще кружил ей голову. Она стояла с немного застенчивым видом:
– Может быть, зажечь газ и сварить вам какао, Джо?
Джо с трудом скрывал раздражение и откровенное желание схватить ее:
– Вы никогда ничем не порадуете человека, Дженни. Подите сюда, посидите минутку со мной на диване. Мы за весь вечер и словом не перемолвились.
Настороженная, немного испуганная, она стояла в нерешительности. Проститься и пойти спать? Это скучно… А Джо сегодня так красив!.. И вел себя молодцом – нанял кеб…
Дженни сказала, посмеиваясь:
– Что ж… от разговора вреда никакого не будет, – и подошла к дивану.
Как только она села, Джо крепко обнял ее. Сейчас это оказалось легче, чем в кебе: Дженни вырывалась как-то нехотя. Он угадывал ее возбуждение, видел, что она еще вся трепещет от впечатлений этого вечера.
– Не надо, Джо… не надо… Мы должны вести себя прилично, – твердила она, сама не понимая, что говорит.
– Нет, Дженни, надо. Ты знаешь, что я с ума по тебе схожу. Ведь мы любим друг друга.
Покоренная, испуганная, сопротивляясь и вместе отдаваясь, обессиленная страхом, болью и каким-то новым, незнакомым ощущением, Дженни шепнула одним дыханием:
– Пусти, Джо… ты делаешь мне больно, Джо!
Он понял, что теперь она принадлежит ему, понял с дикой радостью, что перед ним наконец настоящая Дженни…
Огонь в камине догорал. Решетка опустела. Когда все уже было кончено, Дженни, похныкав, сколько полагается, внезапно зашептала:
– Обними меня крепко, Джо… крепче, дорогой!
Нет, можно ли этому поверить?! А он лежит в чертовски неудобной позе, и волосы Дженни лезут ему в рот. Когда она прильнула к нему, подставив его губам бледное, мокрое от слез, милое личико, теперь лишенное всякого глупого притворства, она была так же естественна и прекрасна, как одна из жемчужно-серых голубок ее отца. Но Джо в эту минуту почти готов был… да, готов был ударить ее. Имелось, впрочем, смягчающее вину обстоятельство: как он и сказал Дженни, это была его первая настоящая любовь.
XII
В «Холме» субботний вечер имел свою раз навсегда установленную программу. После холодного ужина Хильда играла отцу на органе. И в этот вечер последней субботы ноября 1909 года, в восемь часов, Хильда играла «Музыку на воде» Генделя, а Баррас сидел в своем кресле, опершись головой на руку, и слушал. Хильда не любила играть в присутствии отца. Но играла. Это входило в ее обязанности.
Ричард Баррас крепко держался установленного им порядка. Это не значит, что он был рабом привычек, – они не имели власти над ним. И традиция также была для него не повелительницей, а скорее эхом, постоянно вторящим его принципам. Чтобы понять Ричарда Барраса, необходимо принять во внимание его принципы. Потому что он действительно был принципиальный человек, не лицемер. Он был искренен.
Он был также человеком нравственным. Он презирал слабости, которым так часто и таким роковым образом предаются люди. Он, например, не способен был и подумать об измене Гарриэт с какой-нибудь другой женщиной. Несмотря на свои немощи, Гарриэт была ведь его женой! Он презирал и другие, более грубые вожделения: пристрастие к роскоши, к обильной еде и вину, обжорство, пьянство, сибаритство, чувственность, всякие эксцессы, все виды физической распущенности внушали ему омерзение. Он ел простую пищу и обычно пил только воду. Он не курил. Его костюмы были сшиты хорошо и из добротной материи, но их у него было мало, и он не отличался суетной страстью к щегольству.
У него, разумеется, была своя гордость, естественная гордость просвещенного либерала. Он всегда помнил, что он человек с положением и состоянием, владелец копей, которыми их род владеет вот уже сто лет. Он искренне гордился своими предками, начиная от Питера Барраса, который в 1805 году впервые углубил шахту № 1 на «Снуке» (в нынешнем старом «Нептуне») и оставил своему сыну Вильяму отлично налаженное небольшое предприятие. Вильям, в свою очередь, проложил шахты № 2 и 3. А отец Ричарда, Питер Вильям, предпринял бурение шахты № 4, – это было разумное дело, из которого его сын теперь извлекал огромную пользу. Ричард с глубоким удовлетворением думал об этих дальновидных, трезво мыслящих людях, создавших своим потомкам имя и состояние. Гордился он и тем, что унаследовал и развил в себе качества предков, гордился собственной дальновидностью и здравомыслием, своим умением выгодно заключать сделки.
Он не проявлял откровенного честолюбия. Когда при нем заходил разговор о каком-нибудь видном лице в графстве, Баррас всегда спрашивал спокойно: «А какой у него капитал?», с кроткой насмешкой констатируя, что сосед располагает самыми ничтожными средствами. Таким образом, Баррас, принимая с удовольствием дань уважения со стороны своего банкира и своего адвоката, не был снобом, – он презирал такие мелочные чувства. На Гарриэт Уондлес, принадлежавшей к одной из знатных фамилий графства, он женился не ради ее высокого происхождения, а просто потому, что хотел, чтобы она стала его женой.
Это наводит на мысль о страсти. Но Баррас не производил впечатления человека с сильными страстями. Он был подавляюще-сильной личностью, – но то была сила уравновешенная, холодная как лед. Ему не были свойственны стремительность, неистовые страсти, порывы пламенного чувства. То, что ему было чуждо, он отвергал; тем, что не было чуждо, он завладевал. Показания Гарриэт, которой он обладал в тиши ее спальни, конечно дали бы ключ к разгадке этого человека. Но Гарриэт наутро после этих регулярных ночных идиллий просто с аппетитом съедала обильный завтрак, наслаждаясь им со спокойным удовлетворением хорошо выдоенной коровы. Это единственное биологическое свидетельство могло быть и положительным и отрицательным, других свидетельств не допускала скромность Гарриэт.
Сам же Ричард редко обнаруживал себя. Он был человеком замкнутым. Эта замкнутость, несомненно, была достоинством. Не обычная скрытность, а нечто более тонкое – замкнутость человека, сурово негодующего на попытки копаться в его душе и одним взглядом замораживающего всякую фамильярность. Он, казалось, говорил ледяным тоном: «Я – это я, и останусь самим собой, и никому, кроме меня, до этого дела нет. Я сам собой управляю и никому другому управлять собой не позволю».
Не надо, однако, думать, что все внутреннее существо Ричарда было целиком отлито в эту шаблонную форму. У него имелись свои индивидуальные особенности. Например, любовь к органу, к Генделю, в особенности к его «Мессии», приверженность к искусству, здоровому и общепризнанному искусству, о чем свидетельствовали дорогие картины на стенах его дома, верность семейному очагу, прочно укоренившаяся привычка к точности и аккуратности и, наконец, страсть к приобретению.
В ней-то, в этой страсти, и крылась разгадка души Барраса, самая сущность его «я». Он был крепко привязан ко всему, что составляло его собственность, – к своим копям, дому, картинам, имуществу, ко всему, что принадлежало ему. Отсюда ненависть ко всякого рода мотовству, бледным отражением которой была выработавшаяся у тетушки Кэрри бережливость, ее неспособность что-нибудь выбросить. Тетушка часто обнаруживала эту черту, к полному удовлетворению Барраса. Он и сам никогда ничего не выбрасывал. Газеты и бумаги всякого рода, старые квитанции и договоры – все он аккуратно складывал в пачки, надписывал их и запирал в свой письменный стол. Это надписывание и складывание в ящик превратилось чуть ли не в священный ритуал. Он придавал ему какой-то высший смысл. Между этим занятием и его любовью к Генделю существовала некая гармония. Здесь был тот же внушительный размах и глубина и что-то вроде религии, недоступной чужому пониманию. А между тем источником ее была просто алчность, ибо больше всего душу Барраса снедала тайная страсть к деньгам. Он искусно скрывал ее от всех и даже от себя самого, но он обожал деньги. Он держался за них цепко, тешился ими, этим сверкающим олицетворением своего богатства, своей реальной ценности в мире.
Хильда перестала играть. Наконец-то покончено с Генделем, во всяком случае с этой «Музыкой на воде»! Обычно она, окончив, укладывала ноты обратно на табурет у рояля и сразу уходила к себе наверх, но сегодня Хильда, по-видимому, хотела угодить отцу. Не отводя глаз от клавиатуры, она спросила:
– Может быть, сыграть тебе «Largo», папа?
То была его любимая вещь, пьеса, которая производила на него большее впечатление, чем все остальные. Хильду же доводила чуть не до истерики.
Сегодня она сыграла ее медленно, в торжественном темпе.
Наступила тишина. Не отнимая руки от лба, отец сказал:
– Спасибо, Хильда.
Она поднялась и стояла по другую сторону стола. Лицо ее было угрюмо, как всегда, но внутренне она трепетала.
– Папа! – начала она.
– Что, Хильда?
Хильда тяжело перевела дух. Много недель собиралась она с силами для этого разговора.
– Мне скоро двадцать лет, папа. Вот уже почти три года, как я окончила школу и вернулась домой. И все это время я здесь ничего не делаю. Мне надоело бездельничать. Мне хочется чем-нибудь заняться. Позволь мне уехать отсюда и работать.
Баррас опустил руку, которой заслонял глаза, и смерил дочь любопытным взглядом, затем повторил:
– Работать?!
– Да, работать! – сказала она стремительно. – Позволь мне учиться чему-нибудь или найти себе какую-нибудь службу!
– Службу? – Все тот же тон холодного удивления. – Какую службу?
– Да любую. Ну хотя бы быть твоим секретарем. Или сестрой милосердия. Или отпусти меня на медицинский факультет. Этого мне больше всего хочется.
Он снова с легкой иронией посмотрел на нее:
– А как же будет, когда ты выйдешь замуж?
– Никогда я не выйду замуж! – вскипела Хильда. – Я и думать об этом не хочу. Я слишком безобразна, чтобы когда-нибудь выйти замуж.
Холодное выражение скользнуло по лицу Барраса, но тон его не изменился. Он сказал:
– Ты начиталась газет, Хильда!
Его догадливость вызвала краску на бледном лице Хильды. Это была правда: она прочла утреннюю газету. Накануне на Даунинг-стрит суфражистки устроили демонстрацию во время заседания парламента, и произошли скандалы при попытках некоторых из них ворваться в палату общин. Это послужило Хильде толчком к окончательному решению.
– «Была сделана попытка ворваться… – процитировал Баррас на память, – ворваться в здание палаты общин». – Он сказал это так, как говорят о последней степени безумия.
Хильда в бешенстве закусила губы, повторила:
– Папа, позволь мне уехать и изучать медицину. Я хочу быть врачом.
– Нет, Хильда.
– Отпусти! – В ее голосе звучала отчаянная мольба.
Отец ничего не ответил.
Наступило молчание. Лицо Хильды побелело как мел. Баррас с интересом созерцал потолок. Это продолжалось с минуту, затем Хильда без всякого мелодраматизма повернулась и вышла из комнаты.
Баррас, казалось, не заметил ухода дочери. Хильда нарушила незыблемую традицию – и он закрыл свою душу для Хильды.
Просидев неподвижно с полчаса, он встал, заботливо выключил газ и пошел в свой кабинет. В субботние вечера после игры Хильды он всегда уходил к себе в кабинет. Это была большая, комфортабельно обставленная комната с толстым ковром на полу, массивным письменным столом, темно-красными портьерами, закрывавшими окна, и несколькими фотографиями шахты на стенах. Баррас сел за свой стол, достал связку ключей, долго, с кропотливым усердием выбирал нужный ему ключ и наконец отпер средний верхний ящик стола. Оттуда он вынул три обыкновенные счетные книги в красных переплетах и привычным жестом начал их перелистывать. Первая содержала перечень его вкладов, который он сам написал своим аккуратным почерком. Он сосредоточенно просматривал книгу, и довольная, несколько двусмысленная усмешка скользила по его губам. Он взял перо и, не обмакивая его в чернильницу, осторожно водил им по рядам цифр, но вдруг остановился и глубоко задумался, мысленно решая продать привилегированные акции Объединенных копей. В последнее время они стояли очень высоко, но он имел неблагоприятные конфиденциальные сведения относительно доходности этих предприятий. Да, акции надо будет продать. Он опять слабо усмехнулся, похвалив себя мысленно за безошибочный инстинкт дельца, за коммерческую жилку. Он никогда не делает промахов. Каждая из ценных бумаг, записанных в этой книге, была твердопроцентной, надежной, имела солидное обеспечение. Он снова сделал беглый подсчет. Результат привел его в хорошее настроение.
Потом он занялся второй книгой. Она содержала сведения о его домах в Слискейле и окрестностях. На Террасах большинство домов было собственностью Барраса (он не мог примириться с тем, что мясник Ремедж владел половиной Балаклавской улицы), а в Тайнкасле ему принадлежали целые кварталы домов, в которых комнаты сдавались понедельно. Эти дома у реки, где квартирную плату собирал специальный сборщик, давали колоссальный доход. Ричарду Баррасу не приходилось жалеть о скупке этих домов. Идея принадлежала ему, но всем делом ведал Бэннерман, его поверенный, на скромность и благоразумие которого можно было положиться. Баррас записал себе для памяти, что надо поговорить с Бэннерманом относительно расходов.
И наконец, с чувством облегчения, любовно придвинул он к себе третью книгу. Это был список его картин с указанием сумм, уплаченных за них. Он благодушно просматривал цифры. Ему было приятно, что на картины истрачено двадцать тысяч фунтов – целое состояние. Что ж, это тоже выгодное помещение капитала. Картины все тут, на стенах его дома, они будут цениться все выше, станут редкостью, как полотна Тициана и Рембрандта… Впрочем, больше покупать не надо. Отдал дань искусству – и хватит.
Он взглянул на часы и прищелкнул языком, увидев, что так поздно. Бережно спрятал книги, запер на ключ ящик и пошел к себе в спальню. Там он опять вынул часы и завел их, налил себе воды из графина, стоявшего на столике у постели, и начал раздеваться. В спокойных движениях его большого, сильного тела была какая-то сосредоточенность, неизменность. Движения эти были равномерны, систематичны. Они не допускали возможности других движений. В каждом сказывалась обдуманная забота о себе. Сильные белые руки имели свой собственный немой язык. Они как бы приговаривали: «Вот так… так… лучше всего сделать это таким образом… для меня так лучше всего. Может быть, это делается и другим способом… но мне удобнее всего так… Мне…» В полумраке спальни символический язык этих рук таил в себе какую-то загадочную угрозу.
Наконец Баррас окончил приготовления ко сну. Накинув темно-красный халат, с минуту стоял, поглаживая подбородок, потом неторопливо зашагал по коридору.
Хильда, сидевшая в темноте у себя в комнате, услышала тяжелые шаги отца: он вошел в расположенную рядом спальню матери. Девушка вся сжалась и словно застыла. На лице ее выразилась мука. В отчаянии пыталась она заткнуть уши, чтобы не слышать, но не могла. Ей никогда это не удавалось. Шаги слышались уже в комнате. Разговор вполголоса. Потом глухой, медленный скрип. Хильда содрогнулась всем телом. В муке отвращения она ждала. И услышала знакомые звуки.
XIII
Джо сидел, развалясь, в комнате своих хозяев на Скоттсвуд-роуд, не обращая ни малейшего внимания на Альфа Сэнли, который у стола читал вслух статью капитана Санглера о скачках в Госфортском парке. Сегодня Джо и Альф собирались на скачки, но Джо, если судить по хмурому выражению его лица и презрительному невниманию к сообщениям капитана Санглера, по-видимому, не слишком восхищала эта перспектива. Объевшись за обедом, он полулежал в кресле, вытянув ноги на подоконник, и предавался мрачным размышлениям.
– «На состязаниях я смело ставлю на Несфилд лорда Келла против Элдон Плэйт, считая первой фавориткой эту хорошо тренированную кобылу…» – монотонно гудел голос Альфа, в то время как глаза Джо угрюмо блуждали по комнате. Боже, какое тошнотворное место! Что за дыра! И только подумать, подумать только, что он, Джо, больше трех лет мирился с этим! Да, почти четыре года. Неужели ему еще долго торчать тут? Трудно поверить, что так незаметно промчалось время, а он все еще здесь, как выброшенный на берег кит. Черт побери, да где же его честолюбивые мечты? Что же, он всю жизнь так и будет тут пропадать?
Впрочем, по трезвом размышлении положение его показалось Джо не таким уж скверным. На заводе он эти четыре года зарабатывал довольно прилично. Да, прилично… но это еще не значит хорошо, этого далеко не достаточно для Джо Гоулена! Он теперь работал пудлинговщиком и получал регулярно три фунта в неделю. А в двадцать два года это уже кое-что! Его все знают и любят (сквозь угрюмость Джо пробилась слабая усмешка самодовольства), – даже удивительно, до чего любят! Он на заводе «свой парень». И сам мистер Миллингтон, видно, интересуется им: всегда останавливается и заговаривает с ним, когда обходит мастерские. Но из всего этого до сих пор никакого толку не вышло. «Да, ничего, черт возьми!» – думал Джо хмурясь.
Чего он достиг? У него теперь не один, а три костюма, три пары коричневых ботинок и куча модных галстуков, и деньжонки всегда есть в кармане. Он окреп физически, даже выступал на состязаниях по боксу в Сент-Джеймс-холле. Он приобрел сноровку в некоторых делах и знал в городе все ходы и выходы. Ну а еще что? «Ничего, ровно ничего!» – твердил про себя Джо, все более мрачнея. Он остался таким же рабочим, живет в чужой квартире, не так богат, чтобы можно было пускать людям пыль в глаза, и все еще… все еще не развязался с Дженни.
Джо беспокойно заерзал на месте. Дженни олицетворяла собой вершину всех его несчастий, грядущий кризис, она-то и была причиной его нынешней угрюмости. Дженни влюбилась в него, вешалась ему на шею. Надо же было ему впутаться в такую историю! Сначала это, конечно, щекотало его самолюбие. Недурно было, что Дженни бегает за ним и виснет на его руке, когда он, выпятив грудь, лихо сдвинув шляпу на затылок и щеголяя коричневыми ботинками, гулял с нею по улицам.
Но сейчас это уже не веселило его, как прежде, прыти в нем сильно поубавилось. Дженни ему надоела… Впрочем, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Она была так податлива, соблазнительна, и тайная любовь между ними, бешеное утоление желаний урывками – то в этой самой комнате, то в его комнате, то вне дома, в темноте, в чужих подъездах, за Эльсвикскими конюшнями, в самых странных и неожиданных местах, – все это еще не потеряло своей прелести. Но теперь это было слишком легко. Уже не приходилось преодолевать сопротивление Дженни. В ней даже замечался некоторый пыл, а иногда и обида, если Джо слишком долго оставлял ее одну. Проклятие! Он теперь все равно что женат.
А жениться он не хотел ни на этой, ни на какой-либо другой Дженни. Связать себя на всю жизнь – нет, благодарю покорно! Он слишком умная птица, чтобы попасться в эти силки. Ему надо идти вперед, выбиться в люди, накопить денег. Он хочет снимать сливки, а не пить снятое молоко.
Джо насупил брови. Слишком много места Дженни заняла в его жизни, слишком меняет эту жизнь! Она его просто угнетает. Вот, например, еще сегодня, услыхав, что он едет с ее отцом в Госфорт, а ее оставляет дома, она вдруг залилась слезами и успокоилась только тогда, когда он обещал взять ее с собой. Сейчас она наряжается наверху.
Эх, пропади все пропадом! Джо вдруг с бешеной злобой пнул ногой стоявшую перед ним табуретку. Альф перестал читать и посмотрел на него с кротким изумлением.
– Да вы не слушаете, Джо, – сказал он протестующе. – Для чего же мне трудить глотку, раз вы не слушаете?
– Этот парень ни черта не понимает, – ворчливо отозвался Джо. – Наверно, он свои сведения получает прямо от лошадей, а лошади врут. Я разузнаю все, что надо, на месте, у Дика Джоби. Мы с ним приятели, и это такой человек, на которого можно положиться.
Альф отрывисто захохотал:
– Да что с вами, Джо? Вот уже десять минут, как я перестал читать о лошадях. Я читал сейчас о новом аэроплане, который построил этот малый, Блерио, – знаете, тот, что в прошлом году перелетел через Канал.
– У меня у самого когда-нибудь будет целая флотилия этих чертовых аэропланов. Вот увидите! – буркнул Джо.
Альф покосился на него из-за газеты.
– Посмотрим! – согласился он с жестоким сарказмом.
Дверь открылась, и вошла Дженни. Джо сердито взглянул на нее:
– Наконец-то ты готова!
– Готова, – весело подтвердила она. С лица ее исчез всякий след недавних слез, и, как это часто с нею бывало после взрыва слезливого раздражения, она казалась безмятежно-счастливой и веселой, как жаворонок.
– Как тебе нравится моя новая шляпа? – спросила она с плутовским выражением, наклоняя голову к Джо. – Прехорошенькая, не правда ли, мистер?
При всем своем скверном настроении Джо не мог не признать, что Дженни сейчас очень мила. Новая шляпа, очень эффектно надетая, оттеняла ее бледную красоту. Фигура у нее была прекрасная, чудесные линии ног и бедер. С потерей девственности она еще похорошела: казалась теперь более уверенной и зрелой, не такой анемичной, в ней было больше «блеска», – красота ее приближалась к полному расцвету.






