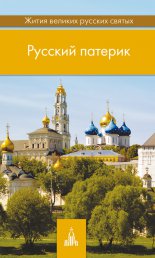Великая война без ретуши. Записки корпусного врача Кравков Василий
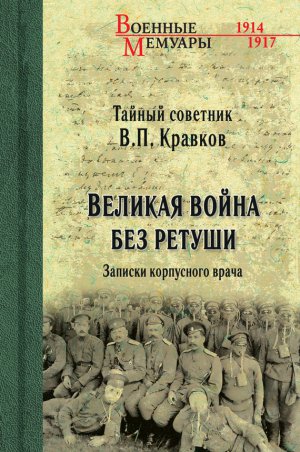
Около 11 дня были уже в Липах – на своей земле. Селение это представляет сплошные развалины – следы артиллерийск[ого] огня, справа и слева все окопы и позиции; сложенные в штабели и так валяющиеся рельсы декавильки, лежавшие всю дорогу, в Закликове[239] же – целое депо вагонеток; очевидно, дело австрийских рук. Стали попадаться братские могилки. Проголодался, а хлеба нема; остановился у одной корчмы; что люди в ней есть заключил из того, что бегает поросенок; встретили меня одна старая еврейка и два поляка-крестьянина; на просьбу продать хлеба отговаривались неимением его; но когда я сказал, что «хочу кушать», дали около 1 фунта черного хлеба, а на предложенную лепту ответили решительным отказом «пане генерале».
Дорога от Лип до Закликова около 10 верст шла сплошным сосновым лесом все по тому же трясучему деревянному шоссе, к[ото] рое старался, елико возможно, объезжать просеками. На мой вопрос моему вознице, сыты ли теперь лошадки мои, отвечал: «Даже очень, а то от почтенной казны, к[ото] рая их кормила перед этим, у них даже слезы из глаз шли».
Около 2 дня прибыл в Закликов. Тотчас же при въезде заглянул в первую попавшуюся избушку, ч[то] б[ы] спросить про запас еще кусок хлеба. К удивлению моему, у хозяйки-польки оказались целые караваи печеного белого хлеба, да еще на молоке, печеные яйца, кроме того – и овес для лошадей. С жадностью набросился я с Лепореллой на сии сокровища; по-видимому – конец нашему голоданию. За неимением при этой хате навеса или сарая для лошадок остановился у ксендза, к[ото] рый отвел мне одну проходную комнату и дал удобное помещение лошадям, кроме того – накормил меня превкусным обедом, какого я за всю кампанию не едал. Да будут благословенны ксендз и его «племянница», оказавшие столь хлебосольный прием «пане генерале»!
22 сентября. Погода премерзейшая – дождь и невылазная грязь. Слава Богу, что нет большого ветра. Переночевал у любезного ксендза довольно удобно, предупредительности его ко мне не было границ: даже на ночь подставил мне горшок, шутя назвавши его «полковником», и немного смущен был, когда я его поправил, сказавши, что вы-де, батюшка, лишь деликатничаете передо мной, не желая эту посудину назвать настоящим именем – «генералом», как следовало бы, если бы был у вас полковник… Пан ксендз именуется настоятелем римско-католического прихода в Закликове Виктор[ом] Игнатьевич[ем] Суским; очень беспокоится и просит ему откровенно сообщить, дабы принять необходимые меры к самоохранению, – могут ли сюда прийти германцы, к[ото] рые-де прут теперь стеной на Вислу и хотят отрезать нашу Галицийскую армию – или нет[240]? Я ему объяснил, что имеются наибольшие шансы этого не опасаться. В другой половине у ксендза поместились врачи госпиталей 83-й пех[отной] дивизии, жаловавшиеся мне на свою бездеятельность и безостановочное их мотание с места на место.
В 8 ч[асов] утра выехал на Здеховицы[241]. Дороги отвратительные. Мой Лепорелло чрезвычайно невзыскателен к удобствам жизни, может безропотно подолгу не есть и не пить; сегодня он часто покрикивает на своих лошадей уже новой кличкой: «Эй вы, храбрые!» Дорога и далее становилась не лучше, приходилось все время делать объезды, т[а] к к[а] к шоссе чрезвычайно избито. Местность весьма холмистая[242]; возле проезжаемых деревень попадаются скот и гуси, слышится пение петухов, жители мирно на полях роют картошку. Обратил на это внимание и мой возница, заметивши: «Здесь, в-во, хорошо живут, деревни не объедены»[243]. Обогнали нас казаки 9-го Уральского полка[244]. То там, то сям валяются еще не убранные трупы лошадей. У Ржечицы[245] обогнал полевую почту 9-й армии, следующую как и я – в Красник[246], куда – узнал, – передвигается и штаб означенной армии.
Около 2 часов дня приехал в Красник; грязь, не поддающаяся ни описанию, ни даже воображению. Город внутри – чисто еврейский, по окаринам же – польский; евреи заняты более торговлей, поляки же – земледелием. Остановился по указанию магистрата заночевать в одном еврейском семействе, принявшем меня со всеми выражениями преданности, угостили щукой по-жидовски и вареной куицей, горячего же жидкого пошел искать в «ресторан», оказавшийся самой завалящей харчевней; поел щей; хуже солдатских. Цена не разбойничья. В городе можно купить по части снеди и хлеба, и колбасы, и сала. В сравнении с той нуждой и полным отсутствием самого необходимого, что было в палестинах, откуда я выехал, это оказалось благодатью.
Выбрасываю скоплявшиеся у меня про черный день засохшие куски белого и черного хлеба, так как имею возможность пользоваться мягким. Поехал за город к «казачьим казармам», где расположился штаб 9-й армии, ч[то] б[ы] навести справки о месте нахождения штаба моей армии; с положительностью уверяют меня, что она входит в группу армий Северо-Западного фронта и штаб ее или в Белостоке[247], или же в Гродно[248]. Говорят, что начальником санитарной части армий упомянутого фронта назначили вместо Савицкого (врача) некоего известного Рейнбота[249]! Что учинило военное ведомство над военными врачами в текущую кампанию – это уму непостижимо!! Умалением наших прав и ущемлением чувства нашего служебного достоинства за счет уширения первых и возвышения последних у чисто военных чинов – деградацией и подчинением заведующих санитарной частью армии (назначаемых по большей части из корпусных врачей и помощн[иков] окружн[ых] в[оенно]-санит[арных] инспекторов мирного времени) какому-либо, подчас завалящему полковнику в роли заведующего этапно-хозяйственным отделом армии, а также внесением щекотливо-странных взаимоотношений между корпусн[ыми] врачами коронными (кадровыми) и заведующими санитарной частью армии, назначаемыми из дивизион[ных] врачей – ведомство военное грубо и зло надглумилось над нами введением нового устава о полевой службе (уже после объявления войны), ответивши на все домогательства Евдокимова[250] сделать врачей офицерами и на его несчастную реформу, учиненную над Воен[но]-медицинской академией!
23 сентября. Проснулся рано; мои услужливые еврейчики уже изготовили мне чай, подали белый хлеб и даже со сливочным маслом и на придачу сварили всмятку два яйца[251]. Распинаются передо мной и призывают Всевышнего в свидетели, что они во всю жизнь свою в первый раз видят такого большого начальника, к[ото] рый бы так заботился о своем солдате, как я; им кажется необычайным то, что я старался и накормить к[а] к следует своего Лепорелло, и положить его на ночь в тепле, а то «все офицеры крепко ругают своих солдат и не дают им помещаться в одном доме» (sic!). Что ж, это правда, и это великое зло, что наше офицерство слишком узколобо смотрит на поддержание дисциплины, полагая, что чем грубей обращение с солдатом, тем крепче-де дисциплина.
Оказывается, что Красник совершенно уцелел от действия огня и меча благодаря своему положению в котловине между гор; жители почти в течение двух недель сидели обезумевшими от ужаса, когда через них с той и с другой стороны перелетали снаряды. Расхвалили мне мои несчастные иудеи г. Люблин; рекомендовали мне там остановиться на Краковской улице в гостинице или «Европейской», или же «Английской».
Около 9 ч[асов] утра тронулся в дальнейшее путешествие. Погода ужасная; беспрерывно льет дождь – «раздожжовилось», как выражается мой возница. Дорога раскисла и сделалась почти невылазной; шоссе превратилось в сплошные «волчьи ямы»; по необходимости приходится следовать объездом. Вот уж поистине, дороги наши могут быть для нас одним из могучих факторов защиты от нашествий самых даже свирепых иноплеменников. Еле-еле протаскивали меня мои кони лесной чащей, пока часа через 2 удалось проехать к[аких]-ниб[удь] 10 верст и прибыть в Вильколаз[252], где немного я запривалил, ч[то] б[ы] дать передышку измученным лошадям и согреться своему вознице. Остановились в незатейливой хатке, где обедали рабочие-поляки, занятые проведением узкоколейной жел[езной] дороги. С большой тревогой спрашивали меня, не придут ли сюда германцы, к[ото] рые, как им известно, теперь заняли Островец[253] в 10 милях отсюда. Я с напускной уверенностью старался объяснить им, что прийти сюда германцы никаким образом не могут. Напившись чайку с своим возницей и поразогревшись, покормивши немного лошадок, поехали дальше. Заслушался вдали, кстати, и рожок к сбору, так много будящий в душе моей переживаний из прошлого. Под Собещанами[254] навстречу попался идущий к Краснику 3-й Стрелковый гвардейский полк[255], люди все – народ свежий, рослый, довольно чистенько одетый; видно, что еще не принявший боевого крещения. Немного далее нагнал взвод Новоингерманландского полка[256], идущий на присоединение к своей части. Это из 3-й дивизии 17-го корпуса! От солдатиков моего когда-то корпуса узнал, что он весь движется теперь к Люблину. Вот, может быть, удастся мне там встретиться с своим Леонидом[257].
Проехал Недрзвицу Малу, а через 3 версты далее располагалась Недрзвица Дужа[258]. Было уже 4 часа дня; кони мои и возница промокли до костей; я порешил в этой деревне заночлежить. Войт отвел мне подходящую хатку, ч[то] б[ы] можно было где поставить и моих лошадок хотя бы под навес. Как ни стараюсь я в своем путешествии возможно более обособиться от войск, ч[то] б[ы] даже не видеть ни одного солдата, но это недостижимо. И в данном случае деревня вся уже была занята расквартировавш[имися] в ней частями и обозами 2-го разряда Уланского Лейб-гвардии Его Величества полка[259]. От одного из нижних чинов последнего как очевидца я узнал, что Краков уже с неделю как оставлен без боя австрийцами и занят нашими тремя казачьими дивизиями. С большими затруднениями приходится добывать для лошадей сена и овса; я пока стараюсь действовать на панов больше лаской да щедрой расплатой… Как мало мы вдумываемся в такое всем известное явление: к холодам у лошадок отрастает длинная шерсть, как сама природа заботится заготовлением теплых покровов для животн[ых]. Но в одном ли этом природа проявляет свои целесообразные действия?
До Люблина от Недрзвица Дужа считается 19 верст. Завтра засветло рассчитываю быть там; поремонтируюсь, пообчищусь, дам постирать накопившееся грязное белье и хоть денек поживу в культурных условиях обстановки[260].
24 сентября. Ночь провели плохо, так как чуть ли не каждый час проходившие солдаты стучали в окна и ломились в двери, прося ночлега или хотя бы отогреться; но все избы были переполнены; один бедный солдатик кричал белугой, что замерзает; на расспросы – какие солдаты идут? – отвечают: «Нежинского полка».
Грязь невылазная; день начался с наклонностью как будто разведриться. Утром разговорился с нежинцами, не евшими вчера целый день, а сейчас с жадностью уплетающими вареную картошку; порассказали о катастрофе, постигшей их 15 августа, когда они подверглись внезапному обстрелу из пулеметов с господского дома и когда утеряли половину артиллерии. Ехать по шоссе вследствие его исковерканности и избитости было невозможно, пришлось тащиться по боковым дорогам. Слава Богу, что дождь перестал и весь день проглядывало из-за туч солнышко. По пути встречались обозы, а также следовавшие на пополнение 2-й и 66-й запасные батальоны. Последние 12–14 верст перед Люблином можно было ехать уже по шоссе, к[ото] рое по своей ровности было что скатерть. Впервые за время кампании увидел небольшую рощицу родных березок.
В 12 часов дня прибыл в Люблин. С большим трудом, и то благодаря случайности, застал номер в одной из прличных гостиниц («Европейской»); все гостиницы переполнены военными, для гражданских в них нет доступа. Город очень красивый и благоустроенный, весь обратился в стан русских воинов. В своем засаленном и загрязненном костюме я нисколько не выделялся от других, а потому решил не облекаться в новое пальто, к[ото] рое у меня мирно покоится в сундуке. Завтра и послезавтра поотдохну здесь, а то чувствую себя совершенно разбитым. № мой великолепный, и после всех мытарств пребывание мое в нем так сладко и приятно. Жаль лишь, что никак не удалось найти подходящее помещение для моих лошадок: занятая ими общая конюшня при гостинице до чрезвычайности грязна, и подстелить им под ноги нет соломы. С затруднением приходится покупать им сено и овес. Цены тройные! При всей ненависти моей к ресторанной кухне поданный мне обед показался верхом совершенства.
Среди военных мелькают фигуры и мужские, и женские с красными крестами. Какой-то, очевидно, уполномоченный почтенных осанки и возраста приветствовал нек[ото] рых сестер милосердия поцелуями их ручек. Что их влекло сюда, на войну? Многие ли из них приехали сюда только ради служения страждущему человечеству? А не только – в лучшем случае – лишь занять себя, если не ради своих чисто личных интересов. Сегодня молодая жена одного офицерика так наивно обратилась ко мне с просьбой определить ее в сестры милосердия, так как-де она не может оставить своего мужа без себя!
Виделся мимолетно с нек[ото] рыми из штабных 17-го корпуса: Яковлевым[261] и Ив[аном] В[асильевичем] Ильиным[262]. Разговориться с ними не пришлось, уж очень я устал; что Бог даст завтра? Передают, что Радом[263] взят немцами, Зуев же получил 26-й корпус; наверное, и «Пердяя» устроят на теплое местечко… Война, война, в каком священном ореоле юное воображение себе ее рисует, а она, в сущности, для командного состава сверху донизу есть только ресурс кормления, и всякий из офицерских чинов старается быть ей заинтересованным не более как дойной коровушкой, к[ото] рая дает много молока.
Сделал после обеда необходимые мне закупки. Взял ванну, а то почти два месяца не вымывался. Сдал в стирку скопившееся в порядочном количестве грязное белье. Цены «осадные». Наконец-то увидел и купил последние №№ от 20 и 21 сентября газеты «Нов[ое] время», «Рус[ское] слово», «Речь» и «День». Пока прочитал первые две газеты. Боже мой, как все пишут не то, что в действительности: мы – как видно из них – только бьем да бьем немцев, немцы же валятся да валятся, и терпят унизительное фиаско, цитируются якобы отзывы германских газет о непобедимости русской армии и о постоянной заботливости наших военачальников о быте, снабжении и довольствии вверенных им частей войск (sic!), сообщают о недостаточности артиллерийских запасов в Германии (а у нас??) и о том, что австрийцы увлекали за собой местное население Галиции, держа его в страхе рассказами о русских к[а] к о варварах, галицийские-де крестьяне верили и бежали, а солдаты австрийского тыла знали себе да грабили деревни на своей земле (а мы-то, мы-то??). А то вот о простой какой-нибудь бабенке напишут так: «В одном из кавалерийских полков в действующей армии находится ротмистр Ф. С ним и его жена, одетая по-мужски, весь поход совершает с полком… перевязывает и кормит раненых… всей дивизии… Проявляет удивительное хладнокровие и личную храбрость; работает под огнем. Это – общий кумир отряда (!)». Знаем мы этих кумиров! Нижеследующая же телеграмма прямо бесподобна: «Тула. Отправлены во Львов в распоряжение генерал-губернатора 10 конно-полицейских урядников для несения полицейской службы в завоеванных областях Галиции». Право, можно было бы и не торопиться командировкой этих культуртрегеров! Всегда и во всем у нас выдвигается на первый план эта панацея – ежовые рукавицы…
25 сентября. Расправил и поуспокоил свое разбитое и изможденное тело в просторной мягкой постельке в хорошо согретой чистенькой комнатке. Проснулся – уже светло, взглянул в окно – на улицах мокро, падает снег, усиленное движение массы войсковых частей, шум, гомон людской, гудение автомобилей и все та же опять безотрадная картина встревоженного людского муравейника…
Купил от 22 сентября «Речь», «Новое время» и «Рус[ское] слово». От штаба Верховного главнокомандующего сообщаются хорошие вести, будто германцы после Августовского сражения, закончившегося для нас 20 сентября победой, покидают пределы Ломжинской и Сувалкской губерний. Дай-то, Господи, ч[то] б[ы] это не было для нас лишь эпизодическим успехом! Как-то не верится… Но… но даже и «Речь» в Августовском поражении левофланговой германской армии видит полное крушение основных принципов германской стратегии и тактики; не нам-де учиться у германских стратегов военному искусству, а им следует заглянуть в русскую науку побеждать (sic!). Как представишь себе всех этих автомобильных генералов наших, вроде Зуева, «Пердяя», Потоцкого, Добрышина и tutti quanti[264], и диву даешься, что по адресу наших военачальников расточаются дифирамбы, что при таких презренных и ничтожных начальниках наших войска наши еще могут одерживать победы…
Послал моим ребятушкам письмо с извещением их о моем новом месте служения; письмо было короткое – как-то не писалось мне. Потолкался на вокзале, повидался с нек[ото] рыми нежинцами и болховцами; думал, не встречу ли своего Леонида. Кое-что закупил для дальнейшего своего странствия. На все – неприступные цены; многого из весьма нужного нет совсем – например, свечей. Лошадки мои бедные голодают от недостатка сена и овса. Долго ходить по городу не мог – ахиллесовой пятой теперь у меня становится моя несчастная спина, нуждающаяся в постоянной для себя подпорке, а то хоть ходи или с палкой, или совсем скрючившись. Мне думается, что и месяца наши войска не выдержат испытываемых ими теперь всевозможных лишений и невзгод. Одно утешение, если то же имеется в наличии у наших противников; и это я готов допустить с той лишь разницей, что у неприятеля, если нет хлеба, потому что его нет и негде взять, то у нас его нет потому, что не умеют его только доставить.
Посмотрел я на великолепные здания, занятые Красным Крестом под больных и раненых, к[ото] рым стараются теперь предоставить все радости бытия, и невольно пришло на сравнение вспомнившееся мной отношение нашего «дедушки» к любимым курочкам, к[ото] рых всячески он ласкал и холил, ч[то] б[ы] потом отдать распоряжение подать их на стол вареными или жареными… Японская война и теперешняя меня научили и воспитали дорожить каждым, хотя и совершенно зачерствевшим кусочком хлеба, каждой веревочкой и ничтожной по-видимому вещью, к[ото] рая здесь всегда может пригодиться.
26 сентября. Погода то захмурится, то разведрится; то же и на душе. Предполагал было сегодня же выехать на Холм в ставку главнокоманд[ующ] его; но не бывать бы счастью, да несчастье помогло: мою бедную лошадку – пристяжную – искусала жестоко стоявшая с ней рядом на общей отвратительной конюшне злая – очевидно, с голода – лошадь, и мне пришлось задержаться ради помещения несчастной пациентки в ветеринарный лазарет для наложения на раны швов; этим обстоятель[ством] я воспользовался для помещения и другой лошадки – корневика – вместе с экипажем и конюхом в тот же лазарет, где пребывание их будет обеспечено несравненно лучшей обстановкой, при к[ото] рой не разворуют – как здесь, при гостинице – ни жалкого запаса корма, ни всяких принадлежностей экипажного и лошадиного обмундирования, а то была сущая беда при ротозействе и неповоротливости моего возницы. Больших хлопот мне стоит дело фуражирования – сено и овес за недостатком их продаются на вес золота; прибегаю к посредничеству жидов и плачу им большие куртажные… Лишний день, так[им] образом, я и поблагодушествую в чистом № с электрическим освещением, уже не говоря о том, что и покормлюсь сам по-человечески. Если не прибегнуть к содействию жидов, то и хлеба нельзя достать в городе ни черного, ни белого.
Отвожу и душеньку свою регулярным чтением третий день газет. Сегодня получил из них обычную для себя в мирное время триаду – «Рус[ское] сл[ово]», «Нов[ое] вр[емя]» и «Речь» от 23 сентября. В ресторанах кормят для военного времени хорошо и недорого. Здесь встретишь то того, то другого из своих бывших сослуживцев и знакомых. В 17-м корпусе, в 5-м, судя по разговорам, да и, несомненно, во всех остальных люди кормятся не лучше, чем в оставленном мной 25-м корпусе; стратеги наши на тыл не хотят обращать и внимания в своем стремительном передвижении не давая возможности поспевать за ними обозам с провиантом и прочим довольствием; что из этого будет в недалеком будущем – страшно и подумать: мне кажется, что вся наша «серая скотинка» и просто скотинушка в лице лошадей начнут повально умирать от истощения и болезней.
О взятии нами Кракова из газет ничего не видно, значит лейб-гвардейский улан мне соврал «как очевидец»… Удосужился наконец послать писульку своему брату Сергею. Отрадное явление: вследствие мудрой меры – принудительной диеты, ущемившей главу «зеленого змия», не видно ни одного случая хмельного безобразия ни среди офицеров, ни среди нижних чинов; а что было в японскую войну?!!
Из газет видно, что германский Генеральный штаб распространил в Берлине известие о победе над русскими под Августовом[265]. Где Божья правда – за нашими ли официальными сведениями, или за германскими? Признаюсь, я мало верю и тем, и другим.
27 сентября. Погода хмурая, но не дождливая. Устроил своих лошадей с экипажем и конюхом в отдельный товарный вагон, к[ото] рый выхлопотал прицепить к вечернему почтовому поезду, с к[ото] рым сегодня я сам отправляюсь на Холм. Вопрос фуражировки лошадей для меня приобретает характер трагический – я так измучился заботой, ч[то] б[ы] мои кони были сыты при затруднительности купить все для них необходимое, что, право, чувствую на плечах своих такую обузу, точно имею несколько семейств на содержании. Скорее бы добраться до места – тогда не придется мне самому заниматься и отвлекаться этим тягостным для меня делом.
Мой Лепорелло сообщает, что вчера около 11 час[ов] вечера с запада слышалась сильная артиллерийск[ая] канонада. Отправил своим братьям, детям и племянницам открытки с местными видами. На вокзале виделся с команд[иром] 19-го корпуса Горбатовским. Большая часть корпусов нашей армии из Галиции перебрасывается на прусский фронт. Боль в спине мне положительно мешает даже в умеренной ходьбе. Не отрапортоваться ли мне больным, ч[то] б[ы] обратить, наконец, на себя серьезное внимание, но… но… сделаю это, когда уж меня невмоготу припрет.
А здесь, как нарочно, мальчишки с телеграммами как бы дразнят вожделенной мечтой, выкрикивая: «Последние известия – мир!» Сердце перевертывалось от радости.
Отправляюсь на новую должность в скорбном сознании предстоящей мне роли – искупительной жертвы за грехи авторов, составлявших новый устав о полевой службе, а также того стрелочника, на к[ото] ром имели бы возможность разряжаться все громы и молнии сильных мира сего за общее неустройство военного быта.
Около 11 часов ночи выехал на Холм, в 1 час ночи уже был там. Заночевал в уборной, но спал плохо от холода и от сильного запаха карболки.
28 сентября. Рано утром, чуть забрезжил свет, выгрузил лошадей из вагона. Через этапного коменданта магистрат отвел мне помещение; в выборе его я больше всего считался с тем, ч[то] б[ы] лошадям была удобная стоянка и ч[то] б[ы] она была поближе ко мне. Поместили меня на краю города в одной избе в соседстве с магазином, имевшим вывеску, на к[ото] рой большими буквами выведена надпись «Склад гробов». После тех районов, из к[ото] рых я выехал, г[ород] Холм с первого же взгляда производит впечатление мирного города, в к[ото] ром не видно ни бешеной военной суматохи, ни облыжности в смысле возможности приобретения в нем необходимых предметов довольствия[266]. Можно здесь купить и молока, и свечей, и масла, и т. д. Нет здесь встречавшей[ся] до сего времени картины объеденности. Только что расположился в квартирке – послышался призывный звон колокола[267]; очевидно, сегодня праздник.
Отыскал штаб главнокоманд[ующего] Юго-Западного фронта, где в оперативном отчаянии навел справку о нахождении штаба главнокоманд[ующ] его Северо-Западного фронта – в Гродно. Уже там я узнаю точно, где расположен штаб моей армии; ехать придется на Брест – Белосток – Гродно. Сегодня – «День креста», по городу ходит молодежь обоего пола и продает флажки с красным крестом в пользу раненых.
Пообедал на вокзале – вполне хорошо и недорого. Случайно встретился там с Федяем, к[ото] рый, как и Зуев, реабилитировался и получил бригаду в одном из запасных корпусов, предназначенных для осаждения Перемышля. Настроен в отношении меня откровенно и покаянно, необычайно был ко мне любезен и утащил меня к себе в вагон чай пить, откуда вместе пошли в Моск[овское] экономич[еское] офицерск[ое] общ[еств] о. Ругает свой штаб 25-го корпуса как нельзя более, все-де работали из-под палки и ничего не знали, кроме Богословского. Не поздоровилось от него и по адресу Зуева. Передавал мне, что Плеве, вместо того, ч[то] б[ы] быть самому свергнутым за директивы, имевшие для него и Зуева столь неприятные последствия[268], награжден недавно Георгиевским крестом[269]; Добрышину-де не оправдаться в том, что он бросил свою дивизию и, в растерянности потерявши с ней всякую связь, бежал прямо на Холм в штаб армии. Вопрос возникал об отрешении от должности и корпусного командира 17-го корп[уса] Яковлева, но он слишком будто бы в очень хороших отношениях с Плеве.
29 сентября.
Погода, почти не переставая, стоит гнусная – мрак, дожди и слякоть. Но эта атмосферическая непорядочность значительно для меня теперь смягчается в этом почти глубоком тылу человеческого коловращения, где все штабные расположились даже совсем по-домашнему. Странно, что из штаба Юго-Западн[ого] фронта, стоящего теперь в Холме, совсем выделены санит[арная] часть и другие отделы, стоящие в Бресте. Зачем такая разобщенность и расколотость штаба?
Получил все нужные документы на перевозку и себя, и всего моего инвентаря в Гродно, куда я завтра отправляюсь только ради узнания из штаба фронта о месторасположении штаба моей армии; досадно будет, если придется туда ехать опять назад, напр[имер] – в Белосток или Брест; вероятнее всего, мне кажется, что в Варшаву[270], в группу войск, действующих по правую сторону Вислы.
Стараясь быть объективно-беспристрастным в сравнительной оценке положительных качеств немцев перед русскими (напр[имер], принимая во внимание их большую организованность, методичность, продуманность, расчетливость, фундаментальность во всем, выдержанность и пр.), я чисто логически не могу не допустить и не предвидеть, что наш противник должен побить нас своей техникой, сообразительностью, хладнокровием и многим другим; и если мы разобьем германцев, то интересно знать, какому из этиологических элементов победы мы будем этим обязаны? И морально-то, я думаю, они настроены, во всяком случае, уж не ниже нас, а скорее даже выше, чувствуя себя в положении окружаемых железным кольцом при громадности их национального самосознания. Еще будь хоть мы перед ними поворотливее, эластичнее – а то и этого преимущества у нас перед ними нет. Так чем же мы победим?? Я в затруднении на это ответить, разве только большим количеством шапок, большей выносливостью, да, может быть, еще как[ой]-ниб[удь] внезапностью рассудку вопреки действий[271]! Смотрел я сегодня на толкавшуюся на вокзале массу добровольцев по Красному Кресту, сестер, всяких уполномоченных, и спрашивал я себя, а сколько из них найдется лиц, к[ото] рые сюда ехали действительно с исключительной лишь и чистой целью бескорыстного общего служения страждущему человечеству, а не главным образом-то – себе лично? Да и каждый из воюющих-то – какая у него идеология? А та, ч[то] б[ы] прежде всего, скорее всего и больше всего взять себе же лично, а затем все следуют румяна, маски…
Спина моя меня изводит, не могу я свободно как следует ходить. Только и покою в кровати, куда не часто дорваться.
30 сентября. Преотвратительная погода. Посадил лошадей с тарантасом в вагон, прицепленный к отходящему со мной поезду на Брест около 6 час[ов] вечера. В Брест прибыл уже ночью. Толчея, что негде яблоку упасть, ужинал за неимением мест стоя; масса выселяющихся из Варшавы, к[ото] рые, объятые ужасом войны, стараются поспешно эвакуироваться вовнутрь России. Варшавская публика настроена крайне нервно. Напрасно и нерезонно власти призывают жителей к спокойствию, обнадеживая их перспективой полного благополучия и беря на себя, так[им] обр[азом], большой риск быть дискредитированными в глазах несчастной публики, если бы Варшава была взята и публика бы сразу всей массой бежала из города. Заночевал в холодном вагоне, т[а] к что продрог здорово. Верную мысль я подслушал на вокзале из уст одного молодого человека, к[ото] рый высказывается за неприобретение людьми массы драгоценностей и всякого вообще имущества, дабы не чувствовать себя, лишившись их, уж очень несчастным.
Узнал из газет о смерти Карла Румынского[272], для нас, может быть, могущей сыграть и весьма выгодную роль. Из тех же источников сообщение о падении Антверпена.
Октябрь
1 октября. Незабываемый мной никогда день Покрова Пресвятыя Богородицы. Утром слышится благовест колокольный в церквах. Около 3-х дня сел в поезд, отходящий на Белосток; публики туда едет мало, а больше все в Киев, Москву, Брянск. От случайного моего спутника – фельдъегеря Гончарова – узнал, что штаб 10-й армии в Красностоке[273], верстах в 30 к СЗ от Гродно. Путь к Гродно местами пролегает среди болот, к востоку – Беловежская пуща.
Продолжаю аккуратно прочитывать газеты; потопление немцами нашей «Паллады»[274] лишний раз доказывает, что враг наш слишком силен.
Вагон мой с лошадьми прицепили к санитарному поезду, к[ото] рый больше стоял, чем шел. Прибыл в Гродно лишь в 6 утра, всю ночь не спал.
2 октября. Светлая погода. Узнаю, что штаб СЗ фронта переезжает в Седлец[275]. От жандарма и коменданта станции узнал, что штаб моей армии – в Красностоке; для вящей же достоверности постарался узнать об этом у к[ого]-либо из оставшихся пока чинов штаба; мои разговоры с Рейнботом[276], ответили мне по-хамски: «Я вам не справочная контора…»[277] Из Гродно до Белян[278] по машине, а с Белян на лошадях. Шоссе превосходное, гладкое как скатерть. Часов в 7 вечера прибыл-таки наконец в штаб, расположенный в Красностокском женском монастыре[279], проскитавшись в розысках его около почти двух недель, и это в век пара и радиотелеграфов… Знакомство с новыми сослуживцами. Новости о происшедших переменах в воен[но]-санитарной организации, при к[ото] рой все вышло наоборот с нашими чаяниями военных врачей, созданной как будто со злобным намерением нас унизить и предать в руки и на дискреционное усмотрение хулиганствующих рейнботов и им подобной сволочи, когда подпоручик Богданович в должности начальника эвакуационного пункта в Августове «подтягивает» главных врачей госпиталей угрозами отрешения их от должностей…
3 октября. Чудная погода, светлый день, дивная красота монастырской обители, к[ото] рую теперь занимает штаб 10-й армии. Но… на душе так тяжело, так тяжело – и не от предвидения и предчувствия всевозможных катастрофических сюрпризов, к[ото] рые нам готовят германцы, а от террора перед разнузданным произволом властвующей теперь вовсю и со зверским остервенением над нами рейнботовщины, для к[ото] рой и в трудную годину, переживаемую родиной, остается все тот же руководящий принцип в жизни – l’tat c’est moi[280], и к[ото] рая в своем утробном ослеплении и неистовстве все спасение для России продолжает видеть только в ежовых рукавицах да кузькиной матери за счет попрания всяких самых элементарных норм закона…
Ознакомился сегодня со всеми штабными; командующий армией – Сиверс[281] (недавно лишь назначенный после смены двух предшественников), начальник штаба – Одишелидзе[282]; дежурный генерал – Эггерт[283]; генерал-квартирмейстер – Будберг[284] и заведующий этапно-хозяйст[венным] отделом – генерал фон Таубе[285]!! Ни одной русской фамилии! Дела предстоит мне масса, и самого тревожного и трудного – формирование по новому положению «санитарного отдела», распорядительная деятельность по части эвакуации и проч. в гнусной атмосфере ежеминутного чувствования над собой грубого полицейского произвола и хамства. Неужели, если Господь благословит нас победой над врагом, то она послужит для большего еще торжества рейнботствующей лишь России, а не подлинной, дорогой всем нам России?! Кто самые опасные внутренние враги последней, настоящие революционеры-крамольники, ведущие ее к гибели, как не все эти находящиеся у власти рейнботы с своими разбойничьими шайками, своими злодействами перещеголяющие тевтонов в чинимых ими зверствах?! Если какому-н[и] б[удь] помпадуру «приказано быть акушером», это ведь немного лишь требует от него ума и благородства души, ч[то] б[ы], получая по занимаемой должности все прерогативы (уж Бог с ним!), уметь в ней лишь шефствовать и настолько хотя бы ценить лицо действительно за тебя все делающего, ч[то] б[ы] только не оскорблять его чувства достоинства в угоду своему своеволию и капризу и в явный ущерб делу, да еще в такую великую страду, как настоящая война.
4 октября. Прекрасный солнечный день. Вхожу в курс нового дела. Работы административной масса, одних телеграмм в день приходит иногда до 50 и более. Хорошо так устроился в келейке монастыря, увешенной все образами, иконами – не вышел бы из нее никуда!.. С утра – колокольный звон; говорят, что сегодня воскресенье. Урвал времечко заглянуть в церковь; из Гродно приехал архиерей, к[ото] рый говорил проповедь, шел молебен; монашенки стройно пели «Заступница усердия…» и «…под твою милость прибегаем…» Обстановкой был глубоко взволнован, до слез растроган и умилен… Самые дорогие вещи и многие драгоценности из церкви вывезены в Гродно на случай могущего [случиться] нашествия сюда пруссаков.
В штабе почерпнул сведения, что под Граевом[286] и на фронтах под Варшавой идет бой, на нас наступают в больших силах пруссаки – со стороны Торна[287] 2 корпуса, на Варшаву 5 корпус[ов], по линии Ивангород[288] – Сандомир 5 корпус[ов], и по Восточной Пруссии – не менее 3 корпусов. Фронт нашей армии растянут от Сувалков[289] до Остроленки[290]. Лык[291] нами очищен. 1- Туркестанский и 6-й армейск[ий] корпуса из нашей армии выделяются, 26-й же – придается. Нашей армии предписано упорно обороняться.
Около часа дня – обед в монашеской трапезной. Стол довольно хороший. Все штабные выглядят такими чистенькими и хорошо одетыми, что заставляет и меня обратить на себя внимание относительно костюма. Подведомственные мне товарищи по санитарн[ому] управлению – пресимпатичные люди, заботятся обо мне как о родном. Не ожидал я этого встретить.
Прибыл генерал-майор Бендерев[292], был он перед этим – начальник штаба 1-го Туркест[анского] копуса, но, очевидно, оказался неспособным, а потому назначен «начальником санитарного отдела» 10-й армии!! Я буду его помощником. Познакомился с ним; впечатление на меня произвел хорошее откровенным признанием, что будет состоять в означенной должности лишь временно, впредь до получения или бригадного командира, или начальника дивизии, и что по санитарной части он ровно ничего не знает.
Хотел было пойти ко всенощной, но приехал ко мне особо уполномочен[ный] Красным Крест[ом] князь Куракин[293].
5 октября. Погода мокрая. Приступили к формированию «санитарного отдела» при штабе 10-й армии согласно приказу Верховного главнокомандующего; поставлен во главе этого отдела не врач, а генерал-майор, вследствие чего и штат установлен довольно пухленький. Пока еще сформируются «санит[арные] отделы» в армиях, а теперь идет страшный сумбур во взаимоотношениях и в деле ясного разграничения круга ведения каждого. Рейнбот же – озорствует!
Продолжаю жить в такой же иноческой келейке, уставленной иконами, вот уже третий день пребываю на одном месте без передвижений (давно не наслаждался такой «оседлостью»!), питаюсь безусловно хорошими обедами и даже ужинами (чего не видел никогда в 25-м корпусе), так что при таких условиях нестрашными представляются ни значительно увеличившаяся работа, ни даже рейнботовская хулиганщина.
6 октября. День серый, но без дождя. Живу все в той же келейке, увешанной иконами; и это действует психотерапевтически на мою усталую и измученную душу. Между массой организационного дела по формированию «санитарного отдела» при штабе армии и текущих сношений – и письменных, и телефонных, и телеграфных в восходящем и нисходящем направлении – все-таки урываю минутки, ч[то] б[ы] зайти в церковь и послушать столь любимое мной женское пение монашек.
Генерал Бендерев пробыл у нас как мимолетное видение, так как благодаря содействию своего сотоварища – начальника штаба – получил новое назначение в штаб 3-го армейского корпуса. Какими удобствами – посмотрел я – обставлено было его отправление: даны и подводы под уйму вещей, и автомобиль персонально под него – своей корпорации человек! А уезжай я, хотя бы был и в чине действит[ельного] тайного советника – ноль бы на меня внимания. Все же, благодарение Господу Богу, я в штабе армии хоть не вижу к себе того грубого и наглого отношения, к[ото] рое пришлось испытать в штабе 25-го корпуса.
Назревает стратегический кризис в нашем единоборстве с пруссаками; в районе нашей армии между Граевом и Осовцом[294] начались бои; железная дорога между ними разрушена.
Получил от своего сына письмо, посланное из Москвы 29/IX с уведомлением, что отправлен ко мне по прежнему адресу с Сараджевым транспорт необходимых для меня вещей, получить к[ото] рые при теперешних условиях сюда я, к сожалению, не рассчитываю.
Бомбардируют меня главные врачи подвижных госпиталей телеграммами такого содержания, что-де корпусные продовольств[енные] магазины не выдают им ни фуража для лошадей, ни съестных припасов для команд, купить же их невозможно… Интендант армии Краевский[295] (полковник, по-видимому, дельный, разумный и порядочный) откровенно признался, что помочь горю не в состоянии, так как ожидаемый из Гродно груз около 150 тысяч пудов в пути застрял. Задержка доставки всякого довольствия и людям, и лошадям из тыла – явление не случайное, а уже давно принявшее общий и постоянный характер, и притом трагический. Без преувеличения можно сказать, что войска со всеми входящими в них учреждениями, кроме штабов армий, – голодают в буквальном смысле слова, кроме того – терпят крайнюю нужду в надлежащем обмундировании и снаряжении. Если условия снабжения армии всем необходимым не улучшатся, то, мне кажется, должен будет наступить общий мор. Не допускаю и мысли, ч[то] б[ы] у наших противников дело снабжения армии было поставлено так отвратительно, как у нас, как бы наше общественное мнение ни обрабатывалось газетными сообщениями, имеющими тенденцию подчеркивать да приумножать одни только минусы у неприятеля, ничего плохого не находя у нас самих. А пруссаки все прут да прут – методически, настойчиво, планомерно, не уступая ни одной пяди своей земли, а прибирая мало-помалу ее от коалиции противников. Вот вам и Германия, не воевавшая в течение 40 лет!!
2 октября, оказывается, исполнилось столетие со дня рождения высокочтимого мной поэта Лермонтова, «с печалью в душе» явившегося на свет[296].
Лошадки мои стоят теперь, да отдыхают. Хотел было приказать своему конюху, ч[то] б[ы] он давал за это время их бездеятельности меньше овса (по 5 ф[унтов] вместо 10 на каждую) и прибавил бы сена (вместо 20 фунт[ов] на каждую давал бы хоть 30 ф[унтов]), но перерешил, будучи убежден доводами Лепорелло, что-де пусть как следует лошадки прибавятся в теле, ч[то] б[ы] генеральские лошади не походили на обозных!
7 октября. Хорошая погода. С утра с запада слышалось сильное артиллерийское буханье. Идет бой между Осовцом и Августовом. Целый день мечусь как угорелый в стараниях как можно лучше обеспечить войсков[ые] части в санитарном и эвакуацион[ном] отношении; разослал тысячи телеграмм и начальнику санитарной части фронта, и главноуполномоченному Красного Креста Гучкову[297], и особоуполномоченному – князю Куракину, и главным врачам госпиталей, и т. д. Бомбардируют и меня со всех сторон телеграммами. Душа страдает от сознания, что зла и несчастий так много, а даже и смягчить их я не в состоянии!.. Хоть и все время треплешься, а видишь, что делаешь-то «ничего»; лучше ли это, чем ничего не делать?!
Наступления ночи ожидаешь с вожделением – на подушке под теплым одеялом хоть временно забываешь всю отвратительную и гнусную распостылую действительность. Еле-еле, хотя бы коротенько принуждаю себя продолжать ведение своей «серой книги».
Блокада с Перемышля нами снята; значит, дела наши в Галиции неважны.
Получил от Сережи-брата теплое и сердечное письмо. Все то же идеалистическое отношение к войне, как и моего Сергея-сына; благодарю покорно за дурацкую роль быть пушечным мясом в руках равнодушных и легкомысленных распорядителей десятками тысяч жизней; другое было дело участие в войне в век стрел, пищалей и проч.
8 октября. Чувствуется дыхание глубокой осени; деревья расцветают багрянцем; земля покрылась густым ковром опавших кленовых листьев; небо покрыто свинцовыми тучами; пронизывающий сильный ветер; грозно шумит лес; жутко завывают и визжат телеграфные и телефонные проволоки. Как красивы здесь придорожные кресты! Шестой уж день как живу безвыездно в святой обители[298]. Хорошо бы пожить здесь в мирное время, без этой кошмарной действительности, сковывающей и ум, и сердце. Все-таки я остаюсь верен себе – не могу совсем слиться и отождествиться с налегшей на меня тяжестью весьма беспокойной работой; я всегда с своими мечтами и грезами – «Люди друг к другу зависть питают, я же, напротив, только завидую звездам прекрасным, только их место занять бы хотел…»
Хотел было сегодня съездить в Осовец, но не было автомобиля, по крайней мере – для меня, для других же всегда есть; обещали дать завтра. Сегодня мне Сиверс приказал не ставить только что прибывший Кронштадтский лазарет имени какой-то особы (?) «в какую-ниб[удь] трущобу», а непременно у станции жел[езной] дороги! Такова заботливость о частных отрядах! Независимо от требований боевой обстановки, а ради лишь удобства учреждения!..
Пленный немец, как передавал мне один генерал из 1-й армии, будто бы выразился так, что-де если бы да у нас были бы такие солдаты, как у вас, так мы бы раскатали вас не с таким, а с большим трезвоном.
9 октября. Ветреная, дождливая погода. Рано утром отправился на ненавистном мне автомобиле в Августов познакомиться с деятельностью там сборного эвакуацион[ного] пункта и входящих в его состав госпиталей, в число к[ото] рых произволом Рейнбота попал и приданный дивизии № 132, о необходимости возвращения к[ото] рого в свою дивизию я только что телеграфировал сему помпадуру. Дорога все время пролегала по чудному шоссе среди болот, трясин, озер и хвойных лесов. Около 40 верст пролетел в течение 1 часов! По пути навстречу тянулись обозы; бедные лошади от страха мчащегося самоката шарахали в сторону, опрокидывали повозки. С болью в сердце всю эту картину я беспомощно созерцал и думал, уравновесится ли внесенный моим автомобилем беспорядок в обозы той пользой, к[ото] рую я должен принести своей поездкой по осмотру полевых госпиталей? А польза, мне кажется, могла исчерпываться только разве тем, что я всех подведомстве[нных] мне коллег лишь обласкал и приободрил в противовес примененным к ним рейнботовским карательным мерам, вроде, напр[имер], отчисления от должностей некоторых главных врачей. Свою злобу от общего неустройства и несорганизованности во всем наши начальствующие лица так любят вымещать на своих подчиненных, особенно же – на врачах! И вместо того, ч[то] б[ы] быть руководителями, выступают исключительно лишь в роли карателей, видя в этом все свое назначение. В стороне Граево и западней слышалась артиллерийск[ая] канонада.
Приехал обратно в свою святую обитель – уж стало смеркаться. В штабе циркулируют сведения, будто бы мы оттеснили неприятеля и переходим в наступление. От Варшавы пруссаки отступили за Скерневицы[299]. Осмотревши сегодня раненых солдатиков вынес весьма отрадное впечатление: настроение духа у них бодрое, многие с охотой готовы возвратиться в строй. Воистину, наша «серая скотинушка» – святая скотинка! И если Россия победит, то только благодаря нашему солдату…
Хотел было написать письмо своим детям, но так устал и продрог, что тянет на кровать и под теплое одеяльце.
NB. Осмотрел сегодня и Тверской этапный лазарет. Досадно видеть, что такое прекрасно оборудованное учреждение (да и одно ли оно только!) с самого начала войны только и знает, что двигается с места на место – свертывается да развертывается, и за все это время только и успело оказать пособие лишь девяти раненым!! Это явление не случайное, а общее как для частных, так и для военных врачебных учреждений, а между тем как много б[ольн] ых и раненых часто оказывается без надлежащей помощи! Так много у нас суеты, и так мало продукции! Все эти летучие отряды, лазареты и подвижные госпитали Красн[ого] Креста, при несомненной от них пользе, к[ото] рую они могли бы оказать, – часто дают себя чувствовать какой-то обузой, к[ото] рую не знают, куда приткнуть, ч[то] б[ы] только от них отвязаться и дать им хоть к[акое]-н[и] б[удь] занятие[300]. Характерное, пожалуй, явление для нашей матушки Руси: всего может быть и много, да распорядиться-то этим не умеют.
10 октября. Погода хорошая. Миллион терзаний с этим не вовремя формированием санитарн[ого] отдела и текущими делами; задавлен телеграммами… Уж не до обычной для меня жизни призрачным миром, когда поганая реальность стучит в сознание невероятным хаосом во всем…
В газетах прочитал цитируемую статью современн[ого] писателя Ромена Роллана[301], направленную против милитаризации германских интеллигентских сфер, когда рука об руку с прусской военщиной идут все почти германские писатели и ученые.
От начальника штаба узнал, что мы собираемся переходить в наступление. Не верится мне, ч[то] б[ы] мы могли победить пруссаков; при совершенстве их техники, аккуратности и взвешенности ума не выручит, пожалуй, нас и «серый».
Командир 2-го Кавк[азского] корпуса Мищенко, хотя и порядочно надоедает моей канцелярии всякими телеграммами по санитарной части касающимися, но мне он очень нравится: таким и должен быть строевой начальник, к[ото] рый при учете «числа штыков и сабель» никогда не должен забывать и о носителях этих орудий…
Случайно прочитал в газетах о смерти от ран Сергея Ванновского[302], за взятие Равы-Русской[303] награжденного «Георгием»; «С. В., ныне умерший, за взятие Равы-Русской награждается Георг[иевским] крест[ом] 4-й ст[епени]», – так гласит приказ.
11 октября. День – серый. Граево – опять в наших руках. Идет сегодня большой бой между Боржемен[304] и Дуткен[305]. В нашу армию скоро вольется 1-я, состоящая из двух корпусов. Вследствие последовавшей во время самой войны реорганизации в[оенно]-санит[арной] части[306] – большой кавардак, путаница в понятиях, терминах; за отсутствием же надлежащей связи между частями и учреждениями многими из них не получается совсем никаких ни циркуляров, ни приказов. Только бы быстро и безостановочно двигаться и мотаться из стороны в сторону, хотя бы и безо всякого толку – отлично сходит за деловитость…
Вечером был у всенощной, превосходное пение, кадильный и свечной запах меня положительно пьянят и уносят мою душу в горния… Так грустно было слышать – «да веселятся небесные, да радуется земная»…
- «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою,
- Пред твоим образом, ярким сиянием
- …
- Не за свою молю душу пустынную,
- За душу странника…
- Но я вручить хочу Лялечку милую
- Теплой Заступнице мира холодного…»
Прочитать Метерлинка[307]: «Жизнь пчел», рассуждение о судьбе[308], «Сокровища благих»[309].
12 октября. Хорошая погода; тепло на дворе. Ночью сквозь блуждающие по небу тучки проглядывает луна и виднеются мириады мигающих лампад.
- … «Люди друг к другу
- Зависть питают;
- Я же, напротив,
- Только завидую звездам прекрасным,
- Только их место занять бы хотел…»
Сегодня – воскресенье. Сходил к обедне. Прекрасно пели; «отложим ныне всякое житейское попечение…» Душа моя всегда в стремлении к этому…
До слез тронут был сообщением в газетах о грандиозной патриотической манифестации студенчества С.-Петерб[ургского] университета по случаю призыва значительной его части на службу за отменой отсрочек по образованию[310]. Наша молодежь всегда – на передовых позициях.
Почти каждый день слышалась усиленная глухая канонада с запада. Командующий войск[ами], начальник штаба и квартирмейстер выехали на бранное поле. Как наши дела обстоят – неизвестно пока. О нашем же сражении под Варшавой в течение 1–7 октября газеты трубят как об имеющей решительное значение нашей победе, даже как «о начале конца» для германцев. Дома у нас теперь все ликуют. Но мне представляется, что рано еще нам [тру] бить в фанфары, еще много нам предстоит преодолеть трудностей, ч[то] б[ы] сломить врага, от к[ото] рого Варшава еще не застрахована. В действиях наших военачальнков что-то видно много ремесленности и нет вдохновенного дерзания в отступление от шаблона.
В нашу армию вливается теперь 1-я армия Ренненкампфа, состоящая из 3-го и 20-го корпусов; за упразднением этой отдельной армии бесталанному ее вождю дается, ч[то] б[ы] не обидеть его, командование над формируемой, кажется, особой армией, куда будут входить «маргариновые» корпуса…
Сегодня делал мне, как начальнику санитарного отдела, доклад бухгалтер; говорил о кредитах, выданных в мое распоряжение по какой-то смете какого-то управления, о разассигновках и о прочем в этом роде; слушал я, и ничего ровно не понимал, но уверен, что для докладчика я сумел показать себя знающим!!
13 октября. Ведренный день; свежо. С раннего утра начинается бомбардировка меня телеграммами, предписаниями, приказами, сношениями и т. д., на каковую я, в свою очередь, открываю огонь… Такая масса мелочей овладевает мозгом и давит его, что все в голове путается у меня; забывчив и рассеян стал в феноменальной степени. Производит ли кто настоящую работу в смысле продуктивности ее, или только одну видимость работы, но у всех страшная трата нервных сил, чувствуется общий хаос, судорожное дерганье – только бы не быть в покое; все бегают и суетятся не столько ради достижения к[акой]-либо осознанной общей цели, а просто-напросто из чувства самосохранения, ч[то] б[ы] для тебя лично не случилось от начальства к[акой]-либо неприятности; усилия каждого направляются не к служению делу, а к одному лишь козырянию, что будто бы творишь дело… Все несомненно переутомлены чрезвычайно; с болью в сердце приходится обращаться по службе то к тому, то к другому, у к[ото] рых в душе читаешь – «черт бы тебя побрал»; своим обращением видишь, что вносишь еще больший хаос, совестно бывает каждый раз как бы мешать другим в их подчас процедуре толчения воды в ступе. Независимо как бы от нашей мышиной деятельности и крохоборства там… там, на позициях, решаются, очевидно, великие события…
Идет страшный бой к западу и юго-западу от линии Августов – Сувалки. Вчера мы с кн[язем] Куракиным уже сговорились о размещении наших врачебных учреждений. Не лучше ли было бы для боевого дела, ч[то] б[ы] Красный Крест работал, по крайней мере, хоть лишь в тылу, а не в войсковом районе, где он является помехой и обузой, отвлекая на себя слишком много внимания строевого начальства, к[ото] рое прямо-таки боится не устроить поудобнее его лучшие отряды и лазареты (изволь-ка не угодить хоть тому же Пуришкевичу[311], стоящему во главе целой группы лечебных заведений, к[ото] рый чуть что – и жалобу в Петербург!..); бывает так, что скорее пропустят поезд с ранеными Красн[ого] Креста, а задержат солдат, к[ото] рые должны скорее бы следовать на пополнение…
Единственная возможность узнать о всяких совершающихся у нас операциях в армии – это за обедом и ужином, когда все бывают свободны и сам командующий армией вкупе с начальн[иком] штаба, генерал-квартирмейстером, дежурным генералом и др. непринужденно беседует о том – о сем, но при общем гомоне и привычке командующего тихо говорить я, сидя от него четвертым по порядку, ничего не могу расслышать. Мешает мне и японец, садящийся обычно около меня и старающийся меня на полупонятном для меня коверканном русском языке развлекать!..
Всплыл опять вопрос о бросающемся в глаза сравнительно большом количестве легко раненых в левые руки и нижние конечности. Интересно посчитать цифру умышленных саморанений, но сделать это теперь даже с приблизительной точностью пока невозможно.
14 октября. Погода туманная, хмурая. Что-то я стал заметно глохнуть, пустеть головой и душой. Совсем лишился памяти, а она так мне нужна теперь! Спасибо молодому коллеге Ларину – он является для меня надежной памятной книжкой. В 10-ю армию включено столько новых частей, что она численностью доходит теперь до полумиллиона, и санитарное состояние ее – на моей ответственности. К западу от Августова дерутся во всю мочь, германцы настойчиво тщатся прорваться между 22-м и 26-м корпусами – в самом их стыке; послано подкрепление; завтра будет там и наша тяжелая артиллерия.
За ужином узнали, что пришла телеграмма из штаба главнокомандую[щего] об успешных наших действиях по линии Зволень[312] – Новая Александрия[313]; взято в плен 50 офицеров и около 3 тысяч нижних чинов, кроме того – несколько пушек и пулеметов. Не наступил ли передкритический стадий решения общеевропейского вопроса? События назревают. Пошли, Господи, им скорее совершиться! Продолжаться долго война, мне кажется, не может: мы все, от высших чинов, кончая тем более – низшими, прямо-таки переутомлены и физически, [и] психически! А впереди еще… призраки всевозможных эпидемий! И виноватыми в них, конечно, окажутся одни лишь врачи!!
Приказом по армии № 70 от 13 октября объявляется, что занимаемые ныне войсками армии укрепленные позиции являются предельными, далее к[ото] рых отход войск не может быть допущен, потому позиции д[олжны] б[ыть] обороняемы с крайним упорством и удерживаемы за нами во что бы то ни стало; указывается, кроме того, что оставление окопа или другого укрепления его защитниками может быть только после штыковой свалки с превосходными силами противника; оставление же укреплений только под действием его ружейного и артиллер[ийского] огня признается недопустимым. Далее обращается в этом приказе внимание на преувеличенность заявлений касательно губительности огня тяжелой артиллерии противника (речь идет о так наз[ываемых] «чемоданах»!), – заявлений, ведущих к неосновательным выводам и вносящих крайне вредную нервность. Производя-де чрезвычайно сильное впечатление гулом разрыва, снаряды тяжелой артиллерии по малой меткости ее не причиняют материального ущерба даже в той мере, как полевая артиллерия. В заключение приказа говорится, что «вполне оценивая то моральное впечатление, к[ото] рое производит стрельба тяжелой артиллерии, я принимаю меры к наискорейшему обеспечению тяжелой артиллерией войск армии…»
15 октября. Преотвратительная слякотная погода. С 4 часов утра на позиции выехал командующий, не возвратившись еще к ужину[314]. A propos: нас кормят превосходно, с хронометрической точностью – в 1 час дня обед и в 8 час[ов] вечера ужин. Заведует столовой прапорщик запаса Шеншин под кличкой «Завтра – вице-губернатор». В отношении помещения и продовольствия после того, что я испытал в штабе 25-го корпуса, для меня теперь рай. Тем не менее, по привычке я уже инстинктивно продолжаю все остающиеся корочки и крошки белого хлеба собирать и копить про черный день, но не выбрасывать. Посмотрел бы на меня теперь кто-либо из мирных граждан – счел бы за сумасшедшего Плюшкина.
Дивизион[ный] врач 8-й Сибирск[ой] дивизии Михалевич отрешен от должности за письмо к своей жене, где имел глупую неосторожность критиковать действия наших военачальников и восхищаться действиями германцев, этих поистине каких-то во плоти дьяволов, так упорно и искусно сражающихся. Прискорбно при этом, что и германская наука «нахлобучила на лоб каску прусского фельдфебеля и ушла в казармы», а германское искусство «взяло в руки винтовку и стало стрелять по «вражеским» художникам и писателям»!! А мы? Разве с целью сокрушить тяготеющее над Европой иго германского милитаризма сами не милитаризуемся?!
Командующий уехал на позиции в большом колебании перед задачей: переходить ли ему в наступление, когда ему предписано строго удерживать занимаемые позиции, переход же в наступление связан с риском в случае неудачи потерять позиции. Продолжаю на войне ужасно много курить, да и все здесь курильщики стали в десять раз больше курить, чем в мирное время.
16 октября. Хорошая погода, ветрено и морозно. У Сувалок идет ужасающий бой[315]; командующ[ий] армией не возвращался оттуда до сего времени, а уж 9 час[ов] вечера. Слышится весь день глухая пальба. Дергают меня во все стороны. Маневрирую распределением и передвижением санитарных транспортов и полевых госпиталей. Представители Красн[ого] Креста вносят лишь одну сумятицу, вон из кожи лезут, ч[то] б[ы] только показать свою неусыпную деятельность, докладами строев[ому] начальству о «скоплении раненых», смущая его более, чем как[им]-либо жупелом. Князь Куракин (а он один еще из лучших) сегодня козырял, как он за недостатком медицинск[ого] персонала сам хлороформировал раненых при операции. На переднем плане у всех этих благотворителей – только «я, я», да «мы, мы». Чтобы внести хоть нек[ото] рый порядок в работу, сделал распоряжение о распределении времени для докладов мне по делопроизводствам – госпитальному, врачебно-гигиеническому, эвакуационному, бухгалтерскому, секретарскому; спешные же доклады делаются во всякое время. Часа 2 я сегодня имел терпение выслушать объяснения бухгалтера о кредитных операциях; признаюсь, очень мало понял.
17 октября. Светлый день, мороз. Щемит сердце при одном представлении, как только наши солдатики теперь себя чувствуют на позициях в подбитой ветром рвани, в изношенной обуви, голодные… В 20-м, 3-м, 22-м, 26-м, 3-м Сибир[ском] и 2-м Кавказс[ком] корпусах идут горячие бои. Командующий армией с генер[ал]-квартирмейст[ером] Будбергом еще не возвращались из Августова. С раннего утра – первые телеграммы от командующего, что большие скопления раненых в Августове и Сувалках, получены также телеграммы от крепостного врача Гродно и корпусного врача 20-го корпуса, что больные накопились и требуют скорейшего вывоза по железн[ой] дороге. Взволновался этим обстоятельством начальник штаба; успокоил его, что все зависящее от меня сделаю. На мою телеграмму во фронт начальнику санит[арной] части о необходимости скорейшего вывоза тифозных больных с главных пунктов последовал ответ, что поезд будет выслан для их подъема, когда будут изготовлены специальные вагоны!! Хаос, хаос, во всем хаос! Задаешь себе вопрос, что лучше при таких условиях: спокойное ли бездействие в моем положении, или же – действие, к[ото] рое являлось бы лишь надбавкой к общей сумятице, к общей первой настроенности… Хотел было ехать в Сувалки, но… для меня не было свободного автомобиля, к[ото] рым так легко пользуются г-да офицеры и даже их дамы! Хотя нужно отдать справедливость, что этот штаб сравнительно с другими отличается порядочностью взаимных отношений между служащими.
За расформированием штаба 1-й армии понаехали к нам излишествующие чины из этой армии, из них один полковник, рекомендующийся бывшим протеже Самсонова и Флуга[316] и состоявший до последнего времени каким-то «командиром нестроевой роты обозного батальона», не без поддержки, по-видимому, и со стороны начальника штаба к[а] к бывшего сослуживца в Туркестанск[ом] крае. Этот полковничек моншерского типа серьезно, я вижу, мечтает быть назначенным не более и не менее как… начальником санитарного отдела штаба нашей армии, а я, заслуженный врач-генерал, буду его тогда помощником!! Это ли не верх цинизма?! Цинизма, к[ото] рый проделывают над нами, врачами, хозяева теперешнего положения г-да военные начальники. Только любя свою родину я не желал бы, ч[то] б[ы] нас поколотили пруссаки, но от всей души радовался бы, если можно было бы им прежестоко вздуть наших военачальников с камарильей, этих истинных, развращенных до мозга костей революционеров, понимающих интересы России только с узкой личной точки зрения дойной коровы, и создающих не людей для места, а наоборот – создающих и приспосабливающих места для людей. «Мой принцип, – говорил сегодня один генерал, – ни копейки никогда не дарить казне!» Слышал их же отзывы о Ренненкампфе как о штукмейстере и хапуне. Но мало ли таких, как этот полководец, с той же идеологией делать все только для удовлетворения своих утробных интересов?
Яростные атаки германцев нами отражаются; навалены горы тел. Сиверс не решается еще перейти в наступление. Передают, будто турки на днях бомбардировали наши нек[ото] рые черноморские города. Начинается всемирная война, обещающая, как полагают мои превосходительные соседи по обеденному столу, затянуться надолго. «А хватит ли надолго у нас запаса снарядов?» – спросил прямодушно генерал Янов[317]. Оказывается – не хватит.
Рузского, нашего главнокоманд[ующ] его, все хвалят; ценят особенно его спокойствие, к[ото] рое уже на 90 %, по признанию наших генералов, обеспечивает успех дела. По газетам видно, что народилось у нас новое центральное учреждение – Всероссийский комитет по оказанию помощи беженцам. Растет наша общественность; Бог даст, война и потом благоприятно отразится на строительстве земли русской… Накануне, может быть, того, когда «смертию смерть поправ», мы «мертвые воскреснем»!
18 октября. Наступили холода. Как-то Господь помогает нашему «серому» выносить все атмосферич[еские] невзгоды и всякие лишения? Ч[то] б[ы] начальствующие лица знали, чего можно ожидать и чего вправе они от нас, врачей, требовать в деле охранения здоровья войск, написал рапорт начальнику штаба. В действиях наших распорядителей так много импульсивности и судорожности, и мало спокойной обдуманности и предусмотрительности; суетятся теперь, что перестают стрелять пушки от недостатка какого-то «веретенного» масла, а гаубицы – от испортившихся пружин. Рассчитывают, что снарядов хватит лишь на два дня[318]; противник же наш продолжает производить на нас яростные атаки. Войска жалуются на недостаток сена, лошадей нечем кормить. Противно читать в газетах сообщения, что-де у неприятелей наших угнетение духа, голод, эпидемические болезни и прочие пакости, о наших же язвах – ни слова, существует лишь во всем одно великолепие!
Все больше и больше начинают одолевать телеграммами о накоплении раненых и больных в Августове и Сувалках вследствие недостаточной их эвакуации, особенно же в Сувалках (до 6 тысяч чел[овек]!). Вижу, что независимо от посланных мной по означенной злобе телеграмм во все части света, надо будет проехать самому, воочию удостовериться, как идет эвакуация. В 2 часа пополудни выехал на автомобиле прямо на Сувалки – штаб-квартиру 2-го Кавк[азского] корпуса, к[ото] рым командует Мищенко. В Августове пока решил не останавливаться, а проехать через него безостановочно до Ольшанки[319], где расположился 22-й корпус. Переговоривши с Азаревичем – корпусным врачом этого корпуса – о чем нужно, продолжил путь по превосходному шоссе в Сувалки, куда прибыл уже при огнях. Зашел в штаб. Познакомился с Мищенко; впечатление произвел на меня обаятельное: благодушный, прямой, простой безо всякой рисовки и спеси старик (несколько оглохший) – настоящий солдат, любящий его и прекрасно относящийся к врачам. Штаб его – это сплоченная тесно родная семья. Усадили меня ужинать, усердно угощали, особенно сам Мищенко, посадивши меня одесную себя. От корпусн[ого] врача Гопадзе[320] к удивлению своему узнал, что никакого главного эвакуационного пункта в Сувалках нет, нет и руководящего лица, к[ото] рое бы ведало и регулировало распределение и движение раненых и б[ольн] ых. Хотя Мищенко настоятельно предлагал мне расположиться спать у него в кабинете, но я предпочел устроиться вместе с Гопадзе.
19 октября. Погода сухая, но холодная. Буханье из пушек. Позиции от Сувалок каких-н[и] б[удь] 6 верст. В городе – картина мирной жизни, как будто никто и не чувствует своего положения на вулкане. Уже был случай грозившего прорывом натиска пруссаков, когда сам Мищенко ночью стал будить всех, ч[то] б[ы] складывались, но скоро же тревогу свою отменил. А человек он очень покойный!
Чуть свет встал, и после чая с почтеннейшим д[октор] ом Гопадзе отправились на автомобиле в объезд войсковых и армейских, а также краснокрестских заведений. К ужасу моему слухи, к[ото] рые я ситал сплетнями профанов, оправдались – на Сувалках не было и нет главного эвакуационного пункта, а он все время регистрировался под № 8 с входящими в состав его госпитал[ями] №№ 317 и 319; отсюда – весь кавардак в деле эвакуации, не было дирижера, к[ото] рый бы объединял деятельность госпиталей; но госпиталей №№ 317, 319, а равно и №№ 373, 379, 380 – нет и неизвестно где они обретаются; командует ими Рейнбот, к[ото] рому я сто раз телеграфировал; в его управлении до последнего времени смешивали названия «подвижной» и «запасной», и получалась кутерьма.
Осматривал госпиталя, зачисленные в армии №№ 347, 382, 333, 504 и 505; главные врачи №№ 504 и 482 (Дамаскин и Габуния) – достойны предания суду за их нерадение к святому делу, особенно первый из них… Заявлены мне жалобы раненых и больных… Обо всем виденном буду писать донесение. На первых же порах послал телеграмму, гласящую: «Лично убедился необычайном переполнении Сувалках всех лечебных заведений ранены[ми] и больными, число к[ото] рых превышает 5000 чел[овек]. Вопиющая необходимость в скорейшей доставке санитарных поездов для эвакуации. К удивлению моему никакого главного эвакуац[ионного] пункта здесь не было и нет. Принял меры к временному его учреждению из наличных госпиталей… и одного старшего из главн[ых] врачей за начальника под общим руководством корпусн[ого] врача Гопадзе». Созвал экстренное собрание из главных врачей и представителей Красн[ого] Креста, коим высказал мои директивы. На собрании увиделся с профессор[ом] А. В. Мартыновым[321].
Около 2 часов засел обедать в симпатичном штабе 2-го корпуса. Мищенко как папаша… откуда-то раздобыл шампанского. Произнес он сначала тост за новопредставленных георгиевцев; в их числе был нижний чин, с к[ото] рым безо всякой деланной тенденции на эффект, а запросто, задушевно, по привычке стоять близко к «серой скотинке», Мищенко чокнулся, а за ним потянулись и все офицеры; было так трогательно и умилительно. Затем Мищенко с такой же искренностью провозгласил тост и за нас, врачей, и за всех, призванных облегчать страдания раненых и больных воинов. За столом Мищенко рассказал, как он встретился с одним нестроевым солдатиком и спросил его, кто у него корпусной командир, и когда тот не мог ему на это ответить, то добродушный старик подсказал ему, что не знает ли он Мищенко; на это не задумавшись быстро солдатик отвечал, что-де очень хорошо знает Мищенко в японскую кампанию, а теперь – нет.
Не успели докончить обед, как доложили, что приехал Трепов[322] и приглашает меня сейчас же к нему приехать на вокзал; помчался в автомобиле. Увиделся с Р. Р. Вреденом[323], к[ото] рый сопутствует Трепову; последний хотел было перейти на меня в наступление за царящие здесь беспорядки по эвакуации, но был сразу обезоружен моим исполненным сознания достоинства докладом, из к[ото] рого мог видеть, что все из замеченного им мной уже ранее было констатиров[ано] и приняты чрезвычайные меры к устранению безобразия. Импонирующим образом подействовала на него уже отправленная мной Рейнботу вышеприведенная телеграмма. Расстались с ним по-хорошему.
Под редкое буханье пушек выехал около 4 часов из Сувалок и прибыл часам к 7 в свою святую обитель, сильно продрогши. Так устал, что не пошел и ужинать. Завтра буду делать подробный доклад командующему, предстоит много писать; накопилась за мое отсутствие целая кипа телеграмм и всяких бумаг. Интересная получена от бывшего арестанта Рейнбота ко мне телеграмма по поводу подробного моего донесения о результате осмотра несколько дней тому назад лечебных заведений в Августове; вот текст ее: «Госпиталь № 132 будет заменен, прошу донести основании каких положений вы инспектировали госпиталя пункта. Рейнбот, 7965». Отвечу на нее, немного подумавши, ч[то] б[ы] было и мягко, и вразумительно.
В яростных атаках немцев у Бакаларжево[324], к[ото] рые они ведут с удивительной настойчивостью, говорят, наколочена масса тел целыми горами, за к[ото] рыми неприятели как за бруствером прячутся и мешают нам еще больше их набить. Среди трупов вперемежку с ними навалено неисчислимое количество стонущих раненых[325]. Во многих участках на нашем фронте наши войска разделяются от немецких как[ой]-н[и] б[удь] полосой в 200–300 шагов.
20 октября. Сухо, ветрено и холодно. Я немного простудился от вчерашней поездки – потерял аппетит, болит голова и потягивает. Но только что я успел напиться утреннего чаю, меня потребовали в квартирмейстерскую: едет главнокомандующий (Рузский)! В ожидании его успел доложить своему начальству о результатах моей поездки в Сувалки. Высказал уверенность я, что дня через два все б[ольн] ые и раненые успеют быть эвакуированы, порукой тому – вмешательство Трепова. После часового ожидания наконец приехал Рузский – наш первый и единственный пока «герой» за эту кампанию; человек сухопарый, серьезным видом, спокойствием и деловитостью произвел на меня и всех очень хорошее впечатление; не чета, говорят шепотком промеж себя, бывшему главноком[андующем] у – аферисту Жилинскому! С Рузским приехал между прочей свитой и великий князь Андрей Владимирович[326]. Поздоровался с нами и тотчас же ушел с командующим и начальником штаба на совещание в отдельную комнату, оставивши нас опять в положении ожидающих: может быть, потребуется кто-ниб[удь] из нас, заведующих отделами. Письменных же дел накопилась у меня целая уйма; пропало мое утро, к[ото] рое я рассчитывал посвятить на их разборку и исполнение; прождал до самого обеда – говорили, что трапезу разделит с нами и Рузский, но в последний момент окончания совещания он от обеда уклонился и уехал.
Засели за обед, Сиверс торопился поесть, ч[то] б[ы] поскорее выехать на Августов; зачем приезжал Рузский? По истолкованию Одишелидзе – побудить командующего нашего к наступлению; но Сиверс очень и очень колеблется и не решается; его смущает риск положить десятки тысяч людей – и безо всякого успеха; подбивает к наступлению начальник штаба. Сиверс указывает на Ренненкампфа, у которого совесть не заговорила бы положить ни за понюшку табаку и сотню тысяч людей. Справлялся командующий у меня, обеспечены ли у меня госпиталя перевязочным материалом и личным персоналом, а раньше того уже подробно было ему доложено о состоянии запасов патронов и снарядов для ружей и пушек; получается одна грусть: их так у нас теперь мало, и я вполне понимаю нерешительность командующего затевать наступление…
О штабе Ренненкампфа прямо говорят как о банде разбойников и аферистов. 1-я армия, бывшая у него за последнее время под командой, влилась в нашу; но даны были ему несколько корпусов из Наревской группы, составившие теперь 1-ю новую армию. Очень критически и осудительно относятся про прошумевшее в августе наступление Ренненкампфа до Кёнигсберга, откуда армия так позорно вернулась вспять. Гибель же 2-й армии Самсонова (13-й и 15-й корпуса коей были совсем изничтожены) до сего времени еще дает чувствовать и отзывается на нашем стратегич[еском] положении. Оказывается, Самсонов был буквально брошен на произвол судьбы бежавшим его штабом!
В первый раз в жизни испытал отвратительн[ое] чувство администрат[ивного] человека, подписавшего как бы смертный приговор: телеграфировал куда следует, что мной удален от должности главный врач 504-го госпиталя Дамаскин за нерадивое отношение к б[ольн] ым и раненым.
21 октября. Холодно. Каким-то неестественным, но живописным контрастом с увяданием окружающей природы зеленеет изумрудный ковер травы-тимофеевки на дворе монастыря. Святая обитель нас сильно эксплуатирует, беря за все продукты вздутые цены.
Послал донесение Рейнботу на его телеграфное требование, почему я позволил себе якобы инспектировать эвакуационный пункт в Августове; вот текст донесения от 21 октября за № 428: «по предписанию… в первых строках моего рапорта от 10 октября № 2072 было упомянуто, что я посетил под Августовом эвакуац[ионный] пункт для осмотра б[ольн] ых и раненых, т[а] к к[а] к забота о санитарном благосостоянии частей армии и установление подачи помощи б[ольн] ым и раненым и их призрения входит в круг важнейших моих обязанностей. Что же касается отмеченных мной в рапорте нек[ото] рых недостатков эвак[уационного] пункта, то я счел долгом службы об этом донести в-ству, хорошо памятуя наказ Его Императорского Величества ныне здравствующего Государя Императора (разумеем известную Ходынскую катастрофу!), ч[то] б[ы] не только все ведомства, но и части их управлений в своей деятельности не обособлялись, а всячески старались бы друг другу помогать и содействовать на пользу общего государева дела. В доказательство того, что мое посещение пункта не носило характера инспекции, говорят последние строки моего рапорта, что об устранении санитарных недостатков я заведующего сборным эвакуац[ионным] пунктом просил, а не предлагал или предписывал ему» (sic!) Вот изволь-ка, укуси теперь меня!
В приказе по штабу армии и его отделам цитируется: «…Не подлежит оглашению. Приказ главнокоманд[ующ] его армиями Сев[еро]-Зап[адного] фронта № 104 от 7 октября 1914 г. …Разрешаю для нижних чинов, состоящих хлебопеками и кашеварами, увеличить на время военных действий отпуск мыла до 1 фунта на человека в месяц». О, Россия ты моя матушка!..
Возвратился из Августова Сиверс, а с ним и Будберг – лица повеселевшие: пруссаки по всему нашему фронту отступают, хотя и не под напором наших корпусов, а по своей доброй воле; предполагается поэтому наше движение вперед, но ничего в наших действиях не замечается громкого, эффектного, все как-то происходит вяло и скучно. Лык все в руках неприятеля[327]. Появилось много бродячих солдат, для наведения порядка командируется генерал для поручений. В разговоре о Мищенко мне советовали очень-то его не расхваливать, так как его здесь в штабе очень не любят!! Это видно из всего. Но если он не пользуется расположением к себе верхов, зато он чрезвычайно любим низами. С объявлением войны Турции, а с ней в скором времени, вероятно, Болгарии и Румынии, наступит, кажется, светопреставление. Мои предвидения оправдались: прибывший из 1-й армии пижон, «командир нестроев[ой] роты обозного батальона», прочится начальником штаба в начальники санитарного отдела, и я буду состоять его помощником.
В возглавлении военной медицины, да еще в военное время, лицами офицерского звания есть как будто чуточку и целесообразного: орефлектированный склад мышления врача сочетается с одогматизированной волей военного человека!
Получил сегодня от дорогой моей Лялечки письмо, в котором она меня «целует изо всех сил». Как и всегда, и это письмо от нее обильно было мною залито горючими слезами.
22 октября. Немного потеплело; туман. Сегодня – Казанская; пока шла обедня в монастыре, я раз десять забегал туда между делами послушать.
Приходил уволенный мной от должности д-р Дамаскин, туго слышащий, умолял меня оставить его на этой должности. Мне стало его так жаль, и я обещал ходатайствовать за него.
К провокационным назначениям на неподобающие места разных пижонов я внушаю себе относиться с философским спокойствием. Момент не такой, ч[то] б[ы] ревниво отстаивать свои личные прерогативы; надо посильно каждому из нас тушить пожар, объявший пламенем всю матушку Россию… Зато уж мы потом серьезно посчитаемся со всей этой революционной рейнботовщиной и треповщиной[328]…
Немцы продолжают отступать к западу[329]. Большая для нас работа: захоронение массы трупов. Уже и строевые начальники обращают внимание на большое количество легкораненых в левые руки (в пальцы и кисти их). В штабе единогласно высказывается мнение, что великое было бы благо для армии, если бы Ренненкампф хотя бы был взят в плен!..
23 октября. Потонул совсем в текущих делах; некогда было даже прочитать к[а] к следует от Коли[330], Сережи и Рубцова откровенные письма, привезенные мне из Петерб[ург] а возвратившимся оттуда командированным врачом Щадриным. Никак не могут понять мои братья, что невыносимо тяжелым бременем для меня здесь являются не трудности боевой жизни, а провокационно-революционная деятельность по отношению к врачам[331] хозяев теперешнего положения – развращенной до мозга костей нашей правящей бюрократии, и в войне-то видящей лишь одну цель удовлетворения своих узкоутробных хищнических вожделений; вот уж правильно, что война людям мор, а собакам корм.
24 октября. Мороз; поля покрылись инеем. Светлое бирюзовое небо. Лык, оставленный немцами, нами занят. Квартирмейстерская часть вчера выехала совсем в Августов, куда на днях переходят и проч[ие] отделы штаба.
25 октября. Ночь волшебная, звездная и лунная; неописуемо-красивым в отсвете небесных лампад таинственно-молчаливо смотрит[ся] монастырь. Мне не спится, но не от тяги к небесному, а от охватившей меня злобы ко всему земному, к[ото] рую не могу рассеять и дивной природой. «Кому повем тоску мою?» То неестественное положение, в к[ото] рое я теперь поставлен службой, имея над собой непосредственного начальника по моей специальности – вчерашнего «командира нестроевой роты» – заставляет меня глубоко страдать; опускаются руки к долу, хочется на все наплевать, взять, да и уехать из этой бездны человеческой пакостной свистопляски. Война?! Только для солдат она является актом самоотвержения и самоотречения (хотя бы и вынужденного), для остальных же, особенно же наверху стоящих, она – только средство и цель для того, ч[то] б[ы] сорвать себе лично побольше, да повыгоднее пристроить к ней своих ближних, алкающих «жареного». Всемерно внушаю себе мужаться и терпеть; не вечно же должен длиться этот кошмар человеческой низости; наступит же и рассвет новой жизни, когда к обидчикам нашим предъявим счет и притянем их к барьеру: «тогда считать мы станем раны – товарищей считать». Я ничего бы, пожалуй, не имел против существующей санитарной организации, но тогда следовало бы еще в мирное время приготовить к ней подходящих людей, а не ставить в такое шокирующее положение нас, корпусных врачей, при штабах армий.
Ведренный день; восхитительная погода, а на душе скверно-прескверно; от чувства внутренней обиды не нахожу места, ничем его не могу разрядить. В Августов сегодня переехал этапно-хозяйственный отдел, завтра переедет отдел дежурного генерала; останемся здесь на неопределенное время лишь мы – санитарный отдел, почта да казначейство. Публика редеет. Столовая, где так прекрасно кормили, уехала с командующим; остаемся мы предоставленными самим себе в отношении довольствия и нек[ото] рых других удобств. Монашенки ждут – не дождутся, когда и мы уедем. Орудийной симфонии не слышно уже несколько дней.
26 октября. Сегодня в Августов выступает полностью и наш санитарный отдел; вещи погружены в обоз, а сами выехали на автомобилях. Прощай, тихий, покойный уют монастыря, где я несколько поотдохнул и телесно, и морально; неизвестно, долго ли простоим в Августове, по квартирам условия там прескверные.
Приехали в город около полудня, заняли препоганое ветхое здание – деревянный флигель с выбитыми окнами, загрязненный до невероятности, масса валяющегося окровавленного белья. В довершение – масса крыс и мышей. Когда протопили помещение – ожили мириады мух. Вода в городе – неважная; жительствуют преимуществ[енно] евреи; ни в одном доме нет удобств по части клозетов: надо ходить через двор на открытый воздух.
В штабе узнал, что под Вержболовым[332] второй день идут бои, участвуют наши 3-й и 20-й корпуса; немцев налегло на нас до 2 корпусов; с правого фланга какая-то наша дивизия отступила. Хочу завтра съездить к местам боя, хотя далеко: придется в автомобиле совершить в один конец до 100 верст. А он меня так разбивает ужасно.
Если дела наши с неприятелем пойдут хорошо, то стоять в Августове долго не придется – штаб наш скоро передвинется, если же в делах произойдет заминка, то простоим неопределенное время, и тогда надо постараться найти поудобнее помещение, а то сейчас разместились как в ночлежке, по нескольку человек в комнате. С моим начальником санитарн[ого] отдела полковником Завитневичем[333] у меня произошел сегодня первый конфликт – я его решительно оборвал в его окрике на моего коллегу Щадрина; этот помпадур от неожиданности моего наступления сразу съежился. Объяснялся с начальн[иком] штаба по этому, предрекши ему, что ничего доброго для дела от нашего симбиоза с этим поганцем ожидать в будущем нельзя, и я-де подумаю, какой избрать выход из неестественно сложившегося положения – работать врачом под командой этого экс-пристава.
Ночь провел беспокойно – крысы и мыши чуть не заползали под одеяло.
27 октября. Погода захмурилась, но и потеплело. Сильный туман, сплошная кругом загаженность и вонь. Город обратился в какую-то зловонную клоаку; антисанитария классическая! Тем не менее, после монастырской тихой жизни приятно видеть хотя и грязный, но город.
Истосковался я по миру, по своим ребятам. Все более и более отвратительной становится мне рожа полковника, поставленного во главе санитарной части армии!! С особенным удовольствием поеду завтра в Ломжу[334], хотя и по случаю развивающегося в войсках сыпного тифа, но зато эти 2–3 дня моей поездки не буду я видеть упомянутого сына Марса, коему уместнее бы было быть в строю с мечом в руках, да и вообще поотдохну от всей этой писанины, к[ото] рой губится живое дело.
Получил сегодня я полевую записку Рейнбота при сем прилагаемую, полную полицейской придирчивости, начинающуюся: «Предлагаю донести, на каком праве Вы позволили…»[335] и пр.
28 октября. Осенний мелкий дождичек, туман. В 10 утра выехал с капитаном Боголюбовым на автомобиле через Райгород[336] – Граево – Щучин[337] – Стависки[338]; расстояние около 90 верст по прекрасному шоссе прокатили в течение 4 часов, из них почти час употребили на обмен лопнувшей шины на свежую. Вчера еще с вечера мне занедужилось – поднялся сильный кашель, прибег к обычному купирующему средству – принял в два приема около 30 гран Dr. Alp-овых порошков; до сих пор еще голова от них одурманенная. Еле-еле пересилил себя отправиться в Ломжу, где мне сегодня необходимо быть по случаю появившегося сыпного тифа в войсках. Страшно меня разбивает езда на автомобиле; еле-еле добрались, так как не взяли «пропуска» и при выезде из Стависок и въезде в Ломжу нас часовой поэтому не пропускал. С трудом разузнали пароль – «Медоль».
Ломжа – городок маленький, чистенький; в руках немцев не бывший, но они доходили до него верст на 6–7. Остановились в гостинице «Рембелин». Очень проголодался, устал и озяб; поэтому сначала пообедали[339], а затем поотдохнули и, напившись чаю, отправились, прежде всего, в Красный Крест, поместившийся в огромном здании женской гимназии. Переговоривши с старш[им] врачом обо всем, касающемся заболевания сыпным тифом, очевидно, привезенного из Сибири, поехал к губернатору справиться, как у него по санитарной части в губернии; оказывается, что сыпной тиф попадается в деревне Вох и соседних, в районе расположения 15-й кав[алерийской] дивизии. От губернатора поехали к начальнику 6-й Сибирской дивизии фон Геннингсу[340], в одном из полков к[ото] рой имелись случаи заболевания сыпным тифом; побеседовали на злобу дня; старая песенка о нашей дезорганизованности, когда имеется, напр[имер], корпус, но без его органов, без казначейства, без прочих необход[имых] учреждений и без личного персонала; в армии отражается вся Россия – велика она и обильна, а порядка нет. Завтра выезжаю из Ломжи в месторасположение злополучного батальона и вообще всего 22-го Сибирского полка – на Бялы[341], на немецкую землю, куда путь пролегает через Щучин к СЗ через Хойно[342], Швандерн[343], Ролькен[344], в Козухино[345]; надо будет спросить бригадного генерала Быкова[346]. Фон Геннингс с радостью сообщил мне весть, что сегодня его частями занят Иоганисбург[347].
29 октября. Утром рано выехал на Щучин, откуда сделал заезд на Бялу. Дорога от Чарновек[348] вплоть до самой Бялы представляет прегрустную и никогда не забываемую по трагичности картину разрушения и разграбления селений, попрания грубой, дикой силой всего культурного, драгоценного для человека; в Бялы целой осталась одна только ратуша, в к[ото] рой поместился штаб отряда генерала Быкова; видны следы поспешного выселения нашего противника[349]. Не знаю, вынесу ли я до конца посланное мне испытание; кругом лишь зверство и цинизм. Поставление всяких завалящих полковников начальниками санитарн[ой] части армии я считаю положительно актом революционным.
Настроение солдат бодрое. Чувствуется, что поднялась вся матушка Русь. Пошли ей, Господи, победы и одоления, нашим же управителям-«псарям» – всех самых страшных на свете зол.
30 октября. Стоим все в том же Августове. Погода прегнусная; на душе отвратительно; болит голова, бьет сильный кашель, лихорадит. Когда придет ко мне теплое пальто и продам свой выезд помышляю эвакуироваться домой – изжил все свои силы и разбит, не в состоянии больше.
31 октября. Я совершенно никуда не годен; лишился способности думать, чувствовать, желать, чем-либо интересоваться. Переписка административ[ная] меня окончательно задавила – некогда прочитать приходящих писем от своих, газет.
Война! Для кого она священна? Для серой массы на позициях, но никак не для сверху стоящих, она для них – объект наживы, выгоды и личного интереса. Сегодня за обедом услышал высказанную полковн[иком] Генерал[ьного] штаба уверенность, что более полутора месяцев война не продлится. Почему? Я думаю, потому, что все мы к тому времени дойдем до полного истощения нервных сил и обратимся в живые трупы.
Получена тревожная телеграмма о появившемся случае сыпного тифа еще в 24-м Сибирск[ом] полку. Беда! Помилуй Бог, если вспыхнет эпидемия, и кто будет виновником? Конечно – одни лишь врачи! Раз во главе санитарной части армии находят подходящим назначение всякой строевой завали, то пусть бы вся профилактическая медицина вместе с эвакуационной частью на войне была бы на полной ответственности лишь строевых начальников, а на ответственности врачей следовало бы оставить лишь одну лечебную медицину!
Ноябрь
1 ноября. Хмурая, мокрая осенняя погода. На мою отповедь Рейнботу от 20 октября при рапорте за № 428 этот арестант ответил мне знаменательной по содержанию бумагой (копию к[ото] рой при сем прилагаю) от 28 окт[ября] за № 9816: «Для посещения госпиталей, Вам не подчиненных, приказываю испрашивать предварительно мое разрешение»[350] (sic!). О, привел бы меня Господь посчитаться со всей этой сволочью после войны! Прилагаю и еще копию с его полевой записки, адресованной мне, от 23 окт[ября] № 124 «Предлагаю донести, на каком праве, etc.» Этот сукин сын подозревает меня, очевидно, во властолюбии, в чем я ни на каплю не грешен; действовал же я на основании его же телеграммы от 14 окт[ября] № 7684; вот ее текст: «Главный начальник снабжения приказал уведомить Вас, что головным пунктам дается лишь направление, о самом же месте остановки необходимо указание войсковых штабов; причем весьма желательна беспрерывная связь этих штабов с гол[овными] пунктами. Рейнбот». Ради этой беспрерывности в связи я и просил начальников пунктов ежедневно телеграфировать мне о движении б[ольн] ых и раненых, сообразуясь с коим я и рассчитывал, между прочим, маневрировать передвижением этих пунктов. Итак, применены были «меры пресечения»[351]; в результате чего я не осведомлен был о времени прибытия головн[ого] пункта из Пунска[352] в Сувалки; и вот следует телеграмма от этого же полицейского от 23 окт[ября] № 131 – «несмотря на мое указание иметь связь с головным пунктом Вы не донесли, что начальник Пунск не прибывал в Сувалки до вчерашнего дня…» Так расходуются живые силы на бумажное пререкательство…
За обедом сегодня был генерал-адъютант Максимович[353], передававший, что Самсонов жив и в плену у немцев.
Столпотворение вавилонское у нас всюду идет crescendo[354]: за переутомлением всех идет ужасная путаница в телеграфных сношениях, в бумагах; невообразимая перегруженность писаниной; по нескольку раз следуют одно отменяющее другое предписания касательно форм составления наградных списков и проч. Многие части и учреждения за отсутствием правильных сношений до сего времени пребывают как в темном лесу, не зная, какие вышли новые положения, приказы, циркуляры; мне многие из врачей адресуют «полевому инспектору»… Красный Крест на войне устроил себе настоящий спорт в погоне за всем эффектным[355] и чураясь, поднимая гвалт, если попадут к нему несколько человек б[ольн] ых тифом, сифилитиков и т. п., сваливая всю черную работу на воен[но]-лечебн[ые] зав[еден]ия. Представители его всюду имеют доступ и мутят верхи, восстанавливая и натравливая их на бедную военную медицину!
2 ноября. После обеда выехал в Марграбово (Олецко[356]) оперативный отдел штаба; с завтра начнут туда перебираться и прочие отделы. Вступаем на немецкую землю, вследствие оставления ее коренными жителями представляющую полную пустыню; жизнь там нам предстоит тяжелая. Я лично завтра отправляюсь через Сувалки на Симно[357] для осмотра 112-го полев[ого] госпиталя, а по пути и других, после чего только двинусь на соединение со штабом в Марграбово.
Все мы прогрессивно обалдеваем от хронической сверхсильной суеты и дерганья. Внедряясь в немецкую территорию, предчувствуешь – не готовят ли нам пруссаки мышеловку, ч[то] б[ы] истребить нас, как армию Самсонова?..
3 ноября. День погожий. До Сувалок решил ехать на лошадях, оставить их там при одном из госпиталей, а самому проехать дальше уже по железной дороге, ч[то] б[ы], возвратившись из своего санитарного турне, на своих же лошадках ехать в Марграбово, куда только еще проводится жел[езно] дорожн[ая] линия.
Остановился в госпит[але] № 339, где и заночевал. Пресимпатичный состав молодых врачей: лекаря Пумпяна, Лопот и Краузе со всей откровенностью свеженьких людей поделились со мной своими взглядами на текущее дело и критикой на сущестсвующ[ие] в воен[но]-санит[арном] ведомстве категории медикамент[ов] и инструментов, а также переизбыток писанины и формалистики в ущерб интересов обслуживаемого дела. Взбудоражила эта молодежь у меня зажившие было внутренние болячки, что становилось совестно именоваться военным врачом… Нельзя не признать преимуществ в организацион[ном] отношении по части снабжения всем необходимым, отвечающим современ[ным] требованиям науки, за Красным Крестом, наша же военная медицина еще сильно отражает на себе громоздкий бюрократизм…
4 ноября. Чуть свет отправились на желез[ную] дорогу; в 7 утра уже выехали на Симно; ехали по-черепашьи, долго задерживаясь на разъездах; около 12 дня был в госпит[але] № 312, расположен[ного] у станции в премерзких условиях местности и квартирного удобства. С отходом войск к западу – последнюю неделю больных и раненых стало прибывать мало; стоянка здесь для госпиталя делается никчемной; надо перевести!
Около 2-х дня на госпитальных лошадях поехал верст за 30 по шоссе на Лодзее[358], где стоит госпиталь № 316; приехал – уже темнело. Городишко еврейский, грязный. Госпиталь, как и первый, оказался в бездействии последние две недели. И его надо будет передвинуть.
И в Симно, и в Лодзее уверяли меня, что вчера после полудня была слышна сильная пальба в направлении к Вержболово, и будто бы прибывшие оттуда очевидцы передавали, что наши верст на 17 отступили. Если это верно, то для меня предстоит решить вопрос куда мне возвращаться с объезда – в Августов или Марграбово? Не задержится ли тогда наш санитарный отдел в Августове? Зачем тогда мне было ехать на лошадях до Сувалок??
5 ноября. Переночевавши в Лодзее, рано выехал обратно на Симно, ч[то] б[ы] оттуда отправиться на Сувалки. Всю дорогу моросил мелкий дождь, поля тонули в тумане, местами бороздились плугом мирный пейзан. Около полудня был в Симно, откуда, позавтракавши, отправились в товарном поезде на Сувалки, где ночью в вагоне и пробыли до рассвета.
6 ноября. Дождит и морозит. Приехал в госпит[аль] № 339 в Сувалках, где и остановился; осмотрел госпит[аль] № 504, «тифозный». Одна грусть; Боже мой, как плохо б[ольн] ым! Старший врач этого госпиталя тот, к[ото] рого я сместил было, а затем помиловал: он такой жалкий – глухой! От ужасного зрелища в означенном госпитале меня весь день душили слезы…
Был еще в госпитале № 397; мерзкое содержание б[ольн] ых, мерзкое отношение главного врача Лавриновича к коллегам; разбирательство их взаимных жалоб, а также сестер милосердия; полная противоположн[ость] не оставляющим желать ничего лучшего во взаимных отношениях, виденных мной в госпит[але] № 316 (Лодзее)…
При объезде госпиталей я, хотя и начальник, но сею всюду не террор, а только ласку. О, как бы я бежал, бежал отсюда, от всей окружающей подлости и хамства…
Виделся со старшим врачом транспорта № 10 приват-доцентом Кауфманом; рассказ его о поголовной пьянстве его команды в Гольдапе[359]…
7 ноября. Чесов в 9 утра выехал из гостеприимного госпиталя № 339 на Марграбово. Погода сухая; морозец. Ехал на своих серых по прекрасному шоссе; в 11 часов был уже в Рачках[360], откуда версты через 2 переехал и границу. Боже мой, какая потрясающая картина всеобщего разрушения; в селениях ни одной живой души; здания все исковерканы как после землетрясения. Около часу дня прибыл в Марграбово, бывшее, очевидно, до войны весьма благоустроенным местечком, а теперь… теперь представляющ[ее] все ту же надрывающую душу картину опустошения и разгрома; выбиты зеркальные стекла в магазинах, все в них переворочено, разбито, перековеркано; по улицам разбросаны зонты, манекены, шляпы, платки, битые бутыли, лампы, вазы, изорванные книги, ноты, картины, всякая утварь. Здания с пробитыми крышами и зияющими без рам и стекол окнами; водопроводные, электрическ[ие] осветительные и обогревательные сооружения в домах все приведены в негодность злобно-мстительной рукой удалившегося врага; жизнь, когда-то бившая ключом, здесь совершенно замерла; и как-то странно видеть, что среди всеобщего разрушения часы на костеле продолжают ходить и бить.
Наш отдел остановился около «Отеля Кронпринца» против костела. Внизу – разгромленный ресторан. Мне лично кое-как удалось устроиться в комнатке какого-то коммерсанта Фрица, бросившего здесь весь свой скарб и бежавшего. Размещаемся потеснее друг около друга, не разрознившись во избежание всяких внезапных нападений хитроумного врага. Находимся в гиблом районе Мазурских озер; для армии нашей поставлена очередная задача – взять Летцен[361].
Головные эвакуационные пункты: Вержболово, Сувалки, Лык, Граево и Остроленка. Из Симно и Лодзее госпиталя перетаскиваю в Филипово[362] и Марграбово… В Вильковишки[363] и Кибарты[364] уже продвинуты для 3-го армейского корпуса, действующего на правом фланге в направлении к Тильзиту[365].
8 ноября. Выпал снег, тоскливо потянуло на родину из этого омута вандализма, душа так и рвется в мир красоты, света, взаимной любви. Не могу, положительно, удержаться от слез при виде окружающей картины разрушения и расхищения; в шкафу сегодня нашел брошенные детские игрушки, ученические тетрадки, семейные фотографич[еские] карточки; жили, очевидно, здесь люди мирно, тихо, растили своих деток – и вот, все перековырнулось. Так грустно, так грустно, что, право, можно сойти с ума.
Солдатишки копошатся в разбросанном имуществе, но с опаской, как бы не попасться за мародерство – кто тянет женскую кофту или юбку на портянки, кто – почтовую бумагу, карандаши, перья и проч. Среди руин странно как-то слышать то там, то сям звуки роялей; это кто-н[и] б[удь] из офицеров наигрывает себе романсы… На двери против моей, рядом с нашим плакатом «Управление санитарного отдела», висит еще крепко прибитая мраморная дощечка с надписью «Zahn-Atelier. Hedwig Bolschke, Sprechstunden 9–5»[366].
От первых и достоверных источников стою далеко, из второстепенных же слышал, что где-то мы (под Варшавой?) по оплошности какого-то горе-полководца отступили на целый переход и дали немцам этим большие козыри в руки; из второсортных же источников одновременно слышал и другой слух, будто бы немцы целым корпусом нам капитулировали! Так треплешься день-деньской и ужасно устаешь, что не до серьезной проверки всяких слухов, к[ото] рыми перестаешь даже интересоваться.
Корпус Мищенко сегодня от нас передвигается по другому назначению.
9 ноября. Чудный зимний день с покрытыми белой пеленой полями, лишь без санного пути. Мороз около 8°R[367]. Солнышко и голубое небо еще больше заставляют тосковать по миру всего мира.
Прошла колонна солдат. Боже мой, что за картина: многие укутали свои головы цветными платками, кто укрылся коридорной дорожкой (половиком), идут озябшие, еле плетутся, постукивая ногой об ногу. Такой вид имеет наша надежда – защита родины! Мерзнут люди на позициях, мерзнут больные и раненые в транспортах. Теплой одеждой снабдят только к весне! А мы, правящие, сытно жрем, пьем и не зябнем!
Навестил нас проездом со своим корпусом сегодня почтеннейший корпусн[ой] врач 2-го Кавк[азского] корп[уса] Гопадзе. У него в корпусе убито четыре врача. Теперь корпус его следует на подкрепление по случаю произведенного немцами у нас грандиозного прорыва между 1-й и 2-й армиями под Варшавой; положение для последней – угрожающее. Никто толком не знает, исправлена ли уже наша промашка. Командующий нашей армией ходит весьма хмурым и задумчивым. Вели речь о мерах, необходимых для ограничения усиленного стремления офицеров эвакуироваться в тыл; говорили о назревшей потребности для этого учредить, как и в японскую войну, и «вышибательную» комиссию.
Несколько дней не получал никаких газетных сведений. Долго ли простоит наш штаб здесь в Марграбове? Вероятно – да, если не попрут нас назад или не устроят нам засады немцы; ведь здесь, в этих дефиле лесных и озерных, погребена в августе вся 2-я армия Самсонова! И теперь-то мы сидим по норам в неполной уверенности, что каверзами хитроумного противника вдруг да [не] взлетим на воздух.
Получил сегодня несколько писем, в числе них – от моей души Лялечки; хотя и пишет она мне все по-хорошему, но, как и всегда, пролил, читая ее письмо, горючие слезы. Мне так ее жаль, так жаль, что в аде войны нахожу хоть временное средство облегчения моих страданий по бесценной для меня дочери.
Получил и письмо из 25-го корпуса от моего адъютанта Новака, датированное 12 октября. Оказалось вскрытым военной цензурой. Так долго идут до нас письма, а чаще пропадают, что берет отчаяние. Ничего не придумал, как бы заполучить из 25-го корпуса присланные мне с Сараджевым необходимые вещи, коим суждено, вероятнее всего, пропасть.
Еще письмо от дивиз[ионного] врача Михалевича, изгнанного со службы за откровенные письма к жене…
10 ноября. Великолепный солнечный ясный день; мороз 5°R[368]. Наш санитарный отдел сегодня перебрался ближе к штабу с его прочими отделами, занявшими три больших здания, в коих помещался ранее какой-то большой немецкий начальник с административной своей частью; наш отдел с интендантством – в особом большом здании – рабочем доме, состоящем из многочисленных квартирок. Слава Богу, что отопление не центральное, а печное, а то первое во всех зданиях попорчено. Поселились у берега озера, так очаровательно отливающего в солнечном отблеске своей стальной рябью, кругом белоснежная равнина, на горизонте окаймляемая угрюмым темным лесом; возле – костел с кладбищем; так тихо на нем – хорошо; на крестах надписи: «Ruhe in Frieden[369]» или «Auf Widersehn[370]», стоят скамеечки, запорошенные снегом, посидел на одной из них в устремлении души «гор»… Около кладбища – огород, где еще осталась неубранной промерзшая капуста; среди огорода – прекрасной архитектуры трехэтажный павильон с центральны[м] отоплением, газовой плитой, ванной и проч. удобствами, но внутри весь погромленный – картина варварства потрясающая; хочется рыдать, рыдать; безутешное на всю жизнь по трагизму зрелище, способное и у черствого человека вызвать душевный перелом, ч[то] б[ы] навеки потерять в ней всякую радость и в чем-либо отраду. В квартирах, где разместились мы – тот же хаос, на окнах еще остались занавески, кое-где целые зеркала, кровати, разбросаны шпильки, щипцы для завивки, детские книги, по стенам висят еще изображения ангелов-хранителей, кресты с надписями «Der herr ist mein hicht»[371], еще особые какие-то плакаты с надписями «Morgenstunde hat Gold in munde», а тоже «Lobe den Herren – meine Seele»[372]. На всем лежат следы культуры, чистоты, аккуратности, света. От нашего дома начинается Schlosse Str[373]. Ни единой женской души; скопилось много грязного белья – не знаю, кому дать выстирать. Нет ни булочных, ни друг[их] магазинов – все замерло.
11 ноября. Дивный солнечный день. Мороз 11°R[374]. Пришел к кладбищу на берегу озера. Торжественная тишина – лишь с запада слышно глухое уханье артиллерийских залпов.
Военно-врачебн[ые] заведения и военные врачи созданы на войне как бы с исключительной целью служить объектами разряда мстительно-злобных чувств, накопляемых у военачальник[ов], к[ото] рые с большей бы производительностью и по надлежащему бы адрсу должны быть изливаемы ими уж никак [не] на нас, врачей, а на врагов, против кого идет война!! Содействия живому делу санитарии сверху не видно, средств для осуществлен[ия] не дается, но тысяча начальников, к[ото] рые только умеют цукать, кричать, ругаться: для всех штабных имеются к услугам автомобили, даже для приезжающих к нам дам, для врачей же получить по экстренной надобности это перевозочное средство составляет целую эпоху! Черт с вами – я готов отказаться от всяких прерогатив власти, если того требует общая польза дела, но возглавляют же наш санитарный отдел военными чинами, к[ото] рые перед военными же имели известный удельный вес, с какими бы считались, а не так, как теперь – «командирами нестроевых рот обозных батальонов», к[ото] рые дальше передних боятся пройти с докладами к власть имущим… Постановка санитарн[ой] части на войне требует коренной реформы; для санитарии должны быть сверху донизу представители – знающие свое дело и имеющие престиж, а не завалящие офицеры, коим нет места в строю.
В занятом нами месте существовал, по-видимому, какой-то кургауз, и на берегу озера стоят купальни. На всем видны следы благоустройства и культуры. Озеро подернулось сегодня «салом». В лунном освещении вид великолепный.
12 ноября. Мороз 6°R[375], погода серая. Зашел в Красный Крест, поместившийся весьма удобно в немецкой больнице «Kreuzkranchenhaus». Удручающая картина транспортировки раненых и б[ольн] ых безо всякой защиты от холода. Прошла партия солдат; многие из них укутали свои головы женскими платками, а ноги сверх сапогов рваными тряпками; вид воинства – времен [князя] Игоря!..
Возвращающиеся обратно порожняком продовольств[енные] транспорты неохотно захватывают раненых и б[ольн] ых, предпочитая вместо них забирать грабленое имущество…
Совершенный немцами грандиозный прорыв нашего фронта в стороне Кутно[376] – Лович[377] – Лодзь[378], первое время грозивший было нам общими бедствиями, а затем давший повод рассчитывать на обход нашими войсками чуть ли не двух корпусов неприятеля, обещает, по-видимому, окончиться ни в чью. Так мало у нас дерзания, и так много ремесленности, что окруженных нами немцев до единого выпустим, и они обязательно пробьются из кольца. Строевому начальству резко бросается в глаза большое количество раненых в руки, подозрительно оно относится к этим «леворучникам». Ч[то] б[ы] поскорее выбыть из строя наши солдатики нарочно будто бы высовывают из окопов свои руки для ранения; уж очень простоватые лишь прибегают неумело к саморанению, в чем чистосердечно и каялись, будучи уличаемы врачами.
В «Berliner Tageblatt» от 3 ноябр[я] 1914 [года] напечатано, будто бы наших солдат побуждают драться лишь стоящие сзади с направленными в них дулами заряженных револьверов и ружей гг. офицеры и казаки! Из расклеенных в городе немецких объявлений явствует, что немецкие солдаты предостерегались под угрозой больших кар грабить дома своих же сограждан, и еще: строго предписывалось не продавать солдатам спиртных напитков иначе, к[а] к по особым запискам. Tout comme chez nous![379]
13 ноября. Тихая погода; t° = 0°R[380]. Рано утром зашел в 494-й полевой госпиталь; главн[ый] врач – Евсеев; работа идет дружно, прекрасно; высказал всем благодарность, моими ласками врачи до слез тронуты, они их ни от кого до сих пор не видали, привыкли лишь скрепя сердце переносить от массы начальствующ[их] лиц одно цуканье и угрозы: «Разнесу!» А начальство наше из ложно понимаемых своих обязанностей считает своим долгом быть более враждебно настроенным к медицинскому персоналу госпиталей, чем к пруссакам! Своими огульными разносами и противоестественными требованиями, вместо того, ч[то] б[ы] подбодрить врачей, сеют между ними лишь одно уныние и мешают их покойной деятельности, отсюда резкая разница в типе красн[о] крестск[их] врачей и наших военно-санит[арного] ведомства: первые душевно приподняты, последние – забиты, и признаются мне чистосердечно, что только от меня они и впервые за время кампании видят человеческое к ним отношение. Я этим тронут, и, как ни обидно и оскорбительно поставлено мое официальное положение (корпусного врача, да еще заслуженного!) в механизме существующей санитарн[ой] организации, все плюсы для благоутробия предоставляющей лишь хозяевам кровавого пира, – я, тем не менее, начинаю, поступившись личными счетами, к[ото] рые предъявлю к уплате после войны, находить оправдание для моего существования здесь, в этом омуте всякой пакости и расстегнутого вовсю хамства, служить для других противовесом и противоядием (хотя бы и слабым) против становящихся уже нестерпимыми для них кавалерийскими набегами своих же властей, свирепость коих заслуживала бы более лучшего применения скорее к немцам, а не к скромным труженикам на ниве военно-санитарного дела[381]. Не все же расточать на них одни только кары и кары, надо же кого следует пригладить и по головке. Действую я, слава Богу, пока не без успеха: уж мой полковник (начальник санитарн[ого] отдела) давно бы желал проглотить вместе с пухлыми порционными и фуражными также и людей, но в этом людоедстве я ему много препятствую, хотя, к сожалению, не на основании закона, а благодаря лишь сносно налаженным мною личным отношениям с начальником штаба Одишелидзе, лучшим из худших наших российских типов предержащих властей, исповедующих идеологию «l’tat c’est moi»[382].
Вчера видел уезжавших из штаба двух дамочек на автомобиле в сопровождении кавалеров; автомобиль – нашелся, а вот для поездки с санитарными целями добиться его всегда составляет многосложную задачу!! В происшедших же из сего упущениях по санит[арной] части виноватыми окажутся только врачи, эти сосуды, в к[ото] рые изливается вся накопившаяся у нашей правящей камарильи ярость, злоба и желчь, долженствующую, как понимал бы здравый смысл, истекать в совершенно противоположном направлении – к внешнему врагу, к вящему его сокрушению и изничтожению. Все больше убеждаюсь, что главные революционеры, губящие Россию, – это наш правящий класс и военная бюрократия с пресытившимся, туго набитым доверху и совершенно глухим к элементарным нуждам народа брюхом. По ампутации гангрены немецкого милитаризма очередной задачей России должна была бы быть и ампутация нашей полицейско-бюрократическо-хамской гангрены правящих слоев, на околпачивании и эксплуатации невежественных масс строящих все свое благополучие[383].
Случилось, что я и ожидал: считавшиеся окруженными нами сначала якобы два корпуса немецких, затем дивизия, преблагополучно вышли из нашего кольца под Варшавой; не из артистов наши стратеги![384]
14 ноября. Небольшой морозец, хороший серенький денек. Часов в 9 утра выехал в санитарное турне на автомобиле с капитаном Пономаренко по шоссе на север – в Ковален[385]. Переговорил с корпусн[ым] врачом 20-го корп[уса] обо всем; он «премного остался доволен», если его корпус будут обслуживать санит[арные] транспорты №№ 7 и 8, да еще будет поставлено по госпиталю в Ковалене и Филипове.
Из Ковалена поехал на Гольдап; осмотрел здесь главн[ый] перевяз[очный] пункт 28-й дивизии и перевяз[очный] пункт отряда Государ[ственной] думы (уполномоченный В. Полунин); в последнем – на 50 мест, отличное помещен[ие], около 30 сестер милосердия, одна другой красивей, на подбор! Чуть не за ноги и руки меня втащили, ч[то] б[ы] все показать и откозырять! Таким же образ[ом], очевидно – нахрапом, взяли и другого генерала, с к[ото] рым я тоже познакомился – начальн[иком] 5-й пех[отной] дивизии Федоровым[386], к[ото] рый позабыл свои более прямые обязанности; его прямо-таки затормошили здесь.
Из Гольдапа поехал верст за 8–9 к СЗ, в штаб 53-й дивизии[387]. Оригинал – начальник дивизии, весьма дружно живущи[й] с своим дивиз[ионным] врачом; как он устроил ретирад из комнаты в окно! Штаб, видимо, съюченый; слухи о мире; в Москве будто о нем сильно поговаривают; генерал думает, что к Рождеству война кончится, т[а] к к[а] к-де больше и воевать нельзя: люди перемерзнут за отсутствием теплой одежды и переутомления, от к[ото] рого они прямо засыпают в окопах!
Попавшийся в плен унтер-офицер – немец передавал также о скором мире – будто Соединенные Штаты вмешиваются с его предложением. Больше и больше говорят о мире. Симптом!
Пообедавши, отправились назад в Гольдап, а отсюда в 22-й корпус на Грабовен[388], Бодшвинкен[389], Гогенбруг[390], Сурминен[391], затем на Лиссен[392], откуда и к месту цели – в Будзишкен[393]. Плутание наше: российские карты неточные и врут; не у кого спросить – ни живой немецкой души нет… Большая часть дороги по шоссе, но местами по избитой проселочной; боялся за целость автомобиля и за иссякновение бензина; ехали дремучими лесами… Слава Богу, кое-как добрались до Будзишкена. Заночевал у корпусн[ого] врача Азаревича.
15 ноября. Хорошая погода. Градуса 2 мороза[394]. Сильная пальба орудийная к СЗ. Приступают к бомбардировке Летцена. 16 осадных уже подвезли, ждут из Осовца еще 14 штук. Истощили бензин; достать в штабе мой адъютант не мог, пока не предложил шоферу 30 коп[еек], за что дали около пуда его. Выехали в полдень в 26-й корпус на Клейн-Тоблен; дорога путаная; густой сплошной красный лес[395], масса диких коз, кабанов; по дороге встретили много немецких взятых нами фурманок и лошадей… Дорога между озер… Благоустроенные деревни – не как у нас… Породистые немецкие коровы и вообще скот… Попадаться стали старики и старухи немецкие, оставшиеся здесь одинокими, нет-нет и ребятишки! Обилие рыбы в озерах.
Уже стемнело, когда прибыли в штаб 26-го корпуса; познакомился с Гернгроссом[396]; корпусной врач в отделе от штаба!
Назад на Марграбово. Леса, озера… плутание; по дороге стая волков около павших лошадей… По пути останавливал[ся] во врачебн[ых] заведениях[397]. Мой капитан Пономаренко ведет себя как к[акой]-нибудь ключарь или келейник, сопровождающий по епархии преосвященного.
В Орловене попали в 140-й полев[ой] госпиталь, приданный к дивизии. Шла всенощная. Прекрасное пение; регент – сам врач Острогорский[398], ученик Николая[399]. Служил истово батюшка Ириней из Валаамского монастыря; трогательное пение «не имамы иныя помощи – не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычица…» Сами выпекают просфоры. Уже поздно ночью добрались до Марграбова[400].
16 ноября. 0°R[401]; тихо. После объезда 20-го, 22-го и 26-го корпусов еще не приду в себя – в голове хаос; такая масса заявленных и обнаруженных нужд и крупного, и вермишельного характера, что просто ужас. Не развивается ли у меня уж старческое слабоумие – память и соображение в большом ущербе, рассеянность необычайная. Кроме того, чувствую такую физическую слабость, что не в состоянии ходить, и очень тяжело подняться с кровати.
Все-таки польза от меня как будто бы и есть: я во всех посещенных лично врачебных учреждениях сею ласку и доброе настроение, а не террор и уныние[402]…
1-я армия прохвоста Ренненкампфа почти на целый переход отступила! Наша армия перешла в общее наступление.
Сегодня генерал Янов обратился ко мне с просьбой, нельзя ли, ч[то] б[ы] повидаться ему с женой в Сувалках, дать ей удостоверение, что она, якобы, сестра милосердия!! И этот, по-моему, из сравнительно порядочных офицеров Генерального штаба ничего не видел в означенной просьбе гадкого – оскорбительного! У офицерства нашего своя идеология, свои понятия о чести, о нравственности; обходить же закон у воинства возведено в особую даже доблесть; и на войне-то они продолжают служить только лицам, а не делу; места и должности хватают революционным путем без особенного морального мудрствования.
17 ноября. Оттепель, гололедица, сильный ветер. Рано утром выхожу к кладбищу на берегу озера и в торжественной тишине (пока не слышно людского гама и автомобильного визга и гудения) молюсь Царю Царей, мечтая о мире всего мира дорогой родины. Слава Богу, мошенник Ренненкампф отстранен от командования армией и на место его назначен командир 5-го корпуса Литвинов[403]; по словам нашего командующего Сиверса, все, что ни говорится пакостного о Ренненкампфе, никоим образом не следует считать преувеличенным, а напротив – лишь приуменьшенным!! Давно надо было понять кому ведать надлежит, что этот аферист мог быть, положим, и разудалым начальником кавалерийской дивизии, но не больше, нельзя же было его назначать командующим армией! В штаб 1-й армии уехал сегодня и Одишелидзе, назначенный туда на ту же должность начальника штаба армии. Пообчистится, может быть, теперь несколько и состав штаба, бывший при Ренненкампфе – этой «банды разбойничьей».