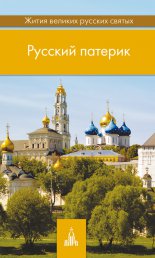Великая война без ретуши. Записки корпусного врача Кравков Василий
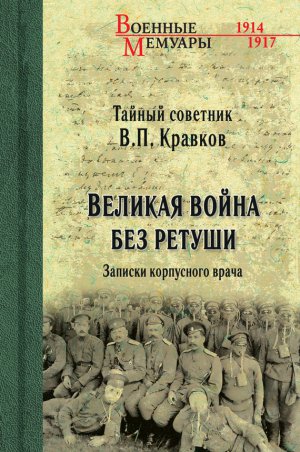
19 августа. Ночью был разбужен подъехав[шим] на автомобиле Никитиным, «зубным врачом» в долж[ности] аптечн[ого] фельдшера в 46-й дивизии, разыскивавш[им] будто бы по поручению штаба армии (?) местонахождение штаба 25-го корпуса, к[ото] рый будто бы не могли отыскать даже (!) на аэроплане (?!); отослал его к коменданту штаба. В Холме, к[ото] рый охраняется одним Николаем Чудотворцем, паника: все выселяются, магазины закрываются; циркулируют самые разнообразн[ые], друг другу противореч[ащие] рассказы и легенды, начиная с самых оптимист[ических], кончая ужасно пессимистич[ескими]. Роль в этом генерала Лопатина, председат[еля] суда – пустой балалайки, первоклассн[ого] труса; он теперь критикует манифест Верховн[ого] главнокоманд[ующе] го и высказывает-таки сентенции, за к[ото] рые в мирное время многих приговаривали к каторге… При воображаемых успехах нашего оружия – говорит совсем в духе «[Союза] русского народа».
Настроение наше ежеминутно меняется. Отсутств[ие] надлежащей осведомленно[сти] плодит массу кривотолков, часто страшного свойства. Штаб армии оказывается – в Дорохуске[96]. В Травники[97] будто бы подходит 3-я Гвардейская дивизия (козырная!) для охранения линии Люблин – Холм; 5-й и 17-й корпуса будто бы уже в Львове[98], в Галицию уже назначен генерал-губернатором граф Бобринский[99]. Наш корпус самый оказался злосчастный и пакостный. В общем чувствует[ся] во всем отсутствие дирижера… Полная разрозненность и оторванность друг от друга, кто в лес, кто по дрова… Роль прапорщиков как первых виновников паники… То и дело слышишь то бодрые, то самые безотрадные вести. Потрясающая картина – обращаются с частыми жалобами на обиды и засилья солдат. Ведут много пленных, сдающихся будто бы часто добровольно… У австрийцев пулеметы на автомобилях… Плеве будто бы смещен, и вместо него – Мищенко[100]. Будто бы будет смещен и наш Зуев, и Федяй… Холм будто бы совсем не укреплен… Две роты наших утонуло в трясине… Люди истомлены и издерганы – живые полутрупы… «Видно, бес нас водит в поле и крутит по сторонам». Московский гренадер[ский] полк еще под Плевной зарекомендовал себя «кукурузниками». Люди болеют куриной слепотой.
Местные жители-торговцы не дают сдачи с бумажек. Неприятель чувствует[ся] на плечах у нас, вот-вот голыми руками захватит Холм. Мои предвидения сбываются, вещи английской, немецкой и русской работы разнятся в мелочах, по к[ото] рым можно судить и о крупных занятиях каждого.
Наш штаб перешел в Сенницы Крулевские. Красностав брошен нами – пылает… Поехал на соединен[ие] с обозом в 4 часа дня; первая в пути команда «снять шинели»… Около 12 час[ов] ночи приехали, луна. Поселили в доме управляющ[его] – следы спешного выселения, и завтра в 4 часа утра обоз обратно в Холм – переехал взад и вперед – 54 версты!
Дергание обоза штаба, несуразное маневриров[ание] им; комендант преследует лишь чисто личные интересы – выслужиться, «чего изволите» – это штабным и нужно. Тяжелая атмосфера для меня в штабе. Нелепость: арестованные по подозрению в шпионстве даже интеллигент[ные] поляки вместо того, ч[то] б[ы] быть оставлен[ными] на месте (напр[имер, в] Холме), следуют всякий раз за обозом!! Истязание! Едучи в Сенницы Крулевские, в тыл, [видел], что батареи возвращали обратно и свободно горели костры – думал, что все благополуч[но]. Приехавши, услышал обращен[ие] ротн[ого] команд[ира] охранной роты: «Отдаете ли вы, в-ство, отчет, в каком положении мы находимся?» Решение мое следовать раньше обоза в Холм; планы, ч[то] б[ы] не попасть под выстрелы… Утекали с белым флагом в запасе. Неснабжение картами врачей, следующих вслепую, а между тем при штабе возится их 40 пудов!
Не спал ночи; разбитый, выехал чуть свет на Холм.
20 августа. Тишина в смысле батальном, но настроение у всех угнетенное. Говорят, говорят, и всяческое говорят… Третью неделю не сменяю белья… Холодно, ветрено, а теплые вещи уложены в обозе, откуда некогда их раздобыть. Зябну и голодаю за отсутств[ием] «горячего», от беспрерывной трепатни не досыпаем.
Наконец-то совершилось то, чему надлежало бы совершиться еще и ранее во благовремении: сегодня прибыл Зуев ко мне мокрой курицей и со слезами на глазах сообщил, что он смещен с должности корпусного командира с приказом к штабу армии, а «Пердяй» совсем отчислен в резерв за то, что Зуев «недостаточно энергично действовал и недостат[очно] широко развил данную ему задачу». «Пердяй» сегодня уже вперед приветствовал меня: «Здравствуйте, В[асилий] П[авлович]» (обыкнов[енно] не замечал), и с первого слова нагло заявил мне, что-де штаб его главным образ[ом] обвиняет за недостаточно полное функционирование госпиталей!! Мое ему разъяснение. Действие И. Архангельского с госпиталями, к [ото] рые пропали! Зуев и «Пердяй», по-видимому, не чувствуют себя ни в чем виноватыми. Это поистине трагедия для России, что наши военные начальники, «автомобильные» генералы имеют особую дубовую совесть!! Поговорили с Зуевым, я ему раскрыл глаза на многое, что совершалось нехорошего в его штабе; относительно «Пердяя» он ответил: «Я его хорошо узнал… Где надо было показать Москву – он указывал Петербург, любил лишь побольше и вкуснее пожрать, да попросторнее и шикарнее занять для себя помещение…» О, какой бы эффект имело мое секретное письмо, к[ото] рое я собирался писать Зуеву насчет «Балдяя»!..
Уложили эти преступники десятки тысяч людей, играя в солдатики, а их вместо того, ч[то] б[ы] отдать под суд, лишь устраняют! Но одни ли они такие? Не большинство ли из на действительной службе находящихся? Способные и талантливые, вероятно, есть, но они стоят в тени и не в движении. Из таких я считал бы одного отставного Мартынова Евг[ения] Ив[анович] а[101] и еще, может быть, одного-другого… Весь наш русский режим прогнил, и в материальной культуре мы не можем сравняться ни с немцами, ни с англичанами, ни с прочими цивилизован[ными] странами. Что я видел на японской войне, то еще в более густом цвете вижу и сейчас. Живое дело у нас делают, что бумаги пишут, и своекорыстные личные интересы неспособны подчинить хоть на время общим гражданским. На место Зуева временно назначен Долгов[102], начальн[ик] 46-й дивизии, а постоянно, говорят – Лопушанский[103], начальник 10-й дивизии, человек «милый, любезный, никакими особенными стратегическими талантами не обладающий, на корпусн[ого] командира не рассчитывавший и собиравшийся по предельному возрасту выходить в отставку». Долгов же – «еще молод, недавно лишь командует дивизией». Если такие соображения будут и впредь при назначении команднго состава, то никаких перемен к лучшему ожидать нечего; я и не ожидаю! Плеве, так поспешно выехавшему из Холма и тем вызвавшему всеобщую панику в городе, предписано немедленно же возвратиться в него; то же и губернатору.
Что делается теперь на вокзале – не поддается описанию, все выселяются!! Австрийцы упорно лезут на север, вклинившись и разъединивши 5-ю от 4-й армии; уже завладели Травниками; путь железнодор[ожный] от Люблина на Холм, так[им] обр[азом], перехвач[ен]. Как ни хвастаются мои маршалы, что они много накрошили австрийцев («целые горы трупов»), но отдают должную справедливость их начальникам – «генералы-де их отличные, прекрасно владеют тактикой и умением охватывать», а наши? Командир Гренадерского корпуса Мрозовский[104] (из 70 тысяч к[ото] рого, как передает Зуев, остались в живых лишь 8 тысяч!!) получил благодарность свыше из штаба за то, что собственноручно застрелил трех австрийцев! Это ли не пошехонщина?! Дело ли это корпусн[ого] командира? Все наши военачальники оправдывают свои неудачи значительным превосходством сил противника! Но так ли это? Наши пошехонцы все спасение видят лишь в количестве сабель, штыков и пушек, и никакого внимания не обращают на живую силу, двигающую этими орудиями борьбы. Люди измотались ужасно, а их продолжают без сна и отдыха употреблять в действии! Слава Богу, теперь атмосфера в моем штабе очистится, а то я решил было просить перевода и даже недалек был от заболевания. Теперь, говорю я товарищам, и мы с вами будем ездить на автомобилях, не одни наши вояки!! Относительно занятия нами Галиции и успешных действий остальных корпусов нашей армии, очевидно, передавались лишь одни сказки. Иначе трубили бы во все трубы иерихонские! Ни писем, ни газет не получаю. Не знаю, что делает[ся] ни в доме, ни в отечестве. Так скверна окружающая действительность и так болеет моя душа от нее, что неполучение каких-то там писем и газет нисколько не в состоянии увеличить мои страдания; бльшими их сделать теперь нельзя; никакая надбавка к страданиям не отягчит более моей души.
21 августа. Светлый свеженький день. Слава Богу, выспался наконец, переменил белье; ч[то] б[ы] не забыть об этом, приурочива[юсь] к семидневкам… В 8 часов утра уже выступил из Холма вместе с обозом, сначала направившись к Загруде, в господарский двор Угер[105], но по пути маршрут нашего следования к штабу корпуса меняли – сначала проехали на Сургов[106] к фольварку Августовка, но здесь оказался лишь штаб отряда Фогеля[107], переходившего в наступление, и меня проперли (к сожалению, я опередил пред тем обоз) на Сенницу Крулевскую, откуда на Красностав, вчера лишь горевший и бывший в руках австрийцев. До слез грустная картина разрушения вместе с картиной самого жестокого разграбления; мимоездом видел пылающий дворец в Жданове пана Смерчевского[108] – какая масса драгоценностей сделалась жертвой огня и грабительства нижних чинов!..
Приехал в Красностав уже [за] темно: светила застланная тучами луна, заканчивал[ась] работа по погребению в братские могилы убитых русских и австрийцев, интенсивн[о] запах[ло] гарью; картина разрушения Помпеи[109]. Учитель реального училища поведал о своих злоключениях с семьей, констатировал случаи мародерства исключител[ьно] со стороны наших солдат, а не австрийцев, к[ото] рые великодушно позволили даже раздать оставшиеся запасы хлеба и сахара местным жителям. Мы все колесим кругом да около…
Безалаберность наша российская: сразу объявляют о сборах к выступлению, напр[имер], в 7 часов утра, торопят, не дают возможн[ости] людям напиться чаю, а затем заставля[ют] их часа 2 стоять в ожидании приказа к движению; без карты следует даже начальник обоза штаба.
Второй день у меня светлый праздник, что штаб наш освежился через исключение из него двух главных паразитов… Все начальники служб облегченно вздыхают от исключения «Пердяя» из штаба, доводившего заботы о своих личных удобствах до nec plus ultra[110]. О лицемерии и продажности генер[ала] Лопатина, расточающего дифирамбы Зуеву и «Пердяю» в глаза, а за глаза говорящего иное. Мне кажется, что жестокие люди – трусы, а мягкосердечные – нет… Лучше погибнуть, свалившись с аэроплана, чем с телеги, так и в отношении нашего штаба – не хочется умирать по его глупости…
Кавалерия у австрийцев будто бы хуже нашей; если разведка лучше нашей, то благодаря более совершен[но] организованному шпионажу, за что они щедрее расплачиваются, чем мы… Секретничанье доведено у нас до крайности: разыскивание штабов, все равно, что иголки…
Австрийцы плохо принимают штыковой бой и вообще – напор всяких колющих орудий (пик и т. п.), поднимая руки вверх в знак готовности к сдаче. Куда как совершеннее их снаряжение, патронов носят более, чем мы (100 и 600). Бедные жители городов, к[ото] рые переходят из рук в руки то нам, то австрийцам – не знают, какому богу молиться.
В Красноставе заночевал на развалинах среди мусора и пыли, разбросанного имущества уездн[ого] воинск[ого] начальника, почти все из города бежали. Прежалкие картины варварского сокрушения и опустошения.
NВ: Особый доклад об усилении боевой мощи не с помощью увеличения только штыков, сабель и пушек, а оздоровления (безалаберность в деятельности…), о поддержании связи, о недопустимости производства под хлороформ[ом] операций на главн[ом] перев[язачном] пункте, об условиях раскрытия полевых госпитал[ей].
22 августа. С раннего утра обложной дождь. Из Красностава почти все разбежались, побросавши в домах всякие запасы и даже дорогие предметы – остатки варенья, разносолы, зонтики, шляпки, книги, настойки и т. п. В господарских же дворах (Жданово[111] и др.) – разносолы, гобелены, ковры, ноты фонолы – растрепленные по комнате; чего не сжег огонь, то старались растащить мародеры наши; по общему отзыву австрийцы в этом отношении значительн[о] уступают нашим. Один псаломщик так урезонивал наших грабителей из солдат: «Ведь я русский – ну, грабьте у поляков да у жидов, а у меня-то грешно вам!» Собираются применять драконовские меры к виновникам. А все же в основе этого преступления лежат невежество и непросвещенность нашего солдата, не отдающего себе отчет в осмысливании того, что делает. Прегрустная картина разоренных и пылающих в огне гнезд. Появился у меня насморк от постоянных сквозняков в разоренных, с выбитыми стеклами и окнами домах.
С раннего утра энергичная канонада артиллерийск[ая] с СЗ, стихшая лишь к ночи. Огромные массы раненых с офицерами и врачами. Дружелюбные разговоры нашего казака с австрийцем, посменно курящим одну и ту же сигару. Чудное снаряжение – прекрасная обувь с чистыми портянками, ранец, резина для каблуков… То и дело слышатся добродушные окрики наших солдатиков, ведущих пленных: «Хди, хди, пане».
Отчаяние красноставского врача – от избытка раненых, истощения всяких средств и отсутствия власти для содействия по эвакуации и снабжению всем необходимым (больница обществ[енного] призрения); распорядился придвинуть один из полев[ых] госпиталей.
Настроение с утра бодрое: австрийцы будто бы в панике отступают, много сдается; Травники опять в наших руках. Передают, что будто бы крупные победы одержаны в Киевской армии[112]: взято чуть ли не 4 генерала, 153 офицера, 113 пушек – почти полный корпус. Львов будто бы наш уже, а также Кёнигсберг[113]. Ничего достоверно все-таки нам не известно, т[а] к к[а] к газет совсем не читаем; почта функционирует прескверно – не получаем ни корреспонденции, ни газет. В японскую войну было больш порядка во всем. Даже официальные бумаги и то не доходят по назначению! Хаос во всем полный – суетятся, нервничают. Врачебн[ые] заведения здорово поистрепались и порастерялись по части своего имущества. Мы, врачи, предоставлены самим себе. Никакой помощи извне, кроме тормозов со строевой части не имеем; о нас совсем забывают в критические минуты.
О характеристике штабных: Попова[114], Смирнова, еще о Бодиско, приблудившемся штаб-ротмистре какого-то 6-го полка[115] в роли пришей-пристебай; а таковых здесь много.
В 5 часов вечера тронулись, поливаемые дождем, по грязной дороге на Горжков, но, подъехавши к нему, возвратились и сами, и с своим обозом назад в Красностав, так к[а] к ожидаемая под Горжковом победа наша оказалась еще не одержанной и стоять в Горжкове небезопасно как в местности, где передовые позиции.
Пушки бухают свирепо. Что-то покажет завтрашний день?
23 августа. Ведрено. Сильный ветер, с воем и гулом гуляющий в занятом нами помещении с выбитыми рамами и стеклами. 9 часов утра, а на позициях тихо: не слышно ни одного выстрела. Ждем оттуда донесений, ч[то] б[ы] сообразовать с этим время нашего выступления из Красностава.
Ношусь в вихре бушующих стихий, отрезанный от света Божия, не имея никаких вестей с родины. Все время только движемся и движемся, да еще как было доселе – кругом да около, только знаем, что складываемся да раскладываемся, не будучи в состоянии о чем-либо сосредоточенно подумать – полное оравнодушение – тупое, бессмысленное – ко всему окружающему… а окружающее все такое зверское, жестокое, первобытное. Измученный физически и морально, сваливаешься, где только возможно прилечь, как убитый… Такое дерганье продолжаться долго едва ли возможно… Чувствуется страшное бессилие в выполнении своей роли как желали бы; кажется, что все делается и завершается само собой – силою не от нас зависящих обстоятельств.
Решено переночевать в том же Красноставе, ч[то] б[ы] пока не двигаться всем штабом и обозом опять на Горжков, т[а] к к[а] к наш корпус почти достиг надлежащей позиции, ч[то] б[ы] подошли остальные корпуса с юга в обхват противнику. Влились в нашу и 4-ю армию пришедшие 1-я и 2-я Гвардейские дивизии; идет еще 3-я. В городе после полудня появились власти: бежавшие уездный начальник (исправник) со всем сонмом урядников и городовых; на развалины и пепелище возвращаются мало-помалу также и жители. Пронизывающий сильный холодн[ый] ветер гуляет по комнатам; завешиваем все дыры и щели оставшимися юбками, кофтами и пр. Приводят много пленных, из к[ото] рых все охотно сдаются. Конвойный солдатик объяснил мне причину такой массовой сдачи неприятеля: «Знамо, в-ство, как не сдаваться, когда этих пане кормят только горохом да луком с морковью!» Вот если бы наши военачальники да уразумели бы глубокий смысл сказанных т[а] к наивно слов этого серенького человека, тогда они знали бы, в чем лежит главный рычаг победы – не в одном лишь количестве штыков да пушек!.. Брюхо, брюхо для массы великий вопрос, с к[ото] рым прежде всего надо считаться…
Посмотрю я на Рябушинского, недосыпающего, недоедающего[116], развозящего всю нашу штабную знать на автомобилях и денно, и нощно, – и диву даюсь, какой мотив руководит этим миллионером, добровольно ушедшим от своей комфортабельной жизни буржуа в этот кромешный ад. Я бы, будучи миллионером, так не поступил, и вместо себя сделал бы шофером к[акого]-н[и] б[удь] наемника. Но нет ли у него большого горя, к[ото] рого он бежал, ч[то] б[ы] забыть его? Как-нибудь разговорюсь с ним по душам.
Шт[абс]-капитан Богословский[117], этот штабной Мольтке при Зуеве и «Пердяе», теперь сократился, и роль его введена в надлежащие границы; чувствуется знающ[ий] и компетентный глас командующ[его] корпусом и его начальника штаба полковн[ика] Галкина[118].
Кто-то проиграл на рояле несколько аккордов после ужина, унесших воспомина[ниями] в культурн[ые] условия жизни.
Ночуем в том же Красноставе (на реке Вепрж). Вместо сгоревшего моста установлены уже два понтонных.
24 августа. Воскресенье; знаю это потому, что хотел было сдать накопившееся грязное белье в стирку и получил ответ, что стирать по случаю праздника никто не согласится! Погода дивная; прохладно; солнышко греет по-осеннему. Отправил сегодня с писарем штаба, командируемым в Ярославль за теплыми вещами для офицеров, письмецо своим ребятишкам, снабдивши его адресом.
Командующий армией на Западном фронте Самсонов[119] по официальным источникам застрелился. По какой причине? Дела наши на германской границе, говорят, неважны[е], будто бы два корпуса разбиты.
Проходит масса пленных австрийцев. Захвачен большой обоз, рассматриваем и разбираем добычу[120]… На чердаке дома нашего найден зарывшийся в солому австриец, ничего не евший несколько дней, спрятавшийся несомненно из боязни, ч[то] б[ы] не попасться в плен воображаемым им мучителям.
Сегодня – дневка для войск. Слава Богу; она должна значительно укрепить силы наши и солдатские. С завтра переходим в наступление, предстоит переход через горный кряж и брать весьма укрепленные позиции. Ожидается большой убой. Все человеческое, кажется, вытеснено из людей, и осталось, орудуя всем, в них только одно звериное[121].
Распределение штабов на нынешний день: 3-й гренад[ерской] дивизии – Жолкевка[122], 46-й – Майдан Верховский[123] и 70-й – Бзовец, южнее дер[евни] Мосциска[124].
Замостье уже занято 19-м корпусом, остальные корпуса армии едва ли успеют продвинуться в тыл отступающим теперь австрийцам, ч[то] б[ы] устроить им Седан. Появляются заболевшие дизентерией, к[а] к среди наших, так и австрийцев. См. мою полевую записку командующему корпусом за № 9[125]… Оперирую распределением полевых госпиталей, транспортировкой раненых, деятельностью дезинфекцион[ных] отрядов.
Никак не могу наладить, ч[то] б[ы] нижние чины, довольствующиеся при штабе корпуса, получали все, положенное им по закону; ч[то] б[ы] добиться этого приходится ссориться! Как глубоко невежественно наше офицерство, рубя сучок, на котором сидит…
25 августа. В 9 утра выступили на Запад за 12 верст в Горжков; местность гористая и лесистая; дивная природа. Опасение, что австрийцы будто бы с трех сторон нас обходят. Капитан Смирнов командует, ч[то] б[ы] все брошенные бумаги в Красноставе сжечь. Давно бы пора последовать моему совету. Значит, Красностав не застрахован перейти опять к другим хозяевам!
Несвязанность, некоординированность поразительная. Командир Лохвицкого полка[126] в отчаянии, что требований от него много, а средств дано мало: нет у него делопроизводит[елей], писарей, etc., т[а] к к[а] к полк формировал[ся] по лит[ере] «Б»… Пленные офицеры австрийские не верят, ч[то] б[ы] были нами уже взяты Львов и Галич[127].
Пришла в нескольк[о] пудов почта – в беспорядке; мне ни одного письма; вырвал с жадностью №№ «Русского слова» за 11 и 15 августа. Отсутствие взаимной поддержки: казакам не дают заимообразно крупы, мяса от штаба корпуса – «казаки всегда будут сыты», а между тем мародерство объявлено наказуемым! Пленные лошади австрийские очень изнурены; на спинах глубокие язвы… У нас теперь нет ни одного аэроплана, бывшая буря все их поломала! Австрийские линейки и повозки превосходят наши аккуратностью и выделкой… По пути слышится канонада – ураганная… Солдатики пьют из луж воду; очевидно, не успели перед выступлением напиться чаю – задергивают их и тормошат; невежество в этом командного состава! Несколько дней тому назад тыловые слухи, что Каульбарса[128] повесили… Я при движении обоза устраиваюсь сзади столовой-кухни, т[а] к к[а] к ею больше дорожат, чем всем медиц[инским] персоналом… Солдатики наши многие надели на себя австрийские шинели и ранцы… Грустная картина – сидит старец у одинокой, покинутой избы… Время от времени иду с охранной ротой с австрийской саблей, уверяя их, что если нужно – пойду вперед, в бой… Красивый вид: по дороге высокие кресты с распятием… Из газет прочитал о высочайшем повелении именовать Петербург – Петроградом, etc. Уж не слишком ли?! История с дивизионным врачом 46-й пех[отной] дивизии Лисицыным. Смотри – переписку[129].
Около 4 часов дня пришли в многострадальный Горжков, из к[ото] рого только вчера вышли австрийцы. Пообедавши, собрались поглазеть за взламываемыми денежными мешками австрий[цев], взятыми в плен, насчитали десятки тысяч крон, etc. Получена телеграмма, что Щебрешин[130] взят нами.
При обозе штаба корпуса, оказывается, возится по подозрению в шпионстве на своей повозке с лакеем известный миллионер пан Станислав Коверский[131]; ксендз божится и клянется за его alibi, предлагая себя в заложники. Группа пленных австрийцев, с ними и еврейчиков; окружила их толпа солдатиков, оживленно беседуют, братаются, друг друга понимают, хотя и на разных языках; еврейчик один служит предметом общей веселости – большой комик. Солдатики сравнивают свое с австрийским: кокарда наша-де лучше, шапка-де тоже лучше, с большим юмором говорит солдатик, т[а] к к[а] к она больше – «на пять целых головы»; общий хохот. Пленные были совершенно ложно осведомлены, будто бы взята уже у нас и Варшава, и чуть ли не Петербург… Со слов пленных выходит, что кормились они хорошо, им шло ежедневно по 400,0 мяса, по 700,0 – белого хлеба (говорят – «мало»), по литра или вина, или пива, а также полагался казенный отпуск табаку. Солдатики слушают и невольно сравнивают свое с их довольствием с затаенной завистью и как бы упреком по адресу у власти стоящих…
Чудная лунная ночь, холодная. Уж осыпаются листья пожелтелые[132].
26 августа. Чуть свет на автомобиле поехали на передовые позиции через Жолкевку на Вержховину[133], куда прибыли к 9 часам утра. Предстоит атака Туробина[134]. [В Вержховине] остановились в господарском дворе, большой сад-парк.
Предстоят бои, могущие иметь решающее значение на наши дальнейшие операции. С утра до ночи без перерыва ожесточенная канонада к З и СЗ от Вержховины. Большое значение придают выручке со стороны Горбатовского[135] (19-й корпус), с к[ото] рым стараются войти в связь. Перед Жолкевкой – главн[ый] перев[язочный] пункт 3-й гренад[ерской] дивизии – масса раненых. Впервые встречаются здесь пленные человек 6 немцев, хмурые и надменные, их вид. В Вержховине – штаб также Варшавского полка, в к[ото] ром сегодня и полковой праздник. Никак не могу наладить поэшелонное расположение и развертывание госпиталей, приданных дивизии…
10-й австрийский корпус уже уничтожен, теперь против нас вместо него действует 4-й венгерский корпус. Большими силами напирают австрийцы на Гренадерский корпус, стремясь прорваться на соединение с германцами через линию Люблин – Холм. С минуты на минуту ожидаем, чем кончится настоящий бой; при неудаче нашей – нам предстоит отходить на Красностав и начинать все сначала! Вся суть теперь на нашем правом фланге со стороны Гренадерского корпуса. Нам самое желательное было бы прижать австрийцев к Висле и зайти им с юга в тыл, а в крайнем случае хотя бы прогнать их в Галицию. В 4-й нашей армии действует пришедший недавно 3-й Кавказск[ий] корпус и Гвардейский. Идет еще Туркестанский. В течение 3–4 дней результат боя должен выясниться.
После скудного обеда в Варшавск[ом] полку прилег под кустиком в саду под грохот канонады, глядя на лазурное чистое небо и картину близкого осеннего увядания природы; сверху издали заслышалось курлыкание пролетевших журавлей. Поляки и евреи неотступно и жалостливо плачутся на засилья, чинимые им обстоятел[ьствами] военного времени.
27 августа. Стоим в Вержховине. Чудный осенний денек. С раннего утра – усиленная канонада с нашего крайнего фланга (3-я грен[адерская] дивизи[я]) и Гренадерского корпуса. Вчера с вечера стал гореть Туробин, оставленный австрийцами. Получены сведения, что 3-й Кавказ[ский] корпус взял 40 орудий и до 1000 пленных. Кормимся очень неважно в офицерск[ой] столовой: все мясо и мясо; от свинины у многих, в том числе и у меня, болят животы и слабит; с сегодня свинину исключаем из нашего меню.
Деревни опустошены и выжжены, и достать что-либо по части молочных скопов и яиц – трудно. Мой милый Сергунюшка письмо свое ко мне заключает такими утешительными для меня словами: «Твоя беспокойная и полная полезной деятельности жизнь всегда будет нам хорошим примером».
Сегодня посылают из штаба в Москву с поручениями к[а] к самого надежного по моей рекомендации солдата Дениса. Передам ему письмо к своим. То-то обрадуются мои ребята! Командировку Дениса перебил более толковый один из писарей… В широких размерах производятся экзекуции за мародерство поркой нагайками. Как ни жестоко – но лучше, чем смертная казнь… По показанию многих австрийцы больше деликатничали с чужой собственностью на чужой земле, чем наши на своей… Сегодня высыпала в сад попрятавшаяся было вчера от нас детвора – играют в солдатики. Счастливые цветочки, ничего не понимающие, что творится кругом. Разговорился я с милыми «паненками», рассказавшими мне, какой ужас они переживали, попрятавшись в подвалы, когда поспешно проходили австрийцы, к[ото] рые будто бы в усадьбе очень «господарствовали», истребили всякий скот и все маринады из погребов; съели массу варенья «вишняков», к[ото] рое смешали с денатурированным спиртом, хранившимся в больших бутылях, и все сожрали…
Сегодня испытываем недостаток в черном хлебе; солдаты едят сухари… За обедом (удивительные люди: или лицемеры, или же глупые!) в приподнятом настроении смеялись над Вильгельмом[136], обменивающимся с Франц[ем]-Иосифом[137] своими победными приветствиями, смеются над ними и возмущаются их якобы лживыми раздуваниями своих успехов, но мы-то… мы-то: говорим ли о наших минусах и не распузыриваем ли свои малейшие успехи?!
Прочитал «Рус[ское] слово» от 21 августа и удивился статье Михайловского, в к[ото] рой он описывает полный якобы разгром нашими войсками Рузского[138] австрияков под Львовом. Да неужели мы здесь победили? Что-то все не верится в прочность наших успехов… По сообщенным официальным данным о том, какие части австрийские, их не более девяти корпусов. К обеду канонада с СЗ затихла и стала слышаться более к югу, со стороны Запорже[139], куда поехал на автомобиле дрались под Львовом наши штабные исчисляют, что против нашей армии Коханов, меня не взявший туда из нежелания, якобы, ч[то] б[ы] страдало «казенное имущество», т. е. я, к[ото] рому д[олжно] б[ыть] «другое место для действий…»
Дивный вечер. Восхитит[ельная] лунная ночь. Туробин продолжает гореть… Чтобы взять кряж, войска нашего корпуса второй день пытаются навести разрушенные австрийцами мосты у Туробина и Запорже, но осыпаются огнем ротивника, хорошо укрепившегося на высотах, для чего ему была дана нами возможность благодаря долгому раздумыванию и не использованию для действия светлых ночей. Много мы проявляем быстроты на суету и на пустое дергание, а на продуктивные действия ее у нас не обретается; не видно у нас дерзания и вдохновения, идем по старинушке в лоб да церемониальным маршем в открытую, когда надо применить хитрость, молниеносный ошарашивающий натиск или обхват… Войсками передвигают, что бумаги пишут – отселева доселева сегодня, а остальное-де отложим до завтра…
Затруднения в практическом проведении мер при боевой обстановке по части устройства отхожих мест[140] (проходимые районы все страшно засраны и воняют…), – по быстрому и стройному питанию в[оенно]-врачебных заведений медикамент[ами] и перевязочными средствами из полевых аптек и их отделений, – с распределением в эшелонированном порядке полевых госпиталей, – транспортировкой раненых…
28 августа. Светлый день. С раннего утра слышна ожесточенная далекая ружейная трескотня с западной стороны; очевидно, наши ползут, всячески укрываясь, на высоты, откуда их осыпают снарядами австрийцы; убой предвидится большой. Стоим все в Вержховинах, в кипении битв и сражений. По донесениям австрийцы энергично отступают, мы же, к сожалению, не развиваем должной энергии в их преследовании на Грудки[141] – Горай[142] и дальше. В Янове[143] австрийцы, предполагается, должны сильно укрепиться, т[а] к к[а] к там замечены осадные орудия.
На солнышке посиживаем с Кохановым, каждый почитывая свою книгу. Специально лечимся мы с ним, старики, солнечными лучами[144].
3-й Кавказский корпус прибыл на театр военных действий без лечебных заведений. Обозы, парковые бригады многих частей – без ружей. Снабжение зарядами 3-го Кавказ[ского] корпуса идет за счет нашего, так же, как и подача пособия бывшим раненым, проходившим через главн[ый] перев[язочный] пункт 3-й гренад[ерской] дивизии, лишившейся к тому же своих двух госпиталей. Кавказский корпус, одержавший победу, затем сам оказался было в критическ[ом] положении. Получаю телеграммы о случае оспы, то – случае дизентерии, в том или другом полку…
Ночью штабом корпуса получена была странная телеграмма из штаба армии с предписанием корпусу укрепиться и не двигаться вперед; скоро произошла отмена. Тем досаднее, что мы не гоним австрийцев, что отступают бренные остатки 10-го и 2-го их корпусов, особенно 10-го (судя по пленным). За обедом вели исчисление, сколько нам осталось верст до границы, перейдя к[ото] рую будем получать полевые чуть ли не вдвойне. Пленный улан-немец (офицер) высказывает удивление якобы безумной авантюрой Вильгельма! (?) Мало-помалу с новым составом штаба упорядочивается корпусная полевая почта.
На войне особенно вспоминается правдивый афоризм Толстого: лучше ничего не делать, чем делать ничего. Днем – тихо; часов с 5 вечера изредка и вяло заслышал[ась] артилл[ерийское] буханье с запада…
Война и трезвенное движение…
Не мы одни на ратном поле, но и всякий в России небольшой частицей должен был бы теперь участвовать в великой войне, ведущейся для долгого мира – для братства народов.
Плохо питаемся, на офицерской кухне нет хозяина, подают нам сырой картофель, сырых уток и проч. пакость. Приняты мною решительные меры к упорядочению этого вопроса привлечением к нему Н. Н. Щеглова, врача гигиен[ического] отряда. Фигура нашего коменданта с своим треком напоминает Посейдона с трезубцем… Удивительно хороши повозки австрийские, одна из к[ото] рых с красн[ыми] крестами взята для обслуживания кухни (хранения припасов и пр). Как в дилижансе – можно класть вещи и наверху… Бомбардируют Горай, к[ото] рый еще не оставлен австрийцами. Вялое действие в преследовании австрийцев 70-й дивизии, к[ото] рой и наши военачальники согласны со мной, ч[то] б[ы] подсыпать ей перцу (нач[альник] див[изии] Белов[145]). Плохо установлена связь с подведомств[енными] мне учреждениями не у меня одного, но и у других: Коханов – не знает, где его парки!! Некомплект во всех учрежден[иях] и частях как личный, так и материальн[ый]; у меня в госпиталях по одному лишь главному врачу и младшему, без аптекаря, делопроизводит[еля] и т. д.
29 августа. В 8 часов утра при прекрасной погоде выступили на Туробин через Жабно[146]. Дорога гористая. По пути большие кресты… Библейская типичность картины переселения евреев! Массы разбросанных австрийск[их] снарядов со снарядными ящиками. Часа через 2 прибыли в погоревший и разрушенный Туробин, представляющ[ий] собой большей частью одни торчащие трубы, головешки, почерневшие столбы, груды пепла и мусора. Чудом как-то уцелели гминное управление, православ[ная] церковь и несколько домов. Остановился в помещении священника, устланном разбитыми [и] сломанными сундуками, книгами, изорванным платьем; пианино пополам перебито; прежалкая картина. Передают, что меньше вредили бомбы, чем сколько грабили местные мещане. Батюшка куда-то исчез. Одинокий Божий храм. Жители – то один, то другой – обращались ко мне, «к начальнику», с своими разнообразными жалобами на засилья то солдат, то своих же обывателей… Ласкают взор оставш[иеся] еще в палисадниках цветы перед убогими избами.
Дела Рузского несколько было оплошали, и на выручку ему даны два корпуса нашей армии: 5-й и 17-й; наша армия понемногу разделяется по другим армиям; останется в конце концов, как говорят шутники, один квартет в Холме: Плеве, Зуев, Федяй и Добрышин (к[ото] рых всех надо на одной осине повесить). Не ожидал я сегодня услышать открытую правдивую критику по адресу наших преступников – Зуева и Федяя – со стороны капитана Смирнова, подтвердившего лишь то, о чем я говорил раньше – вся стратегия у них была возложена на Богословского, слушали они голоса всякого фендрика, своего царя в голове не имели. Федяя, говорят, также предают суду, как и Добрышина. «Пердяй», как передают очевидцы, нисколько не унывает и, сидя в Холме, трижды жрет обеды и столько же – завтраки и ужины; живет с комфортом, в жертву к[ото] рому раньше приносил все вверенное ему дело; останавливались не там, где требовали обстоятельства, а там, где можно было бы пошире разместиться и получше полопать (у богатых панов, хотя они и были бы подозрительны в смысле шпионства).
Пропал без вести и исключен из списков приказом один мотоциклист из охотников.
Получил трогательное письмо – открытку от брата Сергея[147]. Завтра продолжаем победное наступление против поспешно удаляющихся австрийцев на Горай – Фрамполь. Щебрешин уже наш. Вечером прибыли два главных врача 11-го и 12-го полев[ых] госпиталей из Замостья; описывали все свои злоключения, как очутились впереди головного перев[язочного] пункта и попали в плен к австрийцам, к[ото] рые передали им на попечение 500 чел[овек] своих больных дизентерией; потеряно много обоза, лошадей; обращение австрийцев с медиц[инским] персоналом было корректное[148].
30 августа. Серенький денек. Часов в 8 утра тронулись на Горай, штабные в автомобиле, я с интендантом впереди обоза. Дорога гористая с «орлиными гнездами», с подъемами на высоту около ста шестидесяти футов над уровн[ем] моря. На выезде из Туробина – дивная статуя молящейся Мадонны, затем – отлично устроенное кладбище с изгородью из каменных столбов. Близки моему сердцу места вечного упокоения, так бы и жил бы всегда там. По дороге – кресты высокие с изображением распятия. В Янове идет бой; ожидается его очищение неприятелем, и наш корпус поворачивает фронт на юг почти на семьдесят градусов в тыл неприятелю; пойдет, вероятно, между Белгораем[149] и Томашовым. Нынешний день из штаба армии предписано нашему корпусу стоять на месте. К 4 час[ам] дня штаб армии приезжает в Замостье. Рассуждают, как-то они поступятся своим комфортом и удобствами, какие имели в Холме… По проходимым деревням вследствие бегства населения и опустошения ничего нельзя достать по части съедобной. Еле-еле достал 7 яиц сырых, к[ото] рые с жадностью съел. Австрийцы употребляют разрывные пули – говорят, только будто бы для прицела.
Около часу дня прибыли в Горай; остановились возле костела, в доме ксендза; штаб – в гмине. Изящные изразцы в печах… В Сибирском гренадерском полку сопровождает на войне штабс-капитана (ротн[ый] командир) его супруга, переряжен[ная] в мужской костюм – верхом на коне. Красота формы австрийских улан.
Таскается за нами Добрышин… Как и другие бестолковые генералы, он рассчитывал отыграться позой за счет целесообр[азности] действия и планомерного выполнения общей задачи, били на это и наши вахлаки – Зуев с Федяем; а смерть Самсонова и Мартоса[150] разве не замаскированное самоубийство? Головой и умом не взял – так, мол, положу живот свой!.. Замечательное явление: с первого дня походной жизни я не слышал ни звука гармоники или балалайки, к[ото] рыми забавлялись солдатики в японскую войну!
31 августа. Ночью и с утра дождь и хмурь; дороги раскисли. С 8 утра выехали из Горая на Гедвижин[151], верст за тридцать к югу – ЮВ. Оставили Фрамполь по правой, а Щебрешин – по левой стороне. Очищаем землю русскую от врага, к[ото] рый поспешно отходит в свои пределы. К сожалению, действуем мы без игры ума и без артистического вдохновения, не сумевши врагу устроить Седана; привыкли мы действовать лишь стеной да закидывать шапками, не ухитрившись воспользоваться дорогим моментом, ч[то] б[ы] окружить противника и захватить его в мышеловку! А он теперь подсоберется в Перемышле[152], к[ото] рый нам предстоит осаждать, и положит еще много десятков тысяч жизней. Живое дело делаем к[а] к пишем бумаги[153]… Дорога до Гедвижина – по пескам, по каменистым горам и хвойным лесам. Полным вздохом упиваюсь чистотой лесного воздуха. Благодать. По дороге попадаются своеобразной конструкции высокие кресты, а также памятники, напр[имер], с такой надписью по-польски: «Боже, смилуйся над нами!» Душа моя, при виде такой картины, воспаряет ввысь. Встречаются положительно кавказские ландшафты. Следую в обозе вместе с интендантом, милейшим Анатолием Петров[ичем] Мартыновым, сопровождаемый движущейся на юг массой войсковых частей корпуса, без спешки, без паники, в чаянии завтра-послезавтра ступить уже на землю врага. Утром узнал о сообщении Верховного главнокомандующ[его], что французы после пятидневного сражения отбросили с большими потерями немцев по всему фронту. Ура! Как ни мрачна погода, но она показалась светлой-пресветлой. Штабс-ротмистр интенданта от восторга заиграл на разбитом рояле ксендза плясовую…
Смешной вид представляют наши солдатики, уже перерядившиеся в австрийские шинели и снаряженные австрийскими ранцами и другими доспехами… А как сравнить нашего солдатика и австрийского, то досада берет: наш в отношении пригонки мундирн[ой] одежды – медведь-медведем, австриец же – картинка! Редкий для наших военачальников поступок Мартынова: при проезде через поломанный мост скомандовал о его исправлении…Рад, что освободился от 500 рублей, сдавши их в казначейство! В пути солдаты срывали капусту и ее ели. На обращение офицера ко мне, вижу ли я, что делают солдаты, с целью подчеркнуть как бы упущение со стороны медицинск[ого] персонала, я отвечал, что виноваты «вы – военачальники, мало развитые гигиенически и плохо воспитывающие солдата». Офицер прикусил язык… Хочу перевести на фуражное довольств[ие] своих лошадей из штаба в интендантские, а то в штабе – систематический грабеж за счет желудков солдатских и лошадиных!.. Апофеоз негодяйства, как следствие невежества и русской дикости! Врач в этой среде – один в поле не воин.
Не слышно сегодня ни одного выстрела. Оригинальный вид кавказских казаков в бурках и белых башлыках на фоне лесной опушки, в дыму горящих костров… Предчувствую с захватывающим дыханием сладость скорого вступления в Червонную Русь. Коханов передал мне №№ «Нов[ого] вр[емени]» от 22 и 23 авг[уста]. Читаю с жадностью; к сожалению, сообщаемые данные – вижу – тенденциозны, с большой примесью слюнявого патриотизма и национализма[154]… Жажду знать одну только, хотя и горькую, правду о всем совершаемом, но увы!.. Некогда обриться – обратился в дикобраза…
Около 4 час[ов] дня прибыли в деревню Гедивжин. Дня три тому назад здесь «господарствовали» австрияки, все опустошившие, повыбившие окна в домах, в одном из к[ото] рых поселился я с адъютантом… «Мадьяры страшущие производили паскудства», – жалуются бабы… Во всей деревне еле-еле собрали около двух десятков яиц… Погода было разведрилась, но к вечеру опять захмурилась…
Сентябрь
1 сентября. Хмуро и дождливо. Всю ночь тревожился массой мух и тараканов. Достал кружечку молока; утром поблаженствовал чаем с молоком. Давно этого не было.
В 9 утра выехали, опередивши обозы, на Хмелек[155] через Белгорай, Княжнополь[156] и Раковку[157]. Дорога пролегает почти все время через пески и сосновые леса; много рубленых деревьев; чудный ароматный воздух; под Княжнопле[м] – взорванный и погорелый мост; переезжали вброд. Белгорай – лучше Красностава, на улицах по тротуарам столы с самоварами, евреи угощают солдатиков. Трудно купить хлеб или к[акой]-л[ибо] другой продукт. Солдаты больше хотят табаку, чем хлеба… Избы в деревнях с одинарными рамами – очевидно, зимы здесь теплые.
Завтра, Бог даст, будем за границей. Тарноград[158] уже оставлен австрийцами. По пути захотелось есть, а хлеба не было; в одной деревне еле-еле удалось на 10 коп[еек] купить кусок черного хлеба: все выедено и очищено нашими предшественниками – австрийцами. «Трошечко хлеба есть, остальное Галиция забрала», – отвечала старушка, вместе с стариком своим с помощью мотыги вырывавшая в поле картошку. Подъезжая к месту назначения, встречаю оригинальные типы – смуглые лица в костюмах: теплые шапки и кафтаны, из-под последних – длинная рубаха, кальсоны и босиком; бабы – в белых длинных платках. Руководствуясь картой-десятиверсткой, не лишним считал проверять свой маршрут через опросы местных жителей; «тенде, тенде, пане» («туда, туда, господин»), отвечали… Стал припадать на желудок – часто слабит с болями.
Около 5 вечера прибыли в Хмелек; штаб расположился в вальдфорке[159] – в господарском доме князя Замойского[160] (самого нет, а живет его управляющий); я же – на отлете, в деревне у священника. Семья его встретила нас очень радушно и хлебосольно; почти пять недель выдержали они пленение у австрийцев; в моей комнате жил полковник – австрийск[ий] чех, а в других – прочие офицеры со знаменем. Сам чех был очень скромен и малообщителен, офицерство же и солдаты – бахвалились, что скоро будут в Петербурге. Их подозрительность и мнительность относительно взрывов, отравления, – напр[имер], папиросу русскую закуривали с осторожностью, воду пили, предварительно заставляя ее выпить обывателей. Среди офицерства находились лица, чехи и славяне, к[ото] рые предостерегали обывателей не очень-то быть болтливыми, т[а] к к[а] к даже и среди офицерства над офицерством же имеется шпионаж со стороны немцев… Казаков наших ужасно боятся, будучи убежденными в том, что они едят живых людей!
Отличное шоссе устроили австрийцы от Тарнограда до Белгорая (фашинное?), по к[ото] рому пролегает наш почтовый тракт.
2 сентября. Всю ночь лил дождь; люди все намокли, и за поздним прибытием обоза с кухней и утомлением вследствие ежедневн[ых] переходов до 20–30 верст – мало ели. Вообще люди наши переутомлены. Дня не проходит, ч[то] б[ы] мы не передвигались.
Сытно нас покормили вчера и сегодня у батюшки (поросенок жареный с кашей, вареники, простокваша, молоко…); ели мы с волчьим аппетитом. Заночевали двумя группами: я с интендантами, а остальные штабные – в фольварке у одного пана, арендатора гр[афа] Замойского.
Хмурое туманное утро; но барометр показывает вправо. Выспался на мягкой перине матушки, где покоились недавно телеса австрийского полковника-чеха. Страшная грязь. С юга, со стороны Тарнограда – пушечная пальба. Батька уверяет, что под Сенявой[161] австрийцами заложено много мин, и советует нам при следовании быть осторожными.
К 9 часам разведрилось. Двигаемся сегодня за границу – в Мощаницы[162]; сердце замирает от сознания, что австрийцы из нашей земли изгнаны, и мы ступаем на их землю.
Отправились около 12 дня из Хмелика через Бабице и Волю-Общанску[163] на Мощаницы. Погода прояснилась, и солнышко приветливо грело – по-весеннему, и окружающая природа носила весенний колорит. Дружный хор галок, крик гусей и уток, быстрый поток ручьев после вчерашнего дождя… Казалось, что и природа ликовала с нами перед перспективой быть скоро за границей. Но вот мы около 3 часов дня и у пограничного кордона, межевых знаков, проехали нейтральную зону и вступили в австрийскую землю – Червонную Русь – Галицию. Прокричали «ура!», друг друга поздравили с праздником перевала через границу. Радостные приветств[ия]. Вторая половина пути пролегала по Божьей шири и глади; поля зеленели, и на деревьях – ни одного желтого листика… Оригинальная мода у русин[ок]-баб: на макушке вроде к[акой]-то круглой коробки, волосы на лбу в виде челки, на голове подстрижены в кружок, ни одной красивой – как бараны страшны. В Мощаницах обступили старики с просьбой разрешить колокольный звон, к[ото] рый запретили австрийцы, взявшие под арест весь причт и оставившие одного пономаря; вот и «войт» (волостн[ой] староста) – «начальник громады»… Только что прибыл в Мощаницы (ехал вместе с Мартынов[ым]) – пришло уведомлен[ие] о перемене места ночлега – в Майдан[164], за 8–10 верст к западу; поехали лесом, сначала дубняком, потом хвойным; дорога по лесу почти все время – отвратительная; вдруг заслышали ружейную пальбу пачками и залпами, что за штука? Мартынов скомандовал: «Повертывайте лошадей в чащу леса»… Загадка разъяснилась: это стреляли наши в аэроплан…
Обоз застрял в трясинах и дебрях, прибыл совсем ночью; ночи темные-претемные. Попробовал конфискованного «старого меда» (превкусный!). Остановился в помещении ксендза (бежавшего).
По предсказанию батюшки из Хмелька – осень обещает быть продолжительной и хорошей, т[а] к к[а] к-де аисты улетели не обычно около 6 авг[уста], а позже, числа 20! Если нам суждено будет играть роль оси вращения, то простоим в Майдане несколько дней.
Заучил твердо приветствие полякам: «Нех бенде похвален Йезус Христус», на что они неизменно отвечают: «И во веки веков аминь».
О медицинской перемене: запросы врачей; кто такие Попов, Мартов, Белорецкий и пр., получаемые циркуляры о задачах перевязочных пунктов, о способах сортировки раненых и т. п., о чем должны бы были знать врачи заблаговременно; незнание многими нового положения о уставе полевой службы.
Как надо теперь переименовать официально фамилии Ренненкампфа и tutti quanti[165]?!
На войне значение активн[ого] вмешательства начальств[ующих] лиц не такое ли, к[а] к в болезни – лечащего врача? Исход может не зависеть ни от хороших распоряжений начальника, ни рационального пользов[ания] врача.
За окном слышу обмен мнений солдатиков насчет того, в какой части у них – как часто дают кашу, как кормят; говорят с увлечением… А мой адъютант только спит и видит «борща»; пули «дум-дум» он называет «дым-дым»…
3 сентября. Благодарение Создателю – дневка! Погода хорошая. К довершению повышенного самочувствия получил сегодня два письма от детей – Сережи и Ляли. Письма утешают меня. Просят писать почаще, но они не понимают, к[а] к мне это трудно делать при постоянном мотании, да пристанищах на тырчке… Одно им сообщу: «В голове много, в сердце еще больше, а на перо нейдет…» Теперь лишь все заштриховываю.
Наш корпус, по-видимому, действит[ельно] будет пока осью вращения для других войск, см. схематич[ескую] обстановку к 3 сент[ября] (приложен[ие])[166]. Австрийцы цепляются за Сеняву, Ярослав[167] и Перемышль, высылая из этих укрепленных пунктов отряды. Вероятно, простоим здесь даже и несколько дней, т[а] к к[а] к главнокомандующ[ий] признал необходимым приостановиться для пополнения личного некомплекта и исправления дорог тыла… Война принимает характер позиционный (более гигиенический!).
Слава Богу, на стоянке сегодня мало-мальски по-человечески пообедали. Прошелся по полям, разговорился с группой женщин (польки); они со слезами на глазах жалеют бежавшего ксендза, пользовавшегося всеобщей их любовью («был к[а] к ангел небесный»). На вопрос, почему он бежал – отвечают, что очень боялся наших солдат! Жалуются на наших казаков, расхищающих их имущество. Как-то мы теперь будем рассчитываться с обывателями – их ли деньгами, или нашими?
Вечером высоко и плавно летел над нами австрийский аэроплан; поднялась беспорядочная ружейная и орудийная пальба по нему с обычным результатом – подстрелили своих, и общей паникой в обозах, на этот раз – в артилл[ерийских] парках; в панике первую скрипку обычно играют «прапорщики»[168]. Среди населения нами разбрасываются прокламации.
Рано залег спать, т[а] к к[а] к очень разбился беспрерывным передвижением. Ночью слышал с запада пушечное буханье.
4 сентября. Погода хмурая, сырая, с наклонностью к дождю, но теплая; к полудню разведрилось. Весьма упорно в штабе держится уверенность, что австрийцы в большой панике и, пожалуй, без особенного сопротивления готовы будут бросить и Сеняву, и даже Ярослав. Я с своей стороны – человека-неспециалиста – все же напоминаю кому ведать надлежит, нет ли здесь со стороны противника коварной игры в поддавки?.. Цешанув[169] очищен и весь выгорел, осталась одна церковь. Удивительно, что во всех погоревших и разрушенных городах церкви остались целыми!
Написал сегодня письмо своим детушкам. Уверяют, что будто бы земля русская очищена не только от австрияков, но и от немцев, занявших было города польского края! Что-то не верится! У нас ужасно страдает служба связи, также подвоз огневого и пищевого питания…
Начальником штаба корпуса назначен генерал Парский[170], а командир[ом] его какой-то Рагоза[171]. Прочитал № «Нового времени» от 25 августа. Чреватое благодетельными последствиями явление: прекращенная продажа крепких напитков, предпринятая было лишь на время мобилизации, продлена высочайшим повелением на все время военных действий. А за время войны – Господь пошлет – укрепится у нас и привычка к трезвости; благодетельные последствия сего неисчислимы (особый журнал Сов[ета] Мин[истров] от 23 августа). Вчера казаками донесено, что у Радавы[172] переправа занята была неприятелем, когда на самом деле она занималась 10-й дивизией 5-го корпуса!! С после обеда вплоть до темноты с запада пушечная и мортирная пальба. Пари за обедом между Кохановым и Галкиным: первый утверждал, что через месяц мы будем за Карпатами, Галкин не соглашался.
5 сентября. Преотвратительная дождливая погода, хотя и не холодная[173]. Листья осыпаются… Испытываю усугубленную тоску по родине и усиленную потребность в домашнем уюте; слава Богу, что эти душевные слабости заглушаются физической усталостью и крепким сном… С ночи идет энергичная канонада с ЮЗ… Один из старших врачей полка не выдержал ужасов боевой жизни и заболел душевным расстройством. 11-й и 12-й полев[ые] госпиталя уже поставлены на ноги – большинство повозок и лошадей, утраченных при пленении под Замостьем – пополнено.
Прошелся по полям, на к[ото] рых роют картошки поселяне, жалующиеся на солдат, что они у них берут своевольно, без денег; я успокоил как мог. Говорят крестьяне так, что «жидам и панам у австрияков жилось хорошо, хлопам же – плохо; паны люто нас робят, а пенензов нема». Наменял у казначея на 3 рубля геллеров, к[ото] рыми придется расплачиваться (на рубль дают по 16 штук монет 20-геллерного достоинства). Зашел в возле стоящий брошенный костел, деревянный и, видно, очень старинной стройки. Среди изящных статуй Спасителя, Богоматери и всей церковной обстановки, хотя и не православной, душа моя находит подобающее ей по ее постоянной настроенности место, а на кладбище я так бы и построил себе келейку…
См. приказ по корпусу от 3 сентября № 27[174].
Рябушинский представлен к награждению солдатским «Георгием» (см. этот приказ) за подвоз патронов под выстрелами; но почему «Георгий» дается лишь за один момент отваги, а не за длительную, к[ото] рую обнаруживают все, сражающиеся в окопах?! Большой вред для дела, что наши военачальники в стремлении сорвать «Георгий» по статуту забывают общую задачу и действуют в ущерб ей…
С часа на час ожидаем падения Сенявы[175]. В 4 часа получено известие, что первая линия укреплений очищена [от] неприятеля, взято 8 пушек и 4 прожектора. В ближайшем предстоит овладение Ярославом и Перемышлем. Последний – первоклассная крепость, лучше укрепленная, чем Порт-Артур, с 50 тысячами гарнизона. Будут идти тихой сапой, по 200 шагов в сутки. Нет у нас необходимых ручных гранат и прожекторов! Добрышин возится у нас при штабе вроде какого-то печального трофея; предположено его убрать, прикомандировав к штабу другой армии или корпуса, ч[то] б[ы] глаза не мозолил своим.
Большинство, если не все священники здесь – на православн[ые], а униатск[ие].
Лопатин – Янус, теперь поет другие песни. Вечером стало известно, что Сенява (по-солдатски «Синай») занята нашими казаками («ловящими теперь там поросят»); теперь сидим мы верхом на реке Сане; обнаруживаем готовность следовать немедленно же в Ярослав, но нет на то директивы командующ[его] армией. Общая радость: по слухам в Лондоне ликуют по поводу успехов наших армий Юго-Западного фронта! Штаб армии нашей завтра к 4-м дня будет в Томашове. Артиллерия наша зарекомендовала себя с наилучшей стороны; австрийская – весьма плохая (пушки у них бронзовые, а не стальные). У австрийц[ев] появился новый – 6-й корпус…
Прибыл вечером новый командир корпуса; первое впечатление – благоприятное и говорящее в его пользу; видно, что человек серьезный, не из шаркунов-моншеров, и с лицом. Последующее покажет, насколько я оказался проницательным.
6 сентября. Облачно. Сильнейший ЮВ ветер. В 9 час[ов] утра выступили на Добры[176]. Дорога по пескам, холмам, лесам и перелескам; по пути на Красне[177], Ковале[178] – приличная здопийца «Szkala». Следуем в приподнятом настроении духа; вот что значит взять инициативу в свои руки и быть в роли наступающего, а не отступающего. Проходимые деревни «подъяремной» Руси – бедны, и обитатели их живут убого[179]; вот, говорят, перешагнем через Карпаты в Венгрию – там будут места побогаче. Наши штабные очень досадуют, что не поддержал наш корпус генерал Горбатовский, ч[то] б[ы] после взятия Сенявы налетом следовать на плечах неприятеля в Ярослав, к[ото] рый теперь легче бы было взять, чем потом.
Штабные уверяют друг друга, что за границей уже распространились слухи о нашем высокогуманном обхождении с пленными. О германцах же передают такой по-моему вздор, что они и отравляют холерными культурами колодцы, и режут у пленных сухожилия рук, ч[то] б[ы] делать их неспособными!! По газетам видно, что в Петерб[ург]е «возносятся молитвы об укреплении народа в трезвости»; пишут еще там такие высокопарные вещи: «русские войска победоносно вступают в Галицию, и их встречают как избавителей, со слезами восторга и с молитвами… Миллионы братьев томятся в тяжелой неволе…» Так пишется история!!
Около 2 часов дня прибыли в Добры; остановились в квартире униатского священника. На стене – портреты Франца-Иосифа и Пия-папы[180]. Вчера обратил внимание на красоту и телосложения, и обмундирования пленных офицеров (немцев); занимаются своей внешностью они уж чересчур! На ночь их поместили на полу возле моей комнаты, перед окнами к[ото] рой стоял часовой у денежн[ого] ящика, перед дверьми же – часовые, окарауливавшие названных офицеров. О, Господи, скорее бы кончилось это тяжелое испытание – в воздухе висит матерщина, вовсю гуляет русский кулак, озлобление нравов; скорбно звучат струны моего сердца[181]… В помещении униатского священника нашел «Твори Т. Шевченко з малюнками. Кобзарь. Видання В. Яковенко, издан. типограф. Эрлих Ю. Н., СПб., 1911 г.».
Вечером был во всенощной в униатской церкви, где служил полковой священник. По донесениям из двух источников – Ярослав будто бы взят[182]. Австрийцы, объятые паникой, будто бы бегут, вера в их успех у них гаснет. Осталась из их армии будто бы лишь одна треть! Сенява, взятая 3-м Кавк[азским] корпусом, горит, вся разграблена. Горят здесь и владения кн[язя] Чарторыйского[183]…
Поселился с двумя генералами в одной комнате, Лопатиным и Добрышиным: сущая беда – чуждые для меня люди; не могу взяться за дневник – испытующие любопытствующие взоры. Улучил несколько минуток для этого в углу у интендантов в писарской.
7 сентября. Дождь, слякоть. С юга, со стороны Ярослава, редкое буханье из пушек. Ночью, по заявлению моих генералов, я сильно кричал: командовал в атаку и в штыки!.. Едят все и невыносимо чвакают, ужасно раздражают, да эти еще генералы с своими всеми возимыми удобствами – умывальниками и сральниками…
Ужасно мы бедствуем в продовольственном отношении; стол скверный; нельзя достать ни яиц, ни молока; бедствуют и несчастные лошадки – не хватает овса и сена. Еще ужаснее то положение, что тыл наш совершенно не устроен. Наши «победы» представляются мне каким-то недоразумением судьбы: зачем бегут австрийцы? Только бы понаперли теперь они на нас, и мы, при теперешнем бездорожье и нашей необеспеченности в существенных ресурсах, были бы, кажется, смяты!! Наша мощь а глазах австрийцев мне кажется лишь воображаемой. Упадок духа – великий отрицательн[ый] фактор при всем совершенстве даже и материальной части.
Человечество все можно разделить на две категории людей: самая наибольшая категория из них – дураков, желающих только жрать и стремящихся только к удовлетворению себя самым необходимым, ч[то] б[ы] лишь не умереть («не до жиру – быть бы живу!»), и значительно меньшая по численности категория – умников, желающая уже кушать, да еще «сладкого» и «жареного», да все больше и больше, в ненасытном стремлении себя все больше и больше насытить и упрочить себе возможно больше земных благ, не разбирающая средств к подчинению себе дурацкого большинства, пуская для это цели в ход все и избирая самое лучшее и надежное для себя: утверждение этого большинства в невежестве, в рабстве, создавая для их подчинения себе государств[енный] строй – королей, царей, даже самую церковь… Вот смотрю я теперь, как играют чувствами серой массы государства – Австрия, Германия, Россия! Противники (вернее всего, их правители – «умники») наши энергично пропагандируют, что мы, русские – людоеды, мы же о противниках распускаем слухи, что они и отравляют колодцы холерными культурами, и перерезают пленным нашим сухожилия и учиняют над ними всяческие каннибальские жестокости. Но не надо быть особенно глубоким человеком, ч[то] б[ы] чувствовать, что во всей этой взаимной массовой распре темных людей где-то за кулисами сидит tertius gaudens[184], тот некто в зверино-хищном облике, невидимо дирижирующий своей дьявольской палочкой… Люди в ослеплении мрут, как мухи, но… но кому-то это весьма выгодно, кому-то хочется еще больше и больше сладкого и жареного!!
Сейчас приходил ко мне врач дезинфекционного отряда 46-й дивизии, с чистой душой поведавший мне в отчаянии, что он в состоянии сделать… Мой ему дружеский совет и моя моральная ему поддержка. Хоть что-н[ибудь] надо делать положительного, если нельзя объять необъятного.
Сегодня – воскресение, и в прилегающей церкви обедню служил униатский священник, имевший гражданское мужество после обедни провозгласить многолетие нашему царствующ[ему] дому; после же евангелия обратился к собравшимся с речью, что-де теперь они переходят в новое подданство, но вера их останется у них, тоже и религиозным главой у них останется тот же папа; стоявший в алтаре наш полковой попик тут же прервал его, сказавши, что насчет сохранения веры их – «что Бог даст!» Поступок был не из тактичных.
Возвратилась 1-я бригада 46-й дивизии, бывшая в 4-й армии. Бодрые рассказы офицера относител[ьно] систематического погрома ими австрийцев, у к[ото] рых им пришлось видеть постоянно одни лишь пятки. Так как с верхушек колоколен была производима евреями сигнализация, то с благословения нашего епископа войска наши стали палить по главам и крестам церквей. Ярослав, оказывается, предстоит нам взять не так-то легко, как Сеняву, к[ото] рая, будучи очень укреплена, сдалась нам без особенного сопротивления; австрийцы здесь воспользовались нашим природным ротозейством, выставивши в передовых окопах несколько человек, махавших белыми флагами в знак сдачи, и как-то успели вывезти из города много осадных орудий и людей, так что Сенява нам досталась без пролития крови с 30–40 челов[еками] австрийцев.
Весь день дождь. Ночью получил письмо от Сони[185], датировано 25 августа. Обращается ко мне с такими мелочами, от к[ото] рых теперь так далека душа моя…
8 сентября. Разведривается. По небу бродят дождевые тучки. Умеренный южный ветер. Совершаем передвижение на Сеняву, верст за 6–7 к западу. Дорога песчаная. Перед самой Сенявой – гора, вся укрытая укрепленными позициями. Еще до въезда в Сеняву – запах гари. В Сеняве – картина пожарища и разрушения. Остановился со штабом за городом, в роскошном замке князя Чарторыйского, бежавшего куда-то; замок – в роскошном парке, верх великолепия; огромнейшее здание; чудная исковерканная, разгромленная обстановка; весьма ценная и богатая библиотека с древними историческ[ими] книгами (напр[имер], подлинные сочинения чуть ли не самого Коперника и пр.), масса дневников, писем, письменных актов – все разбросано, растоптано; многотысячные картины знаменитых художников – выпачканы, у нек[ото] рых изображенных лиц – глаза и носы проколоты!! Дивный буфет с великолепными вазами и пр. Все брошено, полуразбито, расхищено[186]… Господи, Боже мой! Какая грустная картина разрушения и опустошения. Сколько исторических ценностей погибает в жертву проклятой человеконенавистническ[ой] бойне. Попалась изданная за границей книжечка под заглавием «Революционные стихотворения Пушкина, Лермонтова и др.», а на обратной обложке – «Еротические стихотв[орен] ия Пушк[ина] и Лерм[онтов] а – единственная вещица, к[ото] рую я по праву (!) войны присвоил себе[187]. В отношении же ценных вещей (кофточек бисерных и др. модных утилитарно ценных изделий для «своих жен») мародерствовали наши офицеры, начиная с генералов, кончая прапорами. Возмутительное явление: солдат же, мучимых голодом, наказуют преданием полевому суду, а по меньшей мере плетьми за кражу яблок и съестных продуктов!! Сочинение Коперника успел стибрить сам прокурор, но я его не виню: в его, как и в моем маленьком акте мародерства, был, по-видимому, лишь один элемент – духовный, идеалистически-архивный, нашим женам чуждый!! В замке-дворце бежавшего пана Чарторыйского несколько «каплиц» – домашних церковок. Пан Чарторыйский (кандидат на польского короля!) стоял во главе Сокольских политических организаций, и его судьбу наши штабные уже предрешили – без всяких разговоров повесить с звериной жестокостью, указуя и на портреты женских фигур, как главных-де пружин революционной настроенности бежавшего пана!
Благостное настроение навевают на мою душу огромный живописный парк столетних липовых и кедровых деревьев, цветники, самый замок, поэтические аллеи…
Страдаю от исключительно почти мясной пищи; терпим недостаток в яйцах, молочных и хлебных продуктах; все опустошено впереди, до перехода в Венгрию, вероятно, предстоят еще большие лишения. Хуже в отношении питания, чем в японскую войну. Нижние чины едят в течение месяца наполовину хлеб, а наполовину – сухари[188]. Сильно задерживается наша переправа через Сан: за дождями река сильно поднялась и наведение моста, взорванного австрийцами, замедляется, что на руку нашему противнику.
Сенява, оказывается, родина Мицкевича, к[ото] рому у почты поставлена статуя.
Сегодня день Рождества Богородицы, полный для меня поэтического содержания в родных палестинах.
9 сентября. Погода хмурая. Проночевал в панских-княжеских хоромах вполне «по-господарски». По донесению Крещатицкого и Полякова нынешней ночью занят нашими войсками Ярослав, к[ото] рый австрийцы оставили без боя, и сами бегут, «бросая орудия и обозы», жители же усиленно грабят город! Что за штука? Штабные мои смотрят на дело более просто, чем я: они убеждены в панике и упадке духа австрийцев, я же подозреваю, не играют ли они с нами в поддавки и не готовят ли нам какой-н[и] б[удь] сюрприз, психологически верно учитывая нашу обычную халатность и ротозейство.
Хожу все и любуюсь с болью в душе остатками разрушенных сокровищниц в замке…
Оказывается, мои подозрения подтвердились: все эти паны, как, напр[имер], Сморчевский в Жданном, в Избицах и пр., у к[ото] рых так жадно стремились останавливаться наши «автомобильные» генералы Федяй и Зуев, имели подземные кабели к австрийцам, к[ото] рым они сообщали о всех действиях наших военачальников!
Наши крестьяне живут бедно, но беднее еще живут, по-видимому, галичане; удивил меня вопрос мальчугана, мало-мальски говорящего по-русски: «А что, жиды перестанут теперь над нами пановать?» Жиды-то над вами, пожалуй, перестанут пановать, грустно думалось мне, зато будут над вами господарствовать наши урядники, земские начальники и наши самобытные паны!.. Во всей глубине теперь постигаю всю неправду, в к[ото] рой живет мир! Лишь внешний лоск какой-то культуры, цивилизации, а внутри-то нас все те же звериные вожделения животной борьбы за существование на принципе засилия силы над правом.
В занятом нами Ярославе австрийцами брошено 150 пушек – следы загадочного поспешного отступления; говорят, будто умер Франц-Иосиф, и в Венгрии теперь революция, для укрощения к[ото] рой оттягиваются войска в тыл. А на германском-то фронте дела наши, видно, неважны: поднятый было Ренненкампфом бум его стремительного наступления обратился в последние дни в столь же, кажется, его стремительное отступление. Не умещается в моем сознании мысль, ч[то] б[ы] мы могли победить германцев: ведь у них всякое изделие совершеннее нашего, а, следоват[ельно], и методика, и техника ведения боя должны превосходить наши; разве только нам помогут возникшие к[акие]-л[ибо] восстания в стране неприятеля, морозы и проч. стихийные явления, как вот теперь – с австрийцами, к[ото] рые будто бы бегут и бегут от нас. Случайно попадающихся под руку наших газет и не хочется читать – пишется в них лишь одно нам приятное, без минусов – одни плюсы, а душа жаждет правды. Рыская по апартаментам замка, нашел растоптанную и изорванную на полу среди сора – папскую буллу, удалось прочитать лишь «pontifex»[189]… Мучаются у нас с наведением мостов через Сан.
С 1 часу до 5 дня производил санитарный осмотр 1-й бригады 46-й п[ехотной] дивизии. Потрясающе грустная картина: дождь, промокли палатки, мокры сами солдатики, площадь стоянки загажена; солдаты по нескольку дней не видят хлеба, да и сухарей не хватает, каши тоже не едят; сапоги у многих совсем развалились; испробованные же мною щи с порцией мяса были вкусны; во многих ротах не хватает сахару, чаю, соли. Недостаток в хлебе восполняют употреблением картошки и овощей, по большей части сырых. Золотой наш солдатик: настроение в общем благодушное, даже веселое; «дайте нам, в-ство, только хлебушка сколько следует, и мы будем хоть куда», – говорят они, а то «в церкви просфоры дают больше, чем нам хлеба» – оттого-де мы несколько и ослабли… А пишут в газетах, да и у нас сытенькие военачальники с наслаждением разглашают, что австрийцы голодают, а наши-то войска разве голодают меньше?! Мне думается, что там, пожалуй, лучше поставлено дело снабжения армии всем необходимым, чем у нас, а почему? А потому, что всякие изделия австрийские лучше, чем наши, русские!! Это видно и по захваченным в плен повозкам, мундирной одежде и пр. У нас много болеющих животами, поносами, куриной слепотой, чирьями, накожными болезнями, имеются дизентерики. Негде теперь мало-мальски помыться. Неприготовление каши военные объясняют то неимением крупы, а если есть крупа, то неимением котлов. Кто виноват, что наши солдаты голодают и холодают? В отдельности взятые: и я делаю, что могу, и корпусной интендант Мартынов, человек, по-моему, безусловно честный и деятельный, делает тоже что может; не мало найдется таких же как мы и еще кой-кого. О! Какая боевая сила были бы наши солдаты, если бы они получали все, что им положено по закону! Как мало внимания уделяют наши военачальники, ч[то] б[ы] веление закона исполнялось педантически, и дело это поважнее, чем питание пушек снарядами. Беспорядочность, халатность, распущенность наша российская, дезорганизованность видна теперь во всем. Готов биться об заклад и держать к[акое] угодно пари за то, что такого безобразия не может быть ни у австрийцев, ни у германцев. И, тем не менее, мы можем еще победить тех, у кого больше порядка!! Большому испытанию подвергается судьбой наш здравый смысл[190]…
Из далеких краев привезли нам в офицерскую столовую несколько десятков белых хлебов; режут их тоненькими ломтиками и в скудном количестве, т[а] к к[а] к доставать трудно (цена 12 к[опеек] штука). Масляный голод восполняю оставшимся еще у меня запасом вывезенного еще из Москвы топленого масла (3–5 фунт[ов]!), к[ото] рое до сего времени не испортилось. За утренним чаем довольствуюсь одной сушкой существующих еще у меня баранок.
Около 9 часов вечера залег спать; что делается снаружи – в природе – и не смотрел бы!
10 сентября. Слава Богу – погода проясняется. Стоим в том же замке-музее. Большое количество уцелевших картин наша публика собирает для отсылки в Румянцевский музей; сколько до него дойдет, а сколько – в частную собственность, лишь Богу известно; последнее было бы не так отвратительно, если бы не имело меркантильной цели.
После утреннего чая прошелся по дивной бесконечной аллее парка[191]; деревья одеваются уже в багряные ризы; под ногами мягкий ковер опавших листьев. Гулял мысленно с своими ребятишками, к[ото] рые мне так дороги, особенно в освещении лучей прошлого, когда они были поменьше… Набрел случайно на сторожку, где съютились в тесноте несколько семейств польских с детишками, терпящих большую нужду в пищевом довольствии. Раздобыл у них бутылку молока «готована», т. е. уже вскипяченного; на вопрос сколько стоит отвечали: «10 копеек»; я сообщил, что русских денег у меня нет, а есть геллеры; тогда ответили: «10 геллеров»; но у меня были монеты 20-геллерн[ого] достоинства, к[ото] рые я отдал, вызвавши от них большую признательность.
Саперы все возятся с устройством мостов через Сан, к[ото] рые оказываются непрочными, т[а] к к[а] к быстротекущ[ая] река выворачивает камни и сваи; объясняют последнее спущенными будто бы шлюзами со стороны австрийцев; но вероятнее всего это зависит от характера реки, бегущей с Карпат.
4-я армия отходит на германский фронт. 17-й корпус – в резерв. Несчастная судьба, преследующая Нежинский полк[192], потерпевший большую катастрофу и в текущую кампанию. В обилии получаю всякие предписания и циркуляры для зависящих распоряжений, полный трюизмов и маниловщины, вроде того, что солдаты должны перед пищей тщательно мыть руки, пить только кипяченую воду и т. п. Получена нелепая телеграмма от главнокомандующего, к[ото] рую привожу в текстуальной точности: «В видах предупреждения желудочных заболеваний главнокомандующий разрешил по 1 ноября отпуск бутылки красного вина на каждого нижнего чина армии для прибавления к чаю или теплой отварной воде; интендантству приказано ускорить приобретение и отпуск вина; впредь до отпуска вина натурой таковое приобретать покупкою с представлен[ием] счетов… Главнокомандующ[ий] приказал командующему армией установить наивысшую предельную стоимость покупки вина…»[193] (sic!) Типичное немышление в кабинете сидящих людей, не видящих действительность в глаза и в лучшем случае играющих в руку кому-то, к[ото] рый при означенной операции наживет большие гешефты!! Действительность же неприкрашенная такова, что солдаты наши (сегодня осматривал остальные два полка 46-й див[изии]) буквально голодают, получая уже в счастливые дни не более фунта хлеба, а то все время – на сухарях, да и тех-то [не] в полной даче; в один голос несчастные вопиют: «Дайте, в-ство, только хлебушка!»[194] Трагическая картина. Кроме того, солдату не додают чаю и сахару, а также каши. Самое большее – если иногда дадут по одному пиленому куску сахару в день! Солдаты все оборвались; у многих нет шинелей, сапоги развалились, нет белья, кроме того, к[ото] рое на теле преет. Все обовшивели, исчесались! Один ужас и ужас. Второй раз сегодня обо всем этом докладывал новому командиру. Надо еще удивляться, что пока не появляется пандемических заболева[ний], но они, кажется, недалеко! Бивуаки загрязняются до невероятия (см. мою полевую записку № 15 от 10 сент[ября] командиру корпуса!)[195]. Вот где во всем апофеозе чувствует врач свое одиночество и бессилие, а вследствие этого и глубокую душевную муку… «Серая скотинушка» наша поражает меня своей выносливостью и терпением!! То, что теперь я вижу, не испытывали солдаты даже и в дни мукденских отступлений!
С полным неустройством тыла – поражающая неорганизованность связи: даже служебные пакеты затериваются и не передаются по назначению. Плачь и жалоба мне одного старшего врача полка, что канцелярия полка отказывается принимать его служебные пакеты! Хаос невообразимый! Удивляюсь, как еще мы побеждаем австрийцев, н у них, очевидно, в тылу что-то неблагополучно, почему они даже без боя покидают такие укрепленные пункты, к[а] к Сенява и Ярослав. Изменяется движение нашей армии на западное – к Кракову[196], и Карпаты, может быть, не придется переходить. Приятные и утешительные предсказания почтеннейшего нашего вр. и.д. начальника штаба полковн[ика] Галкина, что мы в ноябре месяце будем уже в московской «Праге», т[а] к к[а] к-де война долго никоим образом продолжаться не может. Австрийцев считают уже разбитыми! На германском фронте дела наши, видимо, неважны: Жилинский[197] смещен, на его место – Рузский, а на место Самсонова – Радко-Дмитриев[198], болгарский герой.
Судейцы, устроившиеся в симбиозе с моими врачами сан[итарно]-гигиенич[еского] отряда, дуются до глубокой ночи в карты (по большой!).
11 сентября. Погода ясная, небо лазурное. В каменном здании – свежо. Хотел было распорядиться протопить печку, но осторожный человек – мой сожитель – удержал меня: а вдруг да окажется положенной австрийц[ами] в нее бомба! Соседи по коридору протопили благополучно.
Получил сегодня от Сережи-сына письмо, привезенное приехавшим из командировки писарем. Мой кабинет – пишет он, – хотят отдать под помещение двух раненых! Sancta simplicitas![199] Пусть питают свое сердце сознанием исполняемого долга.
Известный скрипач в Москве К. С. Сараджев[200] дирижирует там симфоническ[им] концертом, у нас же состоящий обозным нижним чином завтра командируется с транспортом массы картин, забранных в замке пана Чарторыйского для доставки их в Румянцевский музей. Дал сему молодому человеку поручение отвезти письмо моим ребятишкам и привезти мне самое необходимое.
Второй день недомогаю: слабит, болит живот и лихорадит. Решился протопить комнату. Чудной конструкции печи; вот где поучиться нашим русским их строить!
Слухи ходят, что очищаются форты у Перемышля, Венгрия со смертью Франца-Иосифа намерена отделиться от Австрии… Штаб нашей армии уже перемещен в Ярослав… Возмутительно-безобразная работа полевой почты, через к[ото] рую неделями не доходят, а то и совсем пропадают даже служебные пакеты! Приказом по армиям введена и у нас с 3 сентября военная цензура всех корреспонденций; цензором назначен Лопатин – преотвратительная, бездушная говорильная машина – типичный светский человек… Говорят, что в бинокль можно теперь видеть комету у Большой Медведицы[201].
Рано лег спать без ужина. Пища надоела, вся она на сале, а не на масле, к[ото] рого никак нельзя достать; белый хлеб достаешь лишь сухими тоненькими ломтиками, как артос в церкви. Предстоит завтра переправа черед две реки – Сан и Вислок.
12 сентября. Прекрасная погода. Выступаем верст на 20 на запад – к Гродзиске[202], и далее предположено идти в том же направлении вплоть до Кракова, чтобы достигнуть его дней через 10. Это – в лучшем случае, в худшем же мы можем еще раньше перейти опять в пределы России, к границам Германии.
Получена телеграмма главнокоманд[ующ] его о неизбежной необходимости заменить солдатам хлеб картофелем, так к[а] к источники первого иссякли. Нам предстоит серьезное голодание; положение в санитарном отношении угрожающее.
Рад очень слышать из уст начальника штаба Галкина, что Куропаткин[203] – гений, и при нем настолько бы был обеспечен тыл, что солдаты и мы с ними не находились бы в таком бедственном положении относит[ельно] довольствия хлебом, сахаром и др. видами довольствия. Мой адъютант перед выездом из замка не выдержал характера: хотя других осуждал, а сегодня не вытерпел и «взял на память себе, как другие», два бронзовых роскошных подсвечника. Подозрительны частые легкие случаи в боях ранений в левые руки и в ноги… Очень хорошо устроены в селениях колодцы с цементирован[ным] срубом.
Третий день мучаюсь болями в животе и поносом; белого хлеба нет, а черного желудок не выносит.
Около 2 часов дня прибыли в назначен[ное] место, переехавши два моста – один через Сан, понтонный, а другой – через Вислок, плотовой. Командир Пултусского полка Малеев[204] до сих пор неизвестно где – на небе или на земле; Несвижского же гренад[ерского] полка – мой знакомый Герцик Николай[205] – во время паники полка 13–15 августа покончил с собой самоубийством. Штаб остановился в школе; я с адъютантом в избушке против. Хозяин добродушный; достал у него яиц, за десяток к[ото] рых он просил «рупь», но когда я дал ему три монеты по 20 геллер[ов], он с признательностью благодарил. Лошадки мои опали в теле от недокорма. Все меры употребляю по покупке овса и сена, ч[то] б[ы] только лошади были сыты. Досужие разговоры моих штабных о всыпании нагайками и мордобитии, к[ото] рое они совершают с особенным смаком [с] изголодавшимися солдатиками.
13 сентября. Стоим на том же месте, т[а] к к[а] к не все части корпуса подтянулись к назначенным им пунктам. Погода хорошая[206]. Живот мой не унимается: после черного хлеба несет «гвоздем»… Много канители по приближению головных этапов к войсковым частям. Прошу телеграммой уже не в первый раз заведующего этапно-хозяйств[енным] отделом армии, ч[то] б[ы] он прикомандиров[ал] к корпусу хотя бы два неприданных дивизии полевых госпиталя для действия их в качестве промежуточных предголовных этапов или же придвигал гораздо ближе этапный пункт.
Разговоры мои с командир[ом] корпуса Рагозой; его убежденная якобы речь относительно превосходства гомеопатии над аллопатией; какая уверенность, сколько внешнего апломба и какая бездна невежества; нехотя я подавал реплики и считал себя бессильным, да и бесцельным обратить его в веру здраво-научно смотрящего на вещи человека; уж такое воспитание у военных: все для них ясно как 22=4!!
Посылаем в Россию за полушубками себе, поснимали с нас мерки; утешаюсь, что наперекор нашим заботам об обеспечении себя на зиму судьба возьмет, да и пошлет до ноября мир мирови… конец бушующей смерти. Сердце мое невыразимо радостно встрепенулось, когда вышедши утром я вдруг взглянул на школьное здание, перенесшее меня воспоминаниями на дорогую родину; а эти ученические парты, за к[ото] рыми приходится теперь располагаться создают в воображении златые дни детства. В этой деревне, да и вообще во всех проходимых австрийских деревнях, школа – лучшее здание в поселении, не как у нас в России, где таковым является часто трактир или кабак. Эта деревня, по сравнитель[но] меньшей своей опустошенности и при своем относит[ельном] безлюдьи наиболее напоминает мирную обстановку жизни; жители с ребятишк[ами] как-то выглядят менее затравленными.
До позднего вечера слышалось глухое артиллерийск[ое] бухание со стороны Перемышля. Обжора-хищник Лопатин[207] ухитрился устроиться в военные цензоры, за что получает по 3 руб[ля] суточных. Возмущает меня обычная картина человеческих сближений не по душам, а по внешнему положению; точно люди какие-то машины, притягивающиеся лишь магнитами тона и материальной взаимной прилаженности…
Прочитал «Русское слово» за 31 августа; не менее «Нов[ого] врем[ени]» имеет тенденцию к обработке общественного мнения… Пишется о великих наших героях и о беспримерном подъеме духа в войсках и о всех наших совершенствах, противопоставляемых только одним отрицательным качествам наших противников. В разговоре за ужином на политические темы с гаданиями о моменте заключения мира как-то странно было слышать от наших военных интеллигентов ссылку на слова манифеста нашего государя, что не будет заключено мира, пока ни одного неприят[ельского] вина не останется на нашей земле, – ссылку к[а] к на безусловное и непреложное доказательство того, что иначе и не может быть. Говорит ли у них язык без участия рассуждения, или рассуждают они неглубоко?..
Старший врач Варшавского полка обратился ко мне с вопросом, как осуществить меры массовой дезинсекции, т[а] к к[а] к вшами пропиталась вся солдатская одежда! Каждый день все переходы и переходы, без остановок, негде вымыться…
Взошла и показалась моя прелестница – луна…
14 сентября. Погода хмурая, холодная. Переход верст за 10 к западу на Жолыню[208]. С утра еще до выступления увидел толпы поспешно идущих крестьянок, расфранченных (нек[ото] рые вроде как в кринолинах), с евангелиями в руках; это молиться Богу в костел. Сегодня, оказывается, праздник и у поляков – Воздвижение. Как я любил этот праздник у себя на родине! Собралась кучка детишек, к[ото] рых я ласкал как родных; к сожалению, по-русски они «не разуми» – не понимают.
В полдень пришли в Жолыню – местечко вроде нашего уездного городка. Грандиозный костел, к[ото] рый мог бы быть украшением и любой нашей столицы. Зашел туда. Масса молящихся – целая, показалось мне, тысяча: справа – женщины, слева – мужчины; все хором пели, но пение унисонное и без органа, т[а] к к[а] к органист забран на австрийскую службу…
Боже, к[а] к я страдаю при виде картины разрушения! Штаб остановился в роскошной квартире ксендза, я – немного поодаль, в квартире австрийск[ого] жандарма (по-нашему – станового?); ни того, ни другого в наличии нет – бежали. Интендантск[ие] – в школе. Все означенные и многие другие помещения разграблены, а вся мебель и обстановка исковеркана, побита – нашими солдатами. Это один сплошной ужас! Например, зеркала, картины, школьные пособия (глобусы, модели и пр.) – на всем видно прикосновение диких зверей; но зачем? Хорошее теперь понятие будут иметь о новых хозяевах мирные обитатели, бывшие до сего в австрийском подданстве! Еврейская половина городка сожжена и до сего времени дымится. Потрясающая картина человеческого горя: женщины, дети, старики рыдают и льют горькие слезы… Боже мой, Боже мой…
Против костела стоит изящный крест каменный на постаменте с изваянием распятия Христа, под ним надпись: «Grunwald, 1410–1910». В квартире же ксендза – картина, изображающая «Polonia, Konstytucya 3-go maja 1791 roku»[209].
Наши солдатики очень нуждаются, между прочим, в табаке; трут теперь в порошок дубовые листья и их курят; «добре только от этого табака кашляется», – заявляют они. Из подвалов ксендза достали несколько бочонков превосходного пива.
К вечеру и всю ночь – дождь. Заглянул к на отлете поселившемуся в школе Рябушинскому и группе молодых офицеров: пьянствуют, очевидно, за счет Рябушинского!
Поехали сегодня в Москву за теплой одеждой офицер[ским] чинам. Бедствиями войны глушится мое личное неизбывное горе…
Через 3–4 дня ожидаются адовые бои, каких еще не было; нам идут навстречу три германских корпуса.
Встает вопрос даже мало-мальски порядочно до сего времени не улаженный – вопрос эвакуации. Относительно местонахождения головного этапного пункта, роль к[ото] рого теперь на нескольк[о] дней исполняет 105-й пол[евой] госпиталь, приданный 46-й дивизии; настоящий головной этап прибыл в Сеняву, значит госпиталь должен нагонять дивизию; но что дальше? Санитарные нужды военных-строевых теперь никого не интересуют, разве только в том случае они вспомнят о нас, если их лично припрет б[олезн] ь, или надо будет найти виновника развившейся болезненности – задержки в эвакуации и т. д. Военная медицина на войне должна, по-моему, иметь органами: а) гигиенически и вообще просвещенных офицеров (ответствен[но] ведающих мерами предупреждения заразных заболеваний, мерами эвакуации), да б) лечащих и эпидемических врачей (для пользования уже заболевших и тушения уже развившегося пожара). Как, может быть, ни трудно офицерскому корпусу проникнуться санитарной идеологией, но еще труднее врачу сделаться офицером. Военные, т. е. офицерство, да будет ответственно за профилактику б[олезн] ей, врачи же – за правильное распознавание и лечение их! Так!
15 сентября. Погода хмурая, с полудня же – слезливая. Воспользовавшись дневками и нашего штаба, и всех частей корпуса, поехал в санитарную инспекцию 70-й пех[отной] и 3-й грен[адерской] дивизий в Стоберне[210], верст за 25 от Жолыни через Ракшаву[211], Веглиске[212], Залесье[213], Медынь[214] в сопровождении двух казаков; дорога пролегала по лесам, перелескам, простокам и холмистой открытой местности, с левой руки – к югу – виднелись в туманной дымке очертания высившихся к небу Карпатских гор; лес по преимуществу – хвойный. Ехал руководимый картой-десятиверсткой да расспросами крестьян, указывавших мне направление, названия и расстояние попутных деревень («тенде», «просто» – значит «прямо», «километр», «пулкилометра»). В Стоберне – большой камень, на к[ото] ром иссечена надпись: «Grunwald, 1410–1910».
Осмотр нижних чинов означенных дивизий представил столь же потрясающую по трагизму картину, как и чинов 46-й дивизии: люди положительно голодают – недостает положенного количества хлеба, сухарей, крупы, даже соли и мяса. Жители теперь все от солдат прячут и зарывают. Выражение лиц у солдат – как у сфинкса, устрашающе-загадочное. Такое бедственное положение относительно питания долго продолжаться не может и должно разразиться катастрофой! Все это следствие полной неустроенности тыла; вопиющее также положение относит[ельно] эвакуации раненых: оказывается, до сего времени нет полевой эвакуационной комиссии, вследствие чего безо всякой сортировки и отбора раненые легко, напр[имер] в палец, наравне с тяжело раненными засылаются далеко в тыл. Вот плоды евдокимовской милитаризации военных врачей! Врачи как офицеры – что, по-моему и нужно было ожидать – с трезвоном провалились!
Путаница и неряшливая доставка служебных телеграмм… В результате картина вавилонского смешения языков. Моя прогностика оправдалась и относительно начальника 35-й дивизии Потоцкого[215], к[ото] рый за неспособность смещен с должности. Получил сегодня письмо от моего любимого сына Сережи, датиров[анное] 2/IX.
Только что приехал обратно в Жолыню, как неожиданно для меня предъявлена мне была следующего содержания телеграмма, посланная Главным военно-санитарным управлением еще 28 августа: «Высочайшим приказом 17 авг[уста] д[ействительный] с[татский] с[оветник] Кравков назначен заведующим санитарной частью 10-й армии»… Где эта армия – наверное, только вновь формирующаяся – неизвестно, секрет, и, прежде чем ехать в ее штаб, предстоит предварительно съездить в штаб главнокомандующего – в Холм. В общем, новым своим назначением я доволен – меньше буду испытывать трепатни, к[ото] рая стала меня сильно утомлять, выйду из этой грязи постоянной, от которой начинаю вшиветь, и буду жить более оседло, а главное – не буду воочию видеть и мучительно созерцать людское горе, к[ото] рому также не могу помочь, как ковшом вычерпать море; кроме того – вырвусь я окончательно из этой ненавистной мне банды штаба 25-го корпуса!
В аптеке по 20 к[опеек] нек[ото] рые из наших покупали «воду Франца-Иосифа».
Утром группа женщин на плечах несла гроб и пела похоронные песни, за ними толпа односельчан…
16 сентября. Преотвратительная осенняя дождливая и слякотная погода при сильном ветре, пронизывающ[ем] буквально до костей. В 9 часов выступил со штабом на СЗ – Ранишув[216], верст за 25, через Подлесье[217], Соколув[218]. Дорога раскисла до необычайн[ости], но благодаря песчаному грунту оказалась более сносной, чем в Маньчжурии; пролегала по большей части по хвойным лесам и перелескам; дождь с градом и ужасным ветром лил все время. Солдатики, очевидно голодные, шли кто покрывшись клеенкой из-под шахматн[ого] стола, кто какой-н[и] б[удь] женской кацавейкой, кто на одну ногу обутый в австрийские штиблеты; до слез жалкое зрелище! Во взглядах их я читал что-то зловещее и укоризненное по нашему адресу – едущих в экипажах, и даже как бы постигающее, знаем-де мы вас, заставляющих-де нас, навозников, ради ваших барских прихотей теперь жертвовать своей жизнью…
Около 3 часов дня прибыли в Ранишув. Приятное зрелище в деревнях: на наружн[ых] стенах домов висят иконы Спасителя или Божией Матери. На полпути – в Соколуве – запривалил с судейскими и одним польским семейством, у хозяйки сын – во Львове в австрийских войсках, не имеется о нем никаких известий; угостили нас, конечно, за пенензы, гербатой, хлебом, маслом[219], горячей картошкой.
Предполагаю к послезавтра ликвидировать свои дела в штабе и поеду в ставку главнокоманд[ующ] его для разыскивания местонахожден[ия] штаба моей армии. В перспективе предстоит долгое скитание, «в моем скитаньи – много страданий». Бог даст, обрету на новом месте больше душевного покоя, чем здесь[220]. Лошадушки мои и тарантасик пока не оставляют желать лучшего[221]…
Залег в кровать часов в 9 вечера. Свалился от усталости как сноп. Ночью от тревожных дум – к[а] к-то я один, без переводчика, буду скитаться по австрийским деревням, со скрытым неудовольствием и враждебностью нас встречающим – в розысках штаба 10-й армии, о к[ото] рой только известно, что она формируется из сибирских войск («японская» армия!), а где пункт формиров[ан] ия ее – никто не знает (все «секреты»!). Опять случилось расстройство кишечника.
17 сентября. Офицерство друг друга поздравляет с днем ангела кто Верочки, кто Любови, кто Наденьки и пр. Как хорошо теперь в Рязани…
В 9 час[ов] утра выехал в компании с судейскими на Станы[222] к северу. Наладил всякий раз ехать или с ними, или с интенд[антом] полк[овником] Мартыновым исключительно лишь для использования их в качестве таранов, ч[то] б[ы] легче было опережать следующие обозы, где требуется внушительный повелеавющий голос военных начальников, я же для этого слишком мягок, деликатен и жалостлив в обращении как с людьми, т[а] к и животными. Ехали до места новой стоянки часов 6. Дорога большей частью пролегала по глубоким сыпучим пескам и дремучим сосновым лесам, отчасти по перелескам. Унылый вид. Такому настроению способств[овала] хмурая погода, ужасно сильный ветер с перемежающ[имися] дождем и градом. В лесной чаще разбрелись следующие войсков[ые] наши части; с одной из них бредет «пан», взятый начальством в качестве проводника и, очевидно, заложника. Картина из «Жизни за царя», только наизнанку – не русский ведет панов, а пан – русских. Кое-то из солдатиков собирает бруснику; по пути пробегали зайцы, дикие козы… Третий день не слышно ни выстрела, с начала же мобилизации ни разу не удалось слышать среди солдат ни звуков гармоники, ни песен.
Пришли в Станы; штаб расположился в брошенном замке-дворце пана Коморовского[223]. Боже мой! Как грустно видеть всякие культурн[ые] ценности разграбленными и сокрушенными! Нельзя винить в этом одних солдат; несомненно, здесь не без большого участия и жители – мещане и крестьяне, ненавидящие панов. Я верю в судьбу: мое новое назначение, совершающееся помимо малейших с моей стороны хлопот, должно, по-видимому, быть для меня переходом из худшего к лучшему; а если мне удастся поехать в ставку главнокомандующ[его] в Холм прямо через Сандомир[224], куда мы с каждым днем все приближаемся, то я себя буду чувствовать в значительной степени успокоенным.
Ночью прошелся мимо палаток; только и разговоров у солдат, что о своей еде… К пищевому голоданию присоединяется теперь и снарядное голодание пушек. Подам доклад командиру корпуса о хроническом голодании солдат и о могущих из этого произойти последствиях. Ч[то] б[ы] избежать лишнего путешествия в штаб главнокоманд[ующе] го, я решил было послать предварительно следующу[ю] телеграмму начальнику санит[арной] части штаба главнок[омандующ] его армий Юго-Западного фронта: «Будучи назначен заведующ[им] санит[арной] частью 10-й армии прошу указания в какой пункт мне выехать». Но командир корпуса настоятельно советовал не откладывать мне своего отъезда и не трудиться посылать означенной телеграммы, на к[ото] рую-де ответ может прийти не ранее 2–3 и более недель, да и не ответят-де прямо на мой вопрос ввиду секретного характера места формирования 10-й армии. Подумавши еще как следует, порешил не посылать означенной телеграммы, а прямо ехать на Холм через Люблин по шоссе. Колебания мои насчет вопроса сколько брать с собой солдатиков: если трех, то надо специально нанимать фурманку, к[ото] рую так трудно иногда достать, а с одним – возницей, ввиду могущих быть случайностей, не так удобно. Порешил на последнем, ч[то] б[ы] не возиться с поисками фурманок, не прибегать к принудительным мерам и быть покойнее. Всеми силами души стремлюсь поскорее прошмыгнуть, как какой-то контрабандист, через границу в пределы своей России, ч[то] б[ы] чувствовать себя как-никак у себя дома и следовать по своим деревням с большими удобствами в смысле нахождения фронта, питания, ночлега, т[а] к к[а] к все-таки хоть кого-нибудь, да найдешь там говорящего по-русски, ч[то] б[ы] тебя понять и объясниться.
В Галиции и в польских губерниях у нас в волостях и деревнях предержащими властя[ми] являются гминные войты и деревенские солтысы.
Сердце мое полно сладких предвкушений, что скоро я буду у себя в России, ближе к своим домашним. Как нянчатся – посмотришь из газет и писем – с нашими эвакуирован[ными] ранеными в городах России всякие благотворительн[ые] и неблаготворит[ельные] дамы; как будто раненые – герои! Они просто «овча, на заколение ведоша», и ведоша насильно; из них масса лодырей, желающих всячески отлынуть от поля брани!
18 сентября. Унылая осенняя погода с перемежающ[имся] по несколь[ку] раз на дню дождем. Сильный ветер. Взял из полевого хозяйства деньги; заготовляют мне всякие бумаги по случаю отъезда, к[ото] рый я определил на завтра. Дневка и стоим в тех же Станах, откуда по кратчайшему пути верст 30–35 до нашей границы. Но не скоро еще я выберусь из областей со всеми этими «пане» да «дзинькуем».
Как ни скверна жизнь, как она ни жестока и бессмысленна, но жить мне все-таки хочется, так хочется. Еду завтра на Розвадув[225] за 20 к СВ, уже один, отделяясь от корпуса; чуть ли не более половины придется проезжать глухими местами. Револьвер, как и в прошлую кампанию, у меня всегда мирно покоится на дне чемодана.
19 сентября. В 10 час[ов] утра, откланявшись своему начальству, отправился к месту своего нового служения; на прощанье пришлось откровенно побеседовать с Рагозой о недавнем прошлом нашего штаба, когда подвизались наши герои-стратеги Зуев и Федяй, – о той затхлой атмосфере, к[ото] рую создавали с оставшимися еще здесь фендриками эти преступники. На прощанье Р[агоза] мне объявил, что поручил начальнику штаба составить для отдачи в приказе благодарности за мою совместную деятельность с ним; я, конечно, поблагодарил, [сказал], что-де очень тронут.
Утро дождливое. Я стремился скорее вырваться из надоевшей мне обстановки и не стал дожидаться навязанных мне было в качестве попутчиц и под защиту двух девиц, стремящихся также в Люблин, к[ото] рых доставил в штаб Крещатицкий, нашедший их, якобы, одних среди развалин панского дома, где они состояли гувернантками. Объявились русскими подданными и умеют говорить лишь по-польски да [по-] французски, и ни слова по-русски. Быть их постоянным кавалером весь путь до Люблина, оказывать им внимание при следовании и остановках для меня являлось бременем неудобоносимым; на этот раз мне хотелось быть совершенно свободным и ехать в одиночестве со своим лишь возницей да моими думами и мечтами.
Направился на Розвадув; дорога почти все время шла по дремучему сосновому лесу; погода то прояснялась, то хмурилась и дождила, и лес представлялся то угрюмо-задумчивым[226], уныло настраивавш[им] душу, то приветливым и манящим. По дороге и ее обочинам попадались массами павшие лошади и брошенные всевозможные и наши, и австрийские повозки. Несколько лежавших в последних предсмертных судорогах лошадок пугали моих коней, к[ото] рые фыркали и кидались от них в сторону. Мой возница, теперь – мой же и Лепорелло, прекрасной души человек, и я его очень полюбил за его святую простоту и сердечное отношение к моим коням. Он из запасных, много лет ездил ямщиком в Костромской губернии. На мой вопрос как-то – «с какой стороны-де поднималось солнце?» – он мне убежденно отвечал: «Сегодня, в-ство, оно всходило с этой стороны, а вчера с другой!» С лошадьми он прямо-таки разговаривает: и они его понимают, и он их. Всю дорогу только и слышишь от него такие восклицания: «Ого-го-го», «гоу-гоу», «эй вы, голубчики», «ну, надувайтесь», «ишь ты, чего делашь», «эх, туташка», «поднимай ноги-то», а то вдруг крикнет на них: «Эх ты, пантюха-кузьма!»
С полудня заслышалось сначала глухо, а затем и пошибче артиллерийск[ое] бухание со стороны Сандомира; мой возница определил, что «здорово садят». При остановке в лесу у одной корчмы мой слух услаждали голоса каких-то птичек – «футь-фуить…» Ехал без задержек больших, т[а] к к[а] к следований обозов на нынешний день не предназначалось; пришлось лишь сделать версты в 2 объезд шоссе, так как на нем два моста на р[еке] Ленг были взорваны отступавшим противником. Что-то меня с Лепореллой и лошадками ожидает в родной земле относительно продовольствия; сегодня, выехав из Станов, [удалось] достать даже черного хлеба, за к[ото] рым ходил христорадничать в Георгиевск[ий] Красный Крест; коллега и то лишь из уважения к моему сану и положению смилостивился дать один каравай фунта в три, половину к[ото] рого я уступил своему адъютанту, а другую своему Лепорелло, взявши себе небольшой кусочек.
Приходится все проезжать места, к[ото] рые проходившими и австрийскими, и нашими войсками опустошены, как саранчой; по нескольку дней солдаты не имеют ни хлеба, ни сухарей, восполняя их недостаток употреблен[ием] вареного картофеля, но и его уже приходится добывать с большими затруднениями. Деревни обезлюдели, а кто выглянет, то норовит скорее спрятаться.
Около 2 часов дня мы уже подъезжали к жел[езно] дорожному полотну, за к[ото] рым расположен г[ород] Розвадув, переполненный войсками 45-й дивизии, как муравейник. Так как здесь, очевидно, все уже выбрано по части питания и нам, и лошадкам, то я предпочел проехать еще дальше в деревушку к СВ, к Брандвице[227], – местечко более казалось мне нетронутое; но принужден был остановиться, не доезжая ее – в одном выселке, к[ото] рый отделяла р[ека] Сан, мост через к[ото] рый тоже взорван, и тщетно его наводят уже несколько дней. Это обстоятельство для меня явилось большим тормозом в следовании по назначению. По наведенным справкам придется сделать крюк и выехать завтра на Чекай[228], где есть мост, откуда назад на Радомысль[229], затем – Липу[230] (нашу пограничную деревню), где предполагаю переночевать.
Остановился в скромной избушке у одного крестьянина, к[ото] рый охотно пустил к себе меня к[а] к «генерала», в расчете на мою защиту от засилий солдат. Но ни курицы, ни яиц, ни хлеба купить не удалось у него; «Дюже бида – нет курки, яйка – все хворуем,» – указывал он себе на живот. Еле-еле раздобыл сена, овса же – нет. Быстро мне убрал он комнату и «запалил» печь.
С 3 часов дня совсем разведрилось; ходил к реке, где возятся с устройством моста местные гражданские власти. Заслышались ружейные одиночные выстрелы; две пули просвистели над моей головой; что за штука? Оказалось, это самовольно стреляют наши солдаты, охотясь за куропатками…
Вечером пришли ко мне крестьянки с седовласыми старцами и, кланяясь в ноги, со слезами молили меня о заступничестве, ч[то] б[ы] солдаты не отбирали у одной – последнюю телушку, у другой – поросенка, и т. д. Солдаты приехали реквизировать скот, т[а] к к[а] к сами голодали. Картина по трагизму потрясающая! Придя в хату, я разрыдался. Я очень рад, что пользуюсь теперь одиночеством; нет у меня сожителя по комнате, не вижу я возле себя толпы офицеров и солдат. Чувствую физическую слабость; меж лопатками уже несколько дней как кол стоит и затрудняет свободное дыхание; зато болей в пальцах почти совсем не ощущается; теперешний режим мой – отличное противоподагрическое средство.
Вечером Лепорелло раздобыл «трошечко» молока, смешал его с картофелем и сварил в своей манерке. Ели мы с ним из одной чаши, я – сидя, он – стоя, рассказывал мне, как он 20 лет живал по чужим людям и всеми всегда был доволен… Когда я ему сказал, что, следуя со мной, он получает по 39 к[опеек] в сутки кормовых, он с изумлением воскликнул: «Ой, как много, в-ство!»
Восхитительная лунная ночь – «не могу я уснуть»… А завтра надо пораньше выехать, ч[то] б[ы] предупредить выступление обозов, к[ото] рые запрудят путь, через к[ото] рый я не сумею пробиться.
20 сентября. Еще не выглянула розоперстая Аврора, как я уже встал, разбудил своего возницу, ч[то] б[ы] пораньше выехать, чем начнется движение войск, могущих запрудить дорогу и затереть меня своими обозами. Рассчитался с гостеприимным паном, заплативши ему за полторы охапки сена и «трошечко» картошки с кружкой «млека» 1 талер. Думал, что в деревушке, где я остановился, никого из военных не будет, но ночью слышал голоса и гомон прибывших солдат и лошадей, занявших соседние избы; это нарушило полное любование мое твердью небесной.
Из Брандвицы выехал около 7 часов утра по дамбе на СЗ к Чекай. Погода прекрасная; по обеим сторонам насыпи – масса разбросанных жестянок из-под консервов, раскрывшихся шрапнелей и окопов, к[ото] рыми перерыта оказалась вскоре и сама дамба; ехать пришлось окольно. По пути бегали, как домашние куры, фазаны… По выезде из Вилька Туребска[231] волей-неволей пришлось влиться в массу движущихся войск и их обозов по направлен[ию] к Сандомиру; части принадлежали 14-му корпусу; то обгоняя, то следуя в обозах, доехал до Горжице[232]; на горизонте белел издали Сандомир, но я круто должен был повернуть к СВ на Чекай, обрадовавшись, что опять, Бог даст, буду ехать один, не в водовороте войск. Около 11 часов утра – у переправы через бурливый Сан; в ожидании окончания совершавшейся наводки моста пришлось простоять около часу. Скопилось немало обозов, следовавших на ту сторону. От сердца отлегло, когда переехал мост; направление взял, руководствуясь картой и расспросами «панов», на Радомысль, где предполагал было остановиться лишь на 1–1 часа, ч[то] б[ы] покормить лошадей и затем тронуться через границу на Липу. Дорога шла на ЮВ опять дамбой среди дубняка, по сторонам селения как будто без признаков войны: на полях – пахали, паслись стада коров. Ввиду утомления моих лошадок (из к[ото] рых пристяжка уже несколько дней заметно стала худеть) и ч[то] б[ы] легче достать им корму, я решил временно приостановиться, еще не доезжая Радомысля, в одной показавшейся мне небольшой деревушке; въехавши в нее, узнал, что это самый Радомысль и есть. За лучшее счел остановиться у ксендза, давшего мне приют и скудную трапезу, разделивши со мной пополам небольшую свиную котлету в бураках и картошке, к[ото] рую я проглотил с жадностью крокодила; хлеба, к сожалению, у него не оказалось ни крошки. Радомысль считается за местечко, будучи небольшим селением, но с костелом, без костела же селения называются просто деревнями – весями. Это местечко оказалось, как и до сего времени мне встречавшиеся, также буквально все объеденным и выбранным как австрийск[ими] войсками, два раза прошедшими его, так и нашими («Австрияки ходили туда и сюда, да русские – сюда и туда», – объясняют причину своего оскудения бедные поляки.). Картина полной и всеобщей нищеты – нет почти ни у кого хлеба, ни соли, ни спичек, на проч. предметов первой необходимости. Горько плачутся мне «как начальнику – генералу», что у них войска все отобрали и они принуждены голодать, на коленях просят моего заступничества. Больших трудов мне стоило раздобыть моим лошадкам овса; за девять гарнцев (три водопойных ведра) заплатил 3 рубля русскими кредитками. Ксендз и другие жители в отчаянии, что им делать: бургомистр их приказал им, ч[то] б[ы] каждый дом выпек для наших войск по караваю хлеба; муки же, дрожжей – ни у кого нет! Кругом слезы и плач. Я с своим возницей – на осадной диете, едим минимально; слава Богу, что он из малопищных по натуре; сегодня по пути из обоза как-то чисто еле-еле я выпросил полкаравая черного хлеба[233].
В местечке Радомысль еще существуют следы разрушений, произведен[ных] артиллерий[скими] снарядами. Каким-то чудом уцелели ветхий деревянный костел и памятник «Адаму Мицкевичу, 1910 г.». Оказывается, что памятники Мицкевичу имеются во многих деревнях и местечках[234], и я ошибся, предположивши ранее, увидав этот памятник в Сеняве, что она – его родина; его родина, как объяснил мне ксендз, – Новогрудков[235]. Ксендз заметил во мне необычайную особенность: что я очень заботливо отношусь к питанию и доставлению возможных удобств своему вознице. Скорее бы мне Господь привел вырваться из этого голодного района! Познакомился с австрийским коллегой Становским – земским врачом в Галиции, владеющим настолько русск[им] языком, что можно понимать его. Взаимоотношения врачей и сих последних к пациентам у них, оказывается, отлично урегулированы в этическом смысле в противоположность нашей российской разъединенности[236].
21 сентября. Погода днем гнусная, по прекрасной лунной звездной ночи никак не предвидимая. Заплатил ксендзу за взятый у него пуд с небольшим сена, немного молока и картошку 1 р[убль] плюс 1 крону плюс 10 геллер[ов] и в 8 часов пустился в путь-дорогу. Еду, удаляясь от кромешного ада; дорога не представляла обычного запружения войсками, лишь встретил идущие к Радомыслю 18-й саперн[ый] батальон, 18-ю артилл[ерийскую] бригаду, а еще далее – артиллерийские части 83-й дивизии и 45-й. Проехал Жабно[237], затем Домброву[238], откуда повернул к западу на Липу; последняя дорога была убийственная по своей трясучести, т[а] к к[а] к была устлана поперек дороги уложенными бревнами; непосредственно перед Липой – трясина, из к[ото] рой еле вытаскивали мои кони.