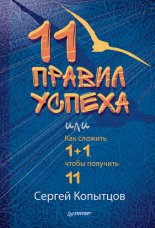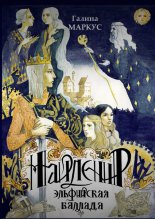Стать огнем Нестерова Наталья

Анфиса повернула голову: Марфа аж светилась вся от какого-то внутреннего ликования, Параська и Степан хитро перемигивались, Нюраня заскучала.
–Что? – не понял возникшей паузы Василий Кузьмич.
Ему было невдомек, что интимная сторона жизни крестьянами никогда не обсуждается. Шутки, намеки – другая статья, а серьезно и публично говорить о том, что только супругов касается, не принято.
–Что к чаю желаете? – спросила Анфиса, тоном ставя точку в разговоре.
Марфа и Прасковья поднялись.
–Куда? – гаркнула Анфиса, досадуя на свою оплошность.
–Деток кормить, – сказала Марфа.
–Заплакали, – кивнула в сторону их комнаты Парася.
Обе снохи вытянулись в струнку, как солдаты перед ефрейтором.
–Идите, – отпустила их Анфиса.
Матери и дети
Сына Марфы назвали Дмитрием. Петр, когда в первый раз увидел младенца, гыгыкнул:
–О! Какой Митяй!
–Дмитрий Петрович Медведев? – задумчиво спросила Анфиса. – Хорошо звучит, пусть будет Митяй.
Давать имена по святкам у Медведевых было не принято, и никакой сакральности за именами они не признавали.
Марфе было не важно, как назовут сына. Ему подошло бы любое имя, потому что любое имя – ничто в сравнении с этим сокровищем. Все равно что дать имя небу. Как угодно его величай, оно все равно останется огромным, переменчивым, непостижимым, великим, жизненно необходимым.
К трем месяцам близнецы Ванятка и Васятка, дети Прасковьи и Степана, едва набирали вес, который был у Митяя при рождении. Сам же он, пухленький, как молочный поросенок, рос словно на дрожжах. У Прасковьи молока хватило бы на одного ребенка, а на двоих недоставало. Марфа прикармливала племянников. У нее-то молока, даже при аппетите Митяя, – залейся.
Кормление младенцев, когда матери оставались с ними наедине, навсегда осталось в памяти Марфы и Прасковьи как время удивительной благости, спокойного тихого счастья. Молодые женщины сблизились во время беременности, называли друг друга сестрами, а теперь их сыновья, родившиеся практически одновременно, – не только двоюродные, но молочные братья.
–Дай я Митяйку покормлю, вдруг мое молоко слаще? – как-то попросила Прасковья.
Марфа протянула ей сына. Митяй рано стал протестовать против тугого пеленания, и ему оставляли руки свободными, укутывая в кокон пеленок только ноги.
Прасковья поднесла к ротику малыша сосок, и Митяй его жадно захватил, еще и ладошки положил на грудь, словно боялся, что источник еды отнимут до того, как он насытится.
–Ой, как тянет-то! – поразилась Прасковья. – Вот силища! Ай да богатырь! Сестренка, а по вкусу ему молоко-то мое, ишь как жадно тянет, с прихлебом.
Марфа, кормящая Ванятку, улыбнулась:
–Намнет он тебе сосок-то. Даром что беззубый, а как прихватит – ыскры из глаз.
–Ты смотри, уже все высосал! И злится, злится-то! Я тебе из другой сиськи дам, коль теткино молочко понравилось. Что за обед в одну перемену? – подражая голосу свекрови, Прасковья притворно нахмурилась. – Мы не голытьба, чтобы одним блюдом, пустыми щами, наесться.
Марфа рассмеялась, заколыхалась, сосок выскочил из ротика младенца.
–Ой, прости, миленький! Такая твоя мама пересмешница, чисто артистка.
Василий Кузьмич запретил давать детям соски – жеваный хлеб в тряпице: «Суют младенцам в рот всякую грязь, а потом удивляются, что у них дети мрут как мухи!» И еще доктор велел в тихий морозный солнечный день выносить младенцев во двор, укутанных, конечно, но чтобы лицо открыто было. Мол, солнечный свет от рахита убережет.
Анфису эти рекомендации поначалу пугали:
–А ну как застудятся дыханием морозным?
–Не застудятся, – говорил доктор. – Я же не прописываю их часами на улице мариновать. Ненадолго! У северных народов только лучик сквозь тучи появится, они своих малолетних эскимосов под него подставляют.
В Сибири для убережения от рахита младенцам давали рыбий жир. Анфиса еще осенью натопила две большие бутыли рыбьего жира: мутноватого – пойдет в тесто и чистого, прозрачного, пахучего – внукам.
–Ну и сколько вы прописываете им рыбьего жира? – спросил Василий Кузьмич, который сам толком не знал положенной дозы и потому нервничал.– Вы даете себе отчет, что любое лекарство действенно только в строго определенной пропорции? Мало – не поможет, много – покалечит. Сначала они своими гнилыми зубами жуют хлеб и толкают его в рот младенцу, а если не помогает и тот продолжает плакать, поят его маковым молочком – опием! Заливают в него масло в количествах, от которого и печень взрослого человека выйдет из строя…
–Не даем мы маку, – перебила Анфиса Ивановна. – Дык сколько рыбьего жиру-то надо?
Василий Кузьмич не слушал и гнул свое:
–Это какой-то естественный отбор по-крестьянски! Большой привет Дарвину! Кто выживет, потом, да, согласен, закаливание, хорошее питание – получите знаменитое сибирское здоровье. Но вы когда-нибудь себя спрашивали, сколько детей умерло от невежества матерей и знахарок?
–Я себя не спрашивала, я у вас интересуюсь на предмет рыбьего жира.
–Десять капель, – принял решение доктор. – Ни одной боле! И на солнце их, на воздух! В избе не проветривается, натопят так, что пот градом, а потом хотят, чтобы микробы не размножались!
К весне, когда внукам исполнилось полгода и Митяй первым уже встал на ножки, Еремей Николаевич сделал им манежик. Квадратный поддон, поверху невысокие балясины и перильца, оструганные до стеклянной гладкости, чтобы дети не занозились. На доски клали одеяло и пускали детей. Такой манежик Еремей Николаевич как-то в городе подсмотрел, а Василий Кузьмич горячо одобрил, что бодрствующие дети не в люльках качаются, а в вольном ползании пребывают. И тугое пеленание, которое якобы от кривых ножек предохраняет, отменил: «Кривые ножки – симптом рахита, дикие вы люди! Сначала бинтуют детей до года, а потом хотят свободу личности получить».
Младенцы были одеты в длинные фланелевые рубашонки, на головах – чепчики, на ножках – из мягкой козьей шерсти пинетки. Под рубашонки им навязывали подгузники для впитывания отходов организма.
Наблюдать за малышами было потешно. Тем более что никто и никогда не видел, как ведут себя подрастающие сосунки. Мать обычно как? Накормит, переоденет и пошла дальше трудиться. Отец или дед раз в день, может, и подойдут, «козу» сделают. А тут зима, все дома, в манежике короеды ползают и гукают. Вот ведь как интересно: мелкота неразумная, а тоже не без проказливой хитрости и подражания. Митяй стоит, покачиваясь, балясины трясет. На секунду замирает – как бы мысль ему в голову пришла. Понятно, какая идея: слышится пулемётное «пук-пук» и звук облегчения по-большому. Ванятка и Васятка, которые только по-пластунски передвигаются, прислушались и тоже следом: «пук-пук» и далее как положено.
–Вот это коллективизация! – смеется Еремей Николаевич.
–Фу, запах! – морщится Анфиса Ивановна. – Прасковья, Марфа, смените детям живо!
Женская половина семьи считала, что близнецы совершенно различные: у Ванятки глазки продолговатее, носик приплюснутее и ушки вывернуты не так, как у Васятки. Мужчины ничего продолговатого, приплюснутого и вывернутого не видели, родных сыновей не различал даже Степан, отец. Зато все сходились в том, что пацанята не по годам, то есть не по месяцам смышленые. На вопросы: «Где мама? Где папа? Где Нюра? Где деда, баба?» – правильно поворачивали головы (правда, папами были и Степан, и Петр, а мамами – и Марфа, и Прасковья). Они узнавали бабушку Тусю, когда та приходила, колотили ногами и руками радостно. Потому что она с ними играла под прибаутки веселые.
Анфиса ревниво бурчала:
– Ты совсем их зашшикотала, уж заходятся!
Сама Анфиса никаких стихов и песенок не знала, а Туся – в изобилии. Научила молодых матерей и колыбельным, и потешкам на все случаи. Просыпается ребенок, потягивается, ему гладят ручки, ножки, разминают спинку (Василий Кузьмич называл это «народный массаж»), кушает ребенок прикорм – толокно с ложечки, плачет, показывает пальчиком на солнце, на снег, на дождь, купают малыша, вытирают его – каждое действие сопровождается коротким, легко запоминающимся стишком.
Анфиса боялась, как бы Митяю от отца не перешло гыгыканье и вообще дурнота в голове не досталась. Но внук пока выказывал, напротив, чудеса сообразительности. Не поверила бы, если б сама не видела и не слышала. Семимесячный Митяй держится за перильца в манежике, прыгает на месте и так четко слоги выкрикивает: «Ба… на… ва… га». И вдруг осмысленно, глядя на Марфу: «Ма!» Попрыгал еще, на Петра взгляд перевел: «Па! Ы-ы!» – прямо-таки передразнил отца. Все просто ахнули.
Сначала думали, что атаманом у них будет пухлый бугаенок Митяй. Но вот близнецы подросли, окрепли и стали выказывать характер. Отберет себе Митька игрушку, отпихивает братьев, не отдает. Они отползут в угол манежа для разбега, на четвереньки встанут и дружно вперед засеменят, чисто козлята. Хрясь Митьку головами – кто куда попал. Потом, правда, сами эту игрушку между собой поделить не могут, и вот уже все трое ревут-заливаются.
Сытые здоровые дети на вольном выпасе не особо досаждали своим плачем. Хотя, когда зубки резались, и матери с ними намучились, и остальные домочадцы спать не могли – пацанята орали, друг друга заводя, так, словно у них штыки винтовочные из десен лезли.
Еремей сделал внукам лошадки-качалки. Красоты необыкновенной, и все разные. Одна лошадка – серая в яблоках, с белой гривой и развевающимся хвостом. Вторая – гнедая, шоколадно-глазуревая, а хвост и грива – рыжие. Третья черна как смоль, с тонким золотистым узором, хвост и грива чуть дымчатые. У всех лошадок морды были не совсем лошадиные, а чуть-чуть как лица человеческие. И почему-то сразу становилось понятно, что серая – Митяйкина, гнедая – Ванина, а черная – Васяткина. И дело тут не в сходстве, у самих-то детей мордашки еще неопределенные, и все трое друг на друга похожи. Что-то неуловимое было Еремеем подмечено, такое, что словами не описать, пальцем не показать, а ощущение дает безусловное. На удобных спинах лошадок были закреплены маленькие седла, вниз шли стремена на кожаных ремешках с запасом, чтобы отпускать по мере роста детей.
–Потрясающе! – воскликнул доктор. – Еремей Николаевич, в вас умер великий скульптор!
–Дык жив еще, – улыбнулся Еремей. – А насколько великий – сомнительно. Но за доброе слово спасибо!
–Его бы умения, да на пользу семье, – сказала Анфиса. – Мы б уже миллионщиками стали.
–Мама! – возмутилась Нюраня, которая с детской завистью носилась вокруг лошадок. – Ну какие теперь миллионщики? Всех капиталистов давно как клопов подавили. Можно я покачаюсь? Я тихонечко! И-го-го!
Культура и звери
Многоснежье затянуло весну и вызвало большой паводок, скотину долго не могли перевести на подножный корм. Медведевым заготовленного сена хватило, а во многих хозяйствах полудохлых отощавших коров и овец с трудом поднимали на выпас.
Степан ближайшей целью своей жизни поставил создание артелей и кооперативов, мало бывал дома, носился по району, мчался в Омск выбивать необходимую технику или семена. Он провел столько времени в седле, что уже, наверное, по расстоянию доскакал до Москвы. Степан с горечью отмечал, что коммунары и кооператоры трудятся совсем не так, как единоличники. Полевые работы начались поздно, и провести их надо было в короткие сроки, поэтому единоличники работали от зари до зари. Они помнили золотое правило: один весенний день зимний месяц кормит. Коммунары в большинстве своем усердия не проявляли, как батраки, которых хозяин не выгонит – каждые руки на счету, заменить некем. Иждивенческие настроения росли и множились, что было неожиданно для Степана, о таком подвохе он не подозревал. В прошлом поголовно бедняки, коммунары считали, что новая власть устанавливалась специально для них и теперь должна опекать их, как мать слабое дитя.
Главным, конечно, было поставить во главе кооператива или коммуны хорошего руководителя – классово сознательного лидера, умеющего повести за собой и обладающего хозяйской сметкой. Таких практически не было. Классово сознательные партийцы были хороши глотку драть, а пахать и за скотом ходить им не в удовольствие. Из города для поддержки и усиления кооперативного движения присылали проверенных партийцев. Они приезжали с пухлыми портфелями рапоряжений, постановлений, планов площадей посевов и разнарядками продналогов.
Бюрократическая волна всевозможных постановлений Степана поражала – что ни неделя, то новое указание. Волна зарождалась в столице, катилась по Центральной России, переваливала через Урал, нисколько не ослабевая. В Омске сидело много народа, кумекая, подсчитывая, ломая карандаши, как общий план посевов и хлебозаготовок раздробить на деревни и села, едва ли не на каждое хозяйство. Единоличники никакого постороннего планирования не признавали и только посмеивались над ним. Как и их деды, они планировали, исходя из того, каким обещает быть год – благоприятным для ржи или пшеницы. Конечно, всегда можно было ошибиться, но для того и резервные посевы. Весной многие посадили больше обычного льна и конопли. Население в деревнях преимущественно женское, лен и коноплю обрабатывать, в пряжу превращать – их вековечное занятие. Домодельная одежда поневоле в моде, да еще постельное белье, полотенца, мешки для хранения урожая и холсты для покрытия шуб и тулупов – все это надо производить самим.
Степан на деревенских сходах агитировал, призывал, давал честное партийное слово, что осенью хлебозаготовки пройдут справедливо, у крестьян государство купит хлеб по хорошей цене. Крестьяне кивали, не возражали и… делали по-своему. В честное государство они не верили, рынок и справедливая цена – понятия зыбкие. Рынок – для выгоды торговли, соревнование, в котором не могут все поголовно быть победителями. Проигрывают чаще всего те, кто торопится. Хорошая цена осенью бывает много меньше плохой цены весной. И все-таки на территории, подначальной Степану, посевные площади зерновых были значительно больше, чем в среднем по области.
Кооператоры и артельщики к планам, спущенным сверху, относились безучастно, как и к руководителям-горожанам, которые ни бельмеса не смыслили в сельском хозяйстве и с чувством превосходства смотрели на крестьян – понукали, орали, едва ли не хлыстами размахивали. Главным для них было – отрапортовать. Что посеяли, где посеяли – не важно, только бы отчитаться о выполнении плана. Степан видел в артельщиках что-то детское: безответственность, спокойное восприятие окриков и угроз. Ребенок, понурив голову, слушает, как распекают его родители, но его смирение вовсе не означает, что он усвоил наставления и будет им следовать, что завтра снова не напроказничает.
С одной стороны, ситуация логичная: власть новая, и ее движущая сила – пока только дети. С другой стороны, у сорокалетних-то мужиков, отцов семейств, уж должны, в конце концов, появиться хозяйский подход к делу и забота о том, чтобы росло благосостояние? Принцип «общее (земля, орудия, скотина, птица, семена, урожай и прочее) – значит, и мое, личное» прививался плохо. «Общее» было чьим-то, отстраненным, абстрактным, не собственным.
Появились нехорошие примеры того, что работящие и ответственные мужики выходили из состава артелей и кооперативов, не хотели трудиться бок о бок с лодырями. Степан считал, что кнутом и пряником сгонять бедноту в артели – неправильная политика. Надо отобрать, сагитировать надежных мужиков, поставить над ними хорошего лидера. Успех (читай – достаток, богатство) обязательно будет, земля всегда отзывается на истовый труд. И в сельском хозяйстве, в отличие от промышленности, результаты видны быстро – за сезон. Тут вступит в действие сила примера, иначе ее завистью можно назвать. Завистью не черной, а конструктивной – так лучше, чем по старинке. Преимущества совместного кооперативного труда были очевидны. Хотя при общем владении, подозревал Степан, все-таки надо оставить и что-то личное. Поля, пастбища, стада – общие, но огород или корова с теленком – личные. Однако тут же возникает вопрос: как быть с сеном на зиму? Сначала заготавливаем для общественного стада, а потом каждый для личного скота? Какая-то барщина получается… Вопросов много, никто наверху ответов не знает, там даже не задумываются, только директивы и планы спускают. Им, наверное, покажутся мелочью проблемы идеальной коммуны, сочетающей большое общее и маленькое собственное. Не хотят мудрецы в столице понять: личное отомрет постепенно, по мере роста благосостояния и коммунистического сознания, которое с трудом проникает в головы людей среднего и старшего возраста, но легко приживается в головах молодых. Ей, молодежи, нужно только дать аргументы. Молодежь всегда отвергает опыт предков. Правда, потом его принимает и выдает за собственный. Этот период, когда всё отвергают, а родительскую мудрость принимают в штыки, и надо использовать для формирования нового сознания! Поэтому в Степановой идеальной коммуне большинство обязательно должно быть молодым – парни и девки, недавно поженившиеся или с детьми малолетними…
Степан не заметил, как у него зародилась и стала крепнуть идея под названием «моя коммуна». Он не торопился воплощать ее в жизнь, потому что еще не мог найти ответы на многие вопросы экономического устройства «его коммуны».
Зато другая мечта осуществилась: давно хотел свозить Парасю в Омск и наконец устроил жене три дня культурного отдыха.
Они побывали в музее, где Парася впервые увидела живописные полотна. Вышла из музея на ватных ногах, с ощущением, что голову засасывает в громадную воронку – так велико было впечатление, которому и определения не было, хорошее или плохое. Слишком большое. Посетили цирк на Казачьей площади, где Парася покрывалась краской стыда, когда выступали гимнастки и акробатки, гибкие как змеи и раздетые почти догола. Силачи и борцы, тоже зачем-то раздетые, не произвели на нее впечатления – видала и могутнее мужиков. Животные: собачки, медведи и львы – вызвали жалость. Они исполняли трюки с торопливостью голодных, испоротых, забитых трусливых существ.
Степан не мог все время посвятить жене и, пока он бегал по инстанциям, Парася гуляла по скверам, сидела на скамеечке.
–Как тебе? – постоянно спрашивал Степан. – Нравится?
–Чудно, – отвечала Прасковья.
–Так чудно, что противно? – допытывался Степан. – Или так чудно, что увлекательно?
–Дак сразу чудное-то не разберешь, – уходила от прямого ответа жена. И обязательно добавляла: – Как я тебе, Степушка, благодарна! В другом мире побывала. А он под боком-то!
–Вот именно! Ограниченность сознания крестьян дает повод обвинять их в бескультурности, невежестве, дремучести. И тут надо действовать с двух концов: чтобы крестьяне тянулись к культуре, но чтобы и сама культура была им понятна, соответствовала их представлениям о прекрасном. Парася, ты меня понимаешь, поддерживаешь?
–Всей душой поддерживаю! Только в гостинице клопы, как бы мы домой не привезли.
В последний вечер они побывали в драматическом театре. Давали «Вишневый сад». Что такое «вишня», Парася не знала; о чем на сцене толкуют, не понимала. Сидеть в жестких креслах, обитых вытертым, непонятного цвета, залоснившимся бархатом, ей было брезгливо и неудобно. Если руки на подлокотники положишь, то либо соприкоснешься с соседом справа – толстобрюхим потеющим дядькой, либо окажешься в близости с мужем, который слева сидит. На людях жене к мужу льнуть не подобает. Поэтому весь спектакль Парася просидела, сплетя руки на коленках, выгнув плечи вперед, ввалив грудь, и очень устала от напряженной позы и от собственной неспособности понять, что происходит на подмостках.
На выходе им повстречался Данилка Сорока. Развязный, щегольски одетый, нетрезвый.
–О! Какие люди! Прасковья Порфирьевна! Позвольте поручкаться? Не хотите? Да и пошли вы… Степан, ха-ха, а чего это ты супругу нарядил, точно купчиху? – с издевательской усмешкой спросил он.
Степан побелел от ярости. Прасковья вспыхнула – знала, что Данилка прав.
Они с Марфой и не без участия свекрови готовили ей наряд для Омска. Изумительные козловые сапожки с высокой шнуровкой. Будь впору, на миниатюрной ножке они смотрелись бы кукольно изящно. Но у женщин Медведевых размер ноги сильно превосходил Парасин, пришлось в мыски сапожек тряпок напихать. Добротного шелковистого темно-зеленого сукна юбка была присборена на тонкой талии. Блузка нежного одуванчикового цвета, вся в кружевах и прошвах, хотя их не видно из-зателогреи, надетой сверху. Телогрея в тон юбке, но посветлее, стеганная клеткой, в стежках едва заметная золотая нить. На голове… Женщины в театре были либо простоволосые, стриженые, на косой пробор пригладившие жирные волосы, либо закрывшие головы лихо повязанными красными косынками, а Парася укутана шелковой косынкой, с кистями. Степан ничего не заметил, но Прасковья-то понимала, что выглядит здесь чужестранно… если мягко сказать. Театральное представление обернулось для нее мукой, но это не повод портить настроение мужу, который давно мечтал свозить ее в Омск. И уж совсем не годится дать возможность подлому Данилке насмешки чинить.
Прасковья, утомленная, раздавленная и униженная этими тремя «культурными» днями, все-таки нашла в себе силы повернуться к мужу и спросить, точно в недоумении:
–Степушка, а это кто?
Еще и ткнула презрительно пальцем в Данилку.
Степан мгновенно обмяк, понял игру жены, рассмеялся:
–Леший его знает! Похожая харя у нас в деревне раньше бедокурила. Да кто их, варнаков, разберет? В черную кожу с головы до ног запеленаются, все на одно лицо. Пойдем, любушка!
Они обошли застывшего в пьяной злости Данилку и двинулись к выходу.
Данилка секундно окаменел. Не потому, что не нашелся с ответным выпадом, не потому, что побоялся – драка с председателем заштатного сельсовета Медведевым в фойе театра была бы Сороке даже интересна своими последствиями. Данилка застыл, потому что увидел, как они переглянулись и мгновенно поняли друг друга. Прасковья, на лице которой до первых его реплик было написано: «Скорее отсюда!» – и Степан, переставший дышать от ярости, вдруг, только глазами встретившись, преобразились. Не просто расслабились, а еще и зашутковали.
О том, что такая глубинная связь может существовать между мужчиной и женщиной, что они способны понимать друг друга без слов, с полувзгляда, Данилка не подозревал. Но открывшееся знание вовсе не вызвало у него зависти или желания иметь нечто подобное.
Он был насильник и убийца, людоед.
Волк не замечает грациозной красоты лани и не умиляется трогательной резвостью олененка. Для волка они только добыча, еда. Зверь по натуре, Данилка все-таки по рождению был человеком и не мог не видеть в людях доброту, нежность, отзывчивость, преданность. Эти качества он презирал, хотя они подчас были сильнее страха, боли и угрозы неминуемой смерти. Некоторые подозреваемые на допросах держались до последнего. Кости у них сломаны, зубы выбиты, на теле, покрытом ожогами, места живого нет – кричат, стонут, сознание теряют, но не выдают своих.
Человеческое в звере бывает только хорошим. Прирученные животные умеют любить, понимают речь, они преданны безоговорочно и бескорыстны абсолютно. Зверское в человеке всегда страшно. Потому что ему нравится убивать не ради пищи, а из-за дикого животного инстинкта, который так же противоестественен, как рождение ребенка с хвостом. Хвостатых людей появляется крайне мало – один на миллионы. А те, что имеют «хвост» в душе, встречаются гораздо чаще.
Данилка Сорока давно лелеял мечту отомстить Степану Медведеву. В отложенной мечте была своя прелесть, сходная со сладким нетерпением перед первым ударом, который он нанесет на допросе арестованному. Но там все происходило быстро, а с Медведевыми он не торопился, выжидал, искал случая. Просто убить мужика вроде Степана – только мученика героического из него сделать. Надо извести весь его род – мать с отцом, брата, сестру, детей… Плодовитый гад, сразу двойню настрогал. И уничтожить их должен не Данилка, а власть, которую Степан сильно любит и ценит. Чтобы удары штыковые он получал не только в сердце, но и в голову, чтобы не только боль за близких, но и крушение веры превратили его в доходягу.
Планы Данилки откладывались, потому что его карьера, стремительно начавшаяся в ЧК, застопорилась в ОГПУ. Его корили за неоправданную жестокость, за то, что он пытает людей без цели, когда арестованные просто не обладают нужными сведениями. Лучше Данилы Егоровича Сорокина не было на выездных заданиях, поставленные цели всегда выполнялись. Но пошли разговоры о недопустимых средствах. Кто-то из отряда проговорился, что командир мародерствует, сильничает девок, а стариков заставляет становиться перед ним на колени. Сорока хотел вычислить доносчика и примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Заодно требовалось погасить слухи о его прошлом, мол-де не в красных партизанах героически сражался, а в составе банды грабил и жег хутора. Тут еще Вадим Моисеевич – доходяга чахоточный, Степки Медведева покровитель – вызвал к себе и зачитал коллективный, со многими подписями доклад, в котором рассказывалось о его бесчинствах.
–Я видел в вас истинного бойца революции, – с отцовской горечью произнес Учитель. – Я ошибался. К сожалению, на начальных этапах революции нам требовались люди, способные давить в себе жалость и сочувствие. Но утверждать, что эти люди станут основой нового общества, совершенно недопустимо и кощунственно.
«Надо прихлопнуть этого жида, – думал Сорока, не вслушиваясь в речи Вадима Моисеевича. – Развонялся, доходяга. У него авторитет и должность, навредит».
Со смиренной физиономией Данилка выслушал Учителя, который заявил, что считает необходимым поставить личное дело Сороки на бюро губкома партии.
Данилка давно вызубрил фразы, которые очень нравились большевикам.
–Решение партии для меня закон, – сказал он, хмурясь, изображая раскаяние, а внутреннее насмехаясь. И вышел из кабинета неверной походкой, как человек, который старается держаться твердо, но свалившиеся на него известия заставляют ноги дрожать. Данилка был не чужд актерства.
Следующей ночью кабинет Вадима Моисеевича выгорел. Охранникам удалось пожар остановить, и другие помещения не пострадали. Доносы на Сорокина были мелочью по сравнению с важнейшими документами, безвозвратно утерянными.
Данилка Сорока имел железное алиби – до утра просидел у старой большевички. Была у них такая, партийный псевдоним Астра. После каторги двадцать лет провела в эмиграции, а вернувшись на родину, оказалась в Сибири. В текущей ситуации она не разбиралась и была, в сущности, обузой, поэтому пристроили ее в секретариат – ведь Астра знала Кропоткина и Плеханова, с Лениным была на «ты». Семьи не имела, к старости стала невероятно болтлива, попадешься ей под руку – замучает воспоминаниями. Над Сорокой даже посмеивались – влип в клейкий поток бесконечных речей Астры, только к утру выбрался. От того, что посмеивались, алиби становилось еще убедительнее. Астра прекрасно помнила события многолетней давности, но забывала, что произошло день или несколько часов назад. Из ее памяти выпало, что кончились папиросы и Данила Егорович вызвался за ними сбегать. Но сам факт «интереснейшей беседы» она подтвердила. Сороке хватило времени устроить поджог. Вернулся и еще два часа слушал дряхлую старуху. Хотелось ее придушить, едва сдержался.
Вадим Моисеевич вскоре уехал на лечение, не ведая, что счастливо избежал смерти от руки Данилки.
Степан с женой вернулись заполночь. На следующий день Марфа тихо в кути расспрашивала Прасковью: как было, что было?
Анфису Ивановну эти вопросы тоже занимали, хотя она не стала бы произносить их вслух.
–Что вы там шепчетесь? – прикрикнула свекровь. – Прасковья, в голос вещай!
–Очень благодарна Степану. В Омске было занимательно интересно, очень культурно в музее, так же в театре. Цирк опять-таки, и еще в кинематограф ходили… Магазины… Моды совсем не наши, женщины даже возрастные – все стриженые и простоволосые, курят папиросы. Косынки красные мне понравились – задорно.
–Так ты теперь повадишься за модами в Омск мотать? – спросила Анфиса.
–Нет, матушка, – помотала головой Прасковья. – Народу в городе завозно: все снуют, снуют, всё лица, лица – муторно становится, не продохнуть, голова как с угару, а по телу будто черти молотили.
Анфиса услышала, что хотела, но и не подумала свое удовлетворение невесткам показывать:
–Чего застыли? Язвило бы вас! Всё бы лялякать, языками чесать! Послал Бог невестушек…
Затянувшаяся весна и, по приметам, грозившая рано наступить зиматребовали выполнять полевые, огородные, ремонтные и строительные работы спешно. Анфиса, по словам Еремея Николаевича, вытянула из всех домашних жилы, намотала на руки, как вожжи, и правила, будто ямщицкими лошадьми, – безжалостно, давая лишь короткий отдых на еду и сон. Себя, конечно, тоже не жалела.
У Анфисы теперь было богатство, которое не купишь ни за какие деньги, – внуки, три парня. И ее внукам должно перейти зажиточное, справное, не худосочное хозяйство. Ее внуки должны расти в гордости, а в нищете гордости не бывает.
Правда
Митяю было восемь месяцев, когда Анфисе открылась правда.
Который день лили дожди, точно море-океан переселился на небо и разверзлись те самые библейские хляби небесные. Вода падала с высоты сплошным потоком, то усиливаясь, то ослабевая, но не останавливаясь ни днем, ни ночью. Злаки с полей еще не были полностью вывезены, а что свезли в ригу, прело и сгнить грозило. Анфиса злилась и нервничала, заставляла разбирать стенки в риге, устраивать сквозняки, ворошить зерно. Когда закладывали зароды (метали сено на шалашом поставленные решетины), Анфиса коршуном кружила. Хотя, конечно, коршун – птица безмолвная, а хозяйке покажется, что не рыхло сено мечут или плохо вычесывают, – и в бога и в черта оскандалит. Сено присаливали, но все равно оно могло осенью пригреться и сопреть. Кроме того, на присоленный корм зимой потянется зверье из леса, растащит зарод, что не сожрет, то в снег втопчет. А вывезти раньше времени тайные зароды нельзя – могут «спроприировать» в пользу голытьбы, которая в товарищества по совместной обработке земли объединилась. Они и в хорошее лето не могли толком кормов скотине заготовить, а нынче у голодранцев недокорм начнется с декабря.
Анфиса надорвалась на работе и от тревог. Грудь сдавливало, точно ребра стали уменьшаться в размерах и сжимать внутренности.
Она вошла в дом, чтобы хлебнуть горячего взвару, который по ее требованию всегда стоял в углу печи. От горячего питья становилось легче, меньше на сердце давило.
В доме, кроме невестки и мужа, никого не было. Марфа покормила близнецов, те спали в манежике. Теперь она давала сиську своему Митяю. Рядом сидел Еремей, гладил мальца по головке и смотрел на Марфу…
Этот их перегляд был точно выстрел, или, вернее, сноп солнечного света, озаривший кусок земли до последней травинки, открывший правдивую картину. Анфисе сразу и безоговорочно стало понятно то, что прежде вызывало смутные сомнения, хотя никогда не становилось предметом ее размышлений. Анфисе было не до праздных размышлений, когда урожай погибает. Марфа и Еремей смотрели друг на друга с нежностью родителей, восхищающихся своим чадом. Так вот почему у пузатого, белобрысого, сероглазого Митяя не увидеть и черточки стойкой туркинской породы. Нет в нем ни капли Анфисиной крови. Митяй – дитя греха, надругательства над Анфисой. Десятки мелких, неприметных знаков внимания Еремея снохе, которые Анфиса приписывала природной добродушности мужа, всплыли в памяти и теперь уже имели совершенно иное значение. А Марфина почтительность свекру? Ведь чувствовалось в этой почтительности что-то особенное, тайное, стыдное и в то же время властное, собственническое, точно она, Марфа, власть имеет. И еще… Что еще? Марфа, если бы муж Петр ее забрюхатил, стелилась бы перед ним, угождая и предупреждая любое желание, а она всю беременность была к Петру такой же безучастно-равнодушной, как все годы замужества…
Все эти мысли пронеслись в голове Анфисы за доли секунды, и она не разложила их по полочкам, хотя привыкла все реакции домашних анализировать, чтобы потом управлять ими – давить или поощрять. Это была вспышка молнии, за которой последовала страшная боль.
Мышь-предчувствие давно терзала Анфису. Силой воли Анфиса старалась мышь удавить, а та все жила, пищала и пищала. А теперь вдруг превратилась в большую злобную зубастую крысу, похожую на крокодилицу, однажды нарисованную Еремеем, а потом им же и стертую со стены в их супружеской спальне… И эта крыса-крокодилица… А ведь он ее, Анфису, законную жену, так называл в моменты ночной близости… Все смешалось, перепуталось, непотребством замутилось… И эта крыса-крокодилица, оказавшаяся внутри Анфисы, бывший писклявый мышонок, разверзла пасть и вцепилась в Анфисино сердце…
Марфа и Еремей не услышали, как вошла Анфиса. Обернулись только на шуршащий звук падающего тела: по стене сползала на пол Анфиса, безумно вытаращившая глаза, раскрывшая рот в беззвучном крике невыносимой боли.
–Фиса, Фисонька! – подскочил к жене перепуганный муж. – Что с тобой?
Разорванное крысой сердце брызнуло двумя горячими кровавыми струями в горло и в левую руку. От боли Анфиса не могла ни дышать, ни говорить, но почему-то ясно, каким-то непонятным внутренним зрением, видела эти две кровавые струи – в шею и в руку.
Анфиса правой рукой рвала на горле высоко застегнутую на мелкие пуговички блузку. Когда-то это была парадная блузка, да прохудилась под мышками, латаная, перешла в рабочую одежду, а крохотные пуговички-жемчужинки на воздушных петельках остались и теперь, вырванные с мясом, сыпались на пол дробным драгоценным дождиком…
–Марфа! Скорее за доктором! – закричал Еремей Николаевич.
Сноха оторвала младенца от груди; тот, недокормленный, капризно заплакал, разбудил Ванятку и Васятку, к которым его положили в манежик.
–Зови! – перекрикивал Еремей Николаевич плачущих детей. – Всех зови!
Марфу тоже испугал вид свалившейся бесформенной грудой Анфисы Ивановны, хрипло дышащей, царапающей горло. Ноги у свекрови были широко раскинуты, юбка задралась, обнажив пухлые колени. Голова запрокинута, платок сполз, рот широко открыт в мучительном оскале, и видны пустые провалы в местах потерянных зубов.
Анфиса Ивановна всегда была крепкой, сильной и выносливой. Она никогда не жаловалась на здоровье и терпеть не могла, если другие ныли по пустякам. Анфиса Ивановна говорила, что здоровым еще никто не умер, к смерти все больные телом, но если по каждому «кольнуло», «стрельнуло», «заныло» тревогу бить, то больным не только умрешь, но и остаток жизни проведешь. Анфиса Ивановна была опорой, столпом, на котором покоились благополучие семьи и судьба каждого из ее членов. Не было ни одного признака, ни одного предвестника того, что столп рухнет, свалится – Анфиса Ивановна казалась вечной. Поэтому Еремею Николаевичу и Марфе было страшно увидеть ее беспомощной, безобразной, с раскоряченными ногами, гнилыми зубами и растрепанными волосами.
Их ужас передался остальным, когда Марфа выскочила на улицу с криком:
–Горе! Ой, горе!
Если не считать воплей Марфы во время родов, то можно сказать, что невестка Анфисы Ивановны никогда не повышала голоса, никто не слышал от нее громко сказанного слова, окрика или восклицания. Крупная телом, Марфа была тиха и незаметна.
Прасковья хлопотала в летней кути, и первой мыслью ее пронзило – беда случилась с детьми. Быстрее птицы Прасковья метнулась в дом.
Василий Кузьмич занимался с Нюраней в амбулатории. Несколько недель назад Степан привез анатомический атлас и учебник по кожным болезням – то, что удалось найти в Омске. Обе книги были проиллюстрированы такими картинками, что доктор и его ученица посчитали за благо не посвящать Анфису Ивановну в суть своих занятий.
–Скорее! Она! Горе! Ой, горе! – частила Марфа.
–Кто «она»? – недовольно посмотрел Василий Кузьмич поверх очков. – Ты чего блажишь, как юродивая?
Марфа не успела ответить. Нюраня сообразила:
–Мама! С мамой плохо! – и бросилась к выходу.
Марфа, понимая, что словами ничего объяснить не сможет, схватила доктора в охапку и поволокла на улицу.
–Пусти, дура! – кричал Василий Кузьмич. – Ты мне ноги переломаешь!
Но Марфа не слушала, волокла его, брыкающегося, к дому. Доктор счел за благо поджать ноги и был внесен в избу на руках.
Там уже собрались все: Прасковья, Нюраня, Петр, работники Аким и Федот. Еремей Николаевич, поправив жене юбку, гладил ее по коленям и приговаривал что-то ласковое.
Анфиса Ивановна, хрипло дыша, смотрела на мужа с неприкрытой жгучей ненавистью. Она поднялаголову, обвела взглядом собравшихся домашних, остановила взор на Марфе…
Марфа отшатнулась, как от удара, схватилась руками за лицо. Показалось, что свекровь не взглядом, а кинжалом ее полоснула, до крови располосовала.
Анфиса закрыла глаза и повалилась на бок.
–Расступитесь! – скомандовал доктор. – Что вы тут сгрудились? Ей воздух нужен!
Всем было страшно и хотелось помочь, действовать.
Аким, желая дать хозяйке воздуха, недолго думая, подошел к окну и вышиб раму наружу. Следом Федот подскочил к другому окну и саданул кулаками по стеклу, мгновенно окрасившемуся кровью.
–Вы мне тут шекспировские страсти! – визгливо закричал доктор. – Все вон! То есть в сторону! Молча-а-ать!
Василий Кузьмич прекрасно понимал, что значит для семьи потеря Анфисы Ивановны. Да и для его благополучия тоже.
–Петр? – оглянулся Еремей Николаевич. – Где Петр? Нюраня!
Отец вспомнил о младшем сыне, которого любой испуг мог довести до судорог, а общий страх – и вовсе рассудка лишить.
Петр стоял у божницы, мелко трясся, его обычное гыгыкание было судорожно беззвучным.
Умница Нюраня подошла к нему, обхватила за талию, положила голову на грудь:
–Ой, братка, страшно мне! Обними-ка меня крепко, защити-ка свою сестричку… Ой, кто меня-то несчастную да ухоронит?..
Она причитала, подражая говору и интонациям Туси, рассказывающей сказки про несчастных девушек. Те девушки были глупыми и беспомощными, лили слезы по каждому поводу. Но на брата Петра уловка Нюрани подействовала. Он крепко прижал к себе сестру, восстановил дыхание и загыгыкал привычно.
Доктор хлопотал вокруг Анфисы Ивановны, бормоча:
–Пульс… сердечный ритм есть, дыхание… да… Не все так плохо, как вы тут утверждали… Препараты камфары… Несем ее на кровать. Мужики, ети вашу через коромысло! Окна бить всякий может… Хотя при таком шоке… Я сам чуть не обосса… Так и будем стоять? Нюра! Оставь этого гениального дебила, он уже в норме. Пулей за аптечкой!
Петр торкнулся лбом в ухо сестре:
–Спасиб-ка! Ход ферзем.
Нюраня всегда подозревала, что в брате Петре живут два человека: один, глупый, большой, рыхлый гыгыкальщик, укутывает другого – маленького, нежного, очень умного и ранимого.
Хватая без разбора склянки и банки с препаратами и порошками в амбулатории, Нюраня не думала об особенностях натуры Петра. Она удивлялась себе. Конечно, испугалась за маму, до колик в животе испугалась. Но когда тятя выкрикнул: «Нюраня, Петр!» – не раздумывая бросилась к брату. То есть между мамой и братом выбрала беспомощного, которому надеялась помочь. А если бы там был Степан? Если бы между братьями пришлось выбирать? И вообще, у доктора может быть несколько страдающих пациентов. Как доктор решает, кому первому помощь оказывать? Надо не забыть спросить у Василия Кузьмича…
Еремей подхватил жену за плечи, Петр и Аким держали ее за ноги. Поранившийся Федот натягивал рукава рубахи на окровавленные руки и тихо выл, потому что не мог помочь.
–Не ногами! – вдруг пронзительно вскрикнула Прасковья. – Не ногами вперед!
Всем по-прежнему было страшно и хотелось подчиняться приказам, как-то действовать.
–Да какая разница, дикие вы люди! – ругнулся Василий Кузьмич.
Но мужики его не послушали, закружили неловко на месте, чтобы внести Анфису Ивановну в спальню головой вперед. Ватно обмякшая, безучастная Анфиса Ивановна была неожиданно тяжела, на пределе сил дотащили, на кровать уложили. Хотя тут, наверное, дело было не в ее весе, понятно, немалом, а в самой процедуре – жену, мать, хозяйку точно раненую корову волочь. Страшились лишнюю травму нанести, о простенок задеть.
Марфа выполняла домашнюю работу, но к свекрови не заглядывала. Еремей Николаевич переселился в комнату доктора. Сноха и муж догадались, что Анфисе их грех открылся.
За Анфисой ухаживали Прасковья и Нюраня. Василий Кузьмич находился при ней неотлучно, стариковским бурчанием маскировал свою тревогу.
–Можно подумать, что это у меня главная пациентка в жизни! На склоне лет выпало счастье королеву пользовать… Хотя, с другой стороны… Ну кто так постель лежачему больному перестилает?! – рявкал он на Прасковью и Нюраню. – Ты собираешься экстерном на сестру милосердия сдать, а не знаешь элементарных приемов!
–Я? – пугалась Прасковья.
–Не ты! Твое дело – детей рожать и мужа любить. Нюраня!
–Дык вы мне еще про уход за лежачими не объясняли!
–Еще один «дык» – и забудь про экстерн, деревня!
Они невольно посмотрели на Анфису Ивановну – в обычной ситуации та не пропустила бы мимо ушей «экстерна». Анфиса Ивановна была безучастна.
–Больного переворачиваем на бок, – показывал доктор. – Сворачиваем простыню старую и подстилаем свежую. Жгутами, девки! Жгутами сворачиваем! Что ж вы такие криворукие, я бы таких санитарок на порог… Впрочем, неплохо… Теперь больную переворачиваем на другой бок, простыню свежую под нее… Переворачивать, но не поднимать! Это наука, девушки! Молодцы! В противном случае, работая в госпитале, в первые же сутки вы бы надорвали спины. Во всяком труде должен быть принцип последовательности… Кажется, я выражаюсь на манер ваших Федота или Акима. О чем я? Да! Большинство лежачих больных почему-то многотонные, а сестрички – вроде вас, сплошные воздушные миссис и мадмуазели… Это не ругательства! Однажды занесло в наш госпиталь генерала. Случайное осколочное ранение в брюзжейку. Боров! У него брюхо было! По обе стороны кровати свешивалось. Анфиса Ивановна, вы меня слышите? Я рассказываю занятную историю…
Анфиса отворачивалась к стенке и закрывала глаза. За три недели болезни она не сказала и десятка слов. Она перестала разговаривать, отвечать на вопросы, не просила есть или пить, жевала без аппетита что предложат.
Прасковья, когда вышли в горницу, спросила Нюраню:
–«Экстрена» – это чего?
–Ты никому не говори, – попросила Нюраня. – Экзамены сдать без учебы хочу. Василий Кузьмич готовит меня на сестру милосердия. Да только сейчас не до занятий…
Большое хозяйство, оставшееся без начальника в самую горячую пору, сразу же стало лихорадить. Анфиса Ивановна собиралась жить вечно и заместителя себе не готовила. Ее мог бы заменить Степан, чьи способности не уступали материнским. Но он был круглосуточно занят на своей работе, да и управлять единоличным хозяйством противоречило его принципам. Кроме того, верные слову, данному хозяйке, Аким и Федот ни за что не рассказали бы Степану про тайные схроны, зароды и посевы. Сами же работники были всегда только порученцами, неспособными принимать решения и брать на себя ответственность. Поручить командование губошлепу Петру никому и в голову не пришло. Прасковья и Марфа умели отлично вести домашнее хозяйство, но дальше ворот их практическая сметка не распространялась. Еремей Николаевич находился дома вынужденно, в крестьянском труде участвовал подневольно, всю жизнь его избегал, ненавидел за монотонность – каждый год одно и то же: посадил, собрал, съел, весной снова посадил… Взвалить на себя громадную постылую ношу его не заставили бы никакие доводы рассудка или уговоры. Он сидел бы на воде и квасе, отказавшись от сытных пирогов, обеднел бы без сожаления, лишь бы не впрягаться с полной отдачей в крестьянский труд. Хуже наказания для него придумать было нельзя. Но если ты способен избежать наказания, зачем совать голову в ярмо?
Так и получилось, что на место матери заступила малолетняя Нюраня. В семье привыкли жить под женской волей, сметливая и добрая Нюраня особенно полюбилась Федоту и Акиму за то время, когда они сопровождали ее на супрядки и на репетиции комсомольского спектакля. Нюране все помогали, что могли, подсказывали, но это все-таки был непомерный груз для молоденькой девчонки. Она всю жизнь видела, как мама руководит хозяйством, из года в год почти одни и те же приемы и команды. Но это «почти» было настолько важным, что любая ошибка грозила большими потерями, лишениями, даже голодом зимой.
Василий Кузьмич как мог старался облегчить участь своей любимице.
Он расхаживал у постели Анфисы Ивановны, размахивал руками, то повышал голос, то понижал до шепота:
–Сердечый ритм восстановился практически в пределах нормы, и боли у вас отсутствуют. Это мне понятно совершенно! Не пытайтесь тут изображать!
Анфиса Ивановна ничего не изображала. Лежала безучастным бревном, в потолок смотрела.
–Да, у вас был сердечный удар, выражаясь народным языком. Эка невидаль! Да люди по пять таких ударов переносят! Ну, или по три… Кстати, по деревне ползут слухи, будто у вас после удара мозги отшибло и речь пропала. – Василий Кузьмич остановился и посмотрел на пациентку: взбудоражат ли ее сплетни? Не взбудоражили. – Речь у вас никуда не пропала, и мозг в плане физиологии совершенно не пострадал. Это я вам говорю как врач. Следовательно? – спросил себя Василий Кузьмич и присел на кровать к Анфисе. – Следовательно, мы должны констатировать наличие перед сердечным приступом или в момент его сильнейшего психологического раздражителя какого-то потрясения. Анфиса Ивановна, голубушка! Слуга покорный! Я не прошу вас рассказать, что именно случилось, что вас потрясло. Я только хочу вас возвратить к нормальной жизни. Скажу больше, грубее и циничнее. Хотите вы помирать в отрешенном молчании? Такова ваша воля? Подло! Архиподло! Не нужно было столько лет свое семейство на коротком поводке держать, чтобы вот так в одночасье бросить. Эти люди не обязаны страдать, потому что какая-то крыса вас за задницу укусила.
Услышав про крысу, Анфиса Ивановна повернула голову и внимательно посмотрела на доктора. Он постарался скрыть свое удивление: при чем тут крыса, почему ее крыса заинтересовала? Эти животные по двору Медведевых и тем более по дому не бегали. Как бы то ни было, успех следовало развить.
–Я вас призываю к элементарной материнской жалости! Анфиса Ивановна, вы же, по сути своей, мать, с большой буквы, всему и вся… даже мне… в каком-то смысле. Но особенно! Подчеркиваю! Особенно тяжело приходится вашей единственной дочери. Нюраня удивительная, одаренная… Вы своим примитивным умом не способны понять, какое сокровище родили и воспитали! А сейчас что мы имеем? Девочка спит по три часа в сутки. Хозяйство трещит по швам. Телята не дотелились или не донерестились?.. Это, кажется, про рыбу… Которая тухнет! Двор провонял. На зимнюю кожаную одежду напала плесень, всякий там лен и конопля промочились, пшеничная мука кончилась, кормят шанежками-дранежками…
Василий Кузьмич тараторил, прискорбно видя, как гаснет интерес в глазах Анфисы Ивановны, и вот уже снова в них равнодушная безучастность. Повернулась к стенке, давая понять, что разговор закончен.
–И пожалуйста! – воскликнул доктор. – Нашлась тут! Симулянтка! Девочка к ней прибегает: «Мама, как то, как это?» Трудно рот открыть? Салтычиха! Тиранка! Сейчас пойду и напьюсь. Медицинского самогона. Потому что другого уже нет. Где это видано, сибирская королева, у тебя в доме даже самогона нет!
Первые дни, когда терзала боль, Анфисе было в некотором смысле легче. Боль не давала мыслям плодиться. Боль виделась крысой, захватившей острыми зубами сердце. Когда доктор вводил лекарства, крыса получала уколы в лапы, в спину или в зад. Крысе приходилось огрызаться, разжимать пасть, в которой меж зубов застряли ошметки Анфисиной плоти, зализывать раны. Боль Анфисы становилась слабее, хотя и не проходила полностью. А потом докторские лекарства вовсе крысу убили, растворили, и боль постепенно погасла.
Степа рассказывал про кинематограф – бегущие фотографии. Вечно городские выдумают всякую ересь. Но ее полусон-полубодрствование был именно как сменяющие друг друга живые картинки. Сначала про крысу, потом как доктора приютила – сама виновата, без доктора греховное отродье на свет не появилось бы. Мама и папа виделись, молодыми и как умерли, когда их нашли сплетенными, рождение Петьки – уронила-таки его Минева, не призналась, а стукнула сыночка темечком об угол кровати пьяная дура, она же на роды Анфисы со свадьбы была вызвана. Картинки всплывали из старой жизни, но теперь как бы с другого угла увиденные. Некоторые касались важных событий: как наследство родительское делили, как быка Буяна купила, выхаживала, он сполна за заботу отплатил, как с омским барышником познакомилась и коммерцию наладила… Другие картинки были несущественными, но празднично раскрашенными: венчание с Еремой, Степушка полуторагодовалый, в батистовую сорочку одетый, в гости к свекрови собирались, портки Степушке не успели натянуть, удрал, по двору на нетвердых ножках топает, елду свою крохотную в кулачок зажал и ссыкает, и ссыкает, из стороны в сторону поливает, и твердит на непонятном детском что-то вроде: «Я вас всех…»
Еще лесные картинки возникали. Сын, калеченный умом Петр, больше всего любит рыбу удить. Не отпускала без пригляда Петра на воды, страшилась. Она же сама любила грибы собирать. Если бы сложилась так жизнь, что спросили бы Анфису: «Чего тебе для сердца более всего мило? Все твои заботы-труды по высшему классу кто-то другой станет делать, а ты чем душу утешишь?» – ответила бы: «За грибами ходила бы». После замужества, как хозяйство на себя взвалила, и сходила-то в лес – пальцев на одной руке хватит сосчитать. Недосуг настоящей управительнице лесными забавами тешиться.
Картинка из старой жизни: близнецами была беременна… Нет, уже, наверное, Степушкой. Улучила момент, в ближний лес отправилась. И открылась ей поляна чудная! Потом еще раз или два туда приходила – не повторилось. Белые грибы разномастного калибра: от великанов, расправивших шляпки, до упругих крохотулек, а между ними красноголовики, тоже разновозрастные, – всего больше трех сотен. Сказочная грибная поляна казалась не настоящей, а будто шутником-чародеем сотворенной. Коротко ахнув, Анфиса бросилась собирать грибы и все кричала на пса Полкана, который увязался за ней в лес, чтобы не топтал добычу. Две большие корзины за несколько минут наполнила, на пенек присела отдохнуть. Поляна теперь выглядела совсем по-другому, то есть обычно. Анфиса подумала, что собирала грибы в лихорадочной спешке, точно воровала или боялась, что кто-нибудь появится и составит конкуренцию. На несколько верст вокруг в лесу не было ни души. Муж Ерема так бы не поступил. Он бы уселся на пенек и долго любовался волшебным видом полянки. В этом-то между ними, супругами, и разница.
Живые картинки не просто сменяли друг друга. Они были словно нарисованы акварелью на стекле, и перед тем как появлялась новая картинка, старая водой смывалась, текла вниз мутной разноцветной жижей. Так и Анфисина жизнь утекла.
Большую часть жизни Еремей провел на отхожем промысле, и Анфиса не была столь наивной, чтобы тешить себя надеждой, будто он хранит ей супружескую верность. Бывает, что муж жену любит истово, а черт его попутает, и согрешит мужик, сильно потом кается. Еремей никогда пылко Анфису не любил, она его сама на себе женила, надеялась, что прирастет он к ней. Не прирос, жизнь его где-то протекала, а дома повинность отбывал. У Еремея глаза добрые и ласковые, он смирный и непьющий, жалостливый. Что еще бабам надо?
Перебесившись от ревности и тоски в молодости, Анфиса решила для себя, что все, что случается у Еремея на чужой стороне, – это ненастоящее и значения не имеет. Анфисин мир за околицей заканчивался, семья, дом, хозяйство – центр мира. Уезжала она из села редко, с неохотой и только по большой надобности. Все, что происходило в дальней стороне, не имело к ней никакого отношения, интереса и заботы не вызывало и поэтому было сброшено со счетов. Иное дело, когда Еремей возвращался домой. Попробовал бы он на другую бабу посмотреть или какая– нибудь лохудра стала бы ему куры строить!
Анфиса никогда не спрашивала себя, за что полюбила Еремея. Она вообще не задавала себе вопросов. Она либо знала ответ, который не всегда словами могла выразить, а только чувствовала, либо ответы сами собой приходили позже. Почему Еремей стал ее судьбой? Потому что родилась она бешено гордой и честолюбивой. Ей не подходил богатый суженый, богатство – дело наживное. Не глянулись рубаха-парни, отчаянные смельчаки и красавцы. Эти напоминали боевых петухов, все петухи рано или поздно оказываются в супе. Ей нужен был кто-то необыкновенный, особенный. Доктор Василий Кузьмич говорил о Еремее: громадного художественног таланта человек. Этот талант, бесполезный как в семейной жизни, так и в хозяйстве, Анфису и сгубил.
Она много лет давила в себе страсть к мужу. Со стороны казалось – ненавидит его, презирает, ведь постоянно шпыняет, ругает, обвиняет в глупости, в лености, в безалаберности. Она столько лет взращивала в себе равнодушие к мужу, что не заметила, как то выросло и окрепло, как ее страсть превратилась в свою противоположность, и теперь ее внешнее презрение ничего не маскировало, а было совершенно искренним.
Когда читали «Анну Каренину», сцены, где Анна изводила Вронского, доктор сказал: «Есть такая французская поговорка: ревность рождается вместе с любовью, но умирает гораздо позже». Точно замечено. Если бы Еремей изменил ей, когда был горячо любим, это как-то вписалось бы в игру страстей. Анфиса метала бы молнии и становилась от этого только сильней, громоподобнее. Но теперь, когда он – презренный? Есть ведь разница, кому проиграть в бою – молодому сильному противнику или дряхлому старикашке-инвалиду. Любое поражение – удар по честолюбию, но поражение от снохаря (так презрительно у них называли мужиков, что клали глаз на жену сына) – удар сокрушительный. Подобных ударов Анфиса переносить не умела. Точно ей дали в руки книгу и велели читать, а на страницах – китайская грамота, в которой Анфиса ни бельмеса.