Железный волк Булыга Сергей
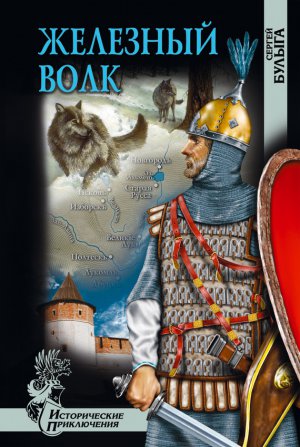
– Так ведь гонец явился.
– Чей?
– От Ярослава Ярополчича. Из-под Берестья.
Князь тяжело вздохнул. Вот, Ярослав! Вот только об отце его, о свате, вспоминал… Опять вздохнул, долго молчал, потом сказал-таки:
– Зови.
Игнат ушел.
…Когда убили свата, ты свое слово сдержал, взял его дочь за Глеба. Зима тогда была, лютый мороз, и Глебова к тебе приехала, и здесь потом так и осталась. А сыновей его забрал к себе их дядя Святополк. Ну, младший Ярополчич, Вячеслав, об этом лучше ничего не говорить. А старший, Ярослав… Брат и сестра очень похожи: такие же глазастые, лобастые. И молчуны. Вот Ярослав; он десять лет жил в Киеве, имел подворье на Подоле, держал село Курбатово. Великий – дядя Святополк – звал его и в пиры, звал и в походы. А волостей не то что не давал, но даже и не обещал. И Ярослав молчал. Тогда Великий порешил его женить, нашел ему богатую невесту, а Ярослав опять ни слова. А ведь же знал: как только женишься на черной, так сразу свою кровь испортишь – и будут сыновья твои уже не настоящие князья – а так только, княжата, у князей при стремени. Недаром Трувор о Вадиме говорил: «Пусть рыбу ловит, землю пашет…» Вот куда гнул Великий! А Ярослав молчал! И лишь только тогда, когда Великий объявил, что завтра нужно ехать на смотрины… Вот тут Ярослав вдруг исчез, будто сквозь землю провалился! Его искали, не нашли. Он после объявился сам – в Берестье. Он там посадника ссадил, сам сел. Великий укорял его, советовал одуматься. А Ярослав прогнал его гонцов, велел, чтоб дяде передали:
– Здесь мой удел. Городня – тоже мой, там брата Вячеслава посажу. А силы соберу, и тогда все отцовское возьму, ибо Волынь – вся моя!
Вот так-то вот; сидел тихоня Ярослав, сидел… А нынче только поперечь ему! И он ведь прав: Волынь это его отцова отчина. И более того: когда бы тогда свата не убили, так он бы, сват, на Киев венчан был. Он, а не Святополк, ибо сват старше Святополка, выше по Рюриковой лествице…
…Шаги! Это Игнат ведет гонца. Вот по ступеням вверх, вот подошли к двери. Князь поднял голову…
И вздрогнул. Потому что гонец – это вот кто! Вот уже ни думал, ни гадал с ним в этой жизни встретиться, торопливо подумал Всеслав и даже поморщился. Угрим это, тот самый! Ну, Ярослав, дальше с тоской подумалось, совсем плохи твои дела, если ты Угрима ко мне посылаешь! А сдал Угрим, ох сдал! Глаза ввалились, серый весь. Вот каково оно от сытых-то хлебов на волю бегать!
Угрим отдал поклон малым обычаем и замер, ждет.
– Садись, Угрим, – сказал Всеслав приветливо. – Поешь, небось проголодался.
Угрим лишь головой мотнул:
– Нет, князь! Весть у меня. Преспешная!
– Ешь, ешь, – заулыбался князь. – Весть никуда не денется.
Угрим вздохнул, прошел и сел напротив. Взял ложку, принялся хлебать. Потом, словно ожегшись, спохватился. Всеслав сказал:
– Налим, налим. Он самый. А вкусно ведь?
Угрим пожал плечами, свел брови, снова начал есть. Князь улыбался. Вот придумают! Что с чешуей, то хорошо, то чисто. А если без нее? А если человек посты блюдет да сирым помогает, на храмы жалует, а пение услышав, умиляется и слезы льет – то он хорош? Но если он же, этот человек, поганых наведет и все вокруг сожжет, а крест на мир поцеловав, потом велит убить… Так кто же есть налим? И кто от Дедушки, от нечисти зеленой? Я или он?!
Бряк ложка, бряк. И – тишина. Князь поднял голову. Угрим уже поел и утирается. И опять утирается – гадливо. И сплюнул даже. Вот! Он злой, Угрим. Когда тогда, зимой, по смерти Ярополковой, привез он сюда Глебову, а ты, Всеслав, засомневался, а надо ли ее принимать… Да что теперь об этом?! Теперь вот ее брат, князь Ярослав Ярополчич, к тебе же стучится!
– Ну что, – мрачно сказал Всеслав, – чую я, побежал Ярослав из Берестья. Так?
– Так, – кивнул Угрим. – На север, на Городню. На Неру-реку вышли и стоим. Там Вячеслава ждем в подмогу. А он чего-то… – и Угрим умолк.
– Вот! – зло сказал Всеслав. – Вот так всегда! А я ему, Ярославу твоему, что говорил? Я говорил: «Не выходи! И брату своему не верь!» Так нет, идут! Сидели бы за стенами, никто бы вас там не достал. А что теперь? Да будь я там на месте Святополка…
Но дальше Всеслав ничего не сказал, остерегся, а только глянул на Угрима. Угрим зло сказал:
– Великий следом не пошел. Он сел в Берестье. За нами сыновей послал.
– А, сыновей… – Всеслав задумался.
– Мы и теперь стоим, – сказал Угрим, – и сыновья его стоят. Вот Вячеслав придет…
– Вот-вот! – Всеслав не выдержал и встал. – Уж он придет! Придет!..
– Да! И придет! – Угрим вскочил, побагровел и продолжал: – Придет! Он Ярополку брат родной, он слово сдержит. А ты… Тебя всю зиму ждали!
Князь стиснул зубы, помолчал, потом тихо сказал:
– Ты сядь, Угрим. Чего кричать? Я тоже сяду.
Сели. Долго было тихо. Постучало в висках, унялось. Вот и всегда так, сердито подумал Всеслав, брат, не брат. Брат – он какой ни есть, а свой, а ты всегда чужой. Изгой. Нет тебе веры. Ты как степняк! А степняку не грех и клятву дать, крест целовать, наобещать и заманить, как хана Итларя брат Мономах заманивал, а после живота лишил. Так и с тобой – хорош, но до поры! И князь, вздохнув, заговорил – неспешно, тихим голосом:
– Ну, что я не пришел… так не пришел. Но не предал я вас. И не предам. Понял, Угрим?
– Понять-то понял. Да только это не ответ. Мой господин хотел, чтобы ты…
Всеслав рукой махнул, зло перебил:
– «Мой господин! Мой господин!» Твой господин, Угрим! А мне он кто? Он сын того, кто бил меня, жег мой удел. Он внук того, кто звал: «Приди, Всеслав, помиримся, поделим дедино, рассудим; мы же одна кровь!» И я пришел. А он, дед господина твоего, меня – да в железа, да в поруб! Но и тогда я зла не затаил. Когда его из Киева прогнали, то я – один на всей Руси – сказал ему: «Брат Изяслав!..» И Ярополку Изяславичу не поминал Голотческа, да и потом, когда он из Волыни выбежал, опять же только я один… А и зарезали его, но я от своих слов не отказался, взял его дочь за Глеба. А мог не брать. Ведь мог?
– Мог. Да…
– Вот то-то и оно! А взял! И вот опять: мог не вступаться я за Ярослава Ярополчича, ибо вы сами по себе, мы сами… А ведь вступился же! А то, что я к Берестью не иду… так понимать надо! Вот ты седой уже совсем, Угрим, уже пора понять: мечом славы добыть ума много не надо. Вот без меча… – и усмехнулся князь, огладил бороду, сказал, как малому: – Да Святополк давно бы подушил вас всех, когда бы без оглядки шел. А так ведь знает: есть Всеслав, сидит у себя в Полтеске, и изготовился, и только ждет того… А, может, и не ждет, а уже выступил. Вот как Великий думает, Угрим, и оттого и медлит! И оттого всю зиму под Берестьем простоял, а вас так и не тронул. Он и сейчас стоит; он сыновей послал вдогон, а сам ни с места, ибо он страшится: а вдруг Всеслав, как в прежние года, возьмет да кинется! Вот так-то вот, Угрим. А ты: «Брат! Брат!»
Опять долго молчали. Потом Угрим сказал:
– Пусть так. Но как нам теперь быть? Ведь ты же не идешь.
– Да, не иду. А быть вам так! Пусть Ярослав брата не ждет, а пусть уходит в ляхи. И спешно, Угрим, очень спешно! Потому что здесь, на Руси, никто ему уже…
– Князь!
– Я сказал! Никто за Ярослава не заступится! Да и потом… – Всеслав вздохнул, печально улыбнулся. – Ну что мне стоило наговорить тебе с три короба, наобещать, мол, передай, что я, Всеслав, целую крест…
– Но ты же не целуешь!
– Не целую. Не целовал и не пришел. А Вячеслав ведь целовал? Чего молчишь? Вот то-то и оно, что целовал. А дальше что? А то: у вас там на Руси давно такой обычай: кто поцелует, тот и предает. Вот Святополк и ждет, когда брат Ярославов Вячеслав…
– Князь!
– Сядь, Угрим!.. Вот то-то же. Охолонись. И слушай, что там дальше будет. А дальше… Да! Вот так…
Князь головой мотнул, утерся рукавом и, ком сглотнув, заговорил, хрипя:
– Кто первым выбежал из Киева? Не Вячеслав, а Ярослав. И Ярослав же брату написал: мол, жду, даю тебе Городню, и будем заодин и отобьемся, а после на Волынь пойдем, на отчину. Ведь так?
– Да, так.
– Вот то-то же! Теперь приходит Святополк, великий князь и всем вам господин, и Вячеславу говорит: я знаю, ты не виноват, а это старший брат тебя сманил, и посему тебя прощу и даже Городню тебе оставляю, владей; но ты за это, Вячеслав…
– Нет!
– Да! Запомни, что я говорю, Угрим, запомни! И Ярославу так и передай: Всеслав почуял! Понял? И чтоб бежал он в ляхи, Ярослав; нам, полочанам, к нему не успеть, а других совсем не будет. Поэтому гони, Угрим! – князь встал. – Гони! Тебе коней дадут, каких захочешь. Скажешь, что я велел… Угрим! День нынче года… жизни стоит! Ну!
Встал Угрим. И был он черен, зол. Да он всегда такой, еще по свату памятен. Встал и ушел, не поклонившись. Пес, гневно подумал Всеслав. И тут же: и пусть его, пусть Ярославу говорит, что хочет. Пусть – мертвые сраму не имут…
Но гадко, грязно, подло было на душе! Всеслав ходил по гриднице, садился, вновь вставал. Да, мертвые не имут, это верно. А кто еще живой, тем как? Еще семь дней вот так ходить, носить это в себе… А что ты можешь? Когда бы не Она, тогда бы ты сказал: «Беги ко мне!» Гонец два дня туда, день там, и Ярослав через два дня сюда. А если что в пути? Бежать-то им не просто так, а через ятвягов. Да и кто в среду сядет в Полтеске? Кого назвать? Глеб, Ростислав, Давыд, Борис? Ох, маета, подумал князь, остановился, посмотрел в окно, но ничего там не увидел, как будто там по-прежнему темно, как ночью, и, значит, нужно было спешно звать Игната…
Но он только горько усмехнулся и подумал: а вот если бы ты, Всеслав, прошедшей ночью умер, тогда бы не застал тебя Угрим. И теперь говорили бы все: «Эх, не судьба! А был бы жив Всеслав, так заступился бы за Ярослава! И Святополка бы разбил, и племя его выгнал из Владимира, и отдал бы Волынь законным, Ярополчичам!»
Так что, Она права? Выходит, что и впрямь всем нужно уходить в свой срок, а как задержишься, так и хлебнешь, ох и хлебнешь! А ведь лишь только первый день пошел! А их всего семь! И за эти семь дней…
Сел князь и обхватил руками голову. Гордец, сердито думал он, что возомнил! Володша, тот…
…Смеялся князь Володша, говорил:
– Молчат находники! Не лезут.
И не лезли. Рюрик опять ушел за море. И долго его не было. Вместо него сидел посадник, из варягов, и он брал дань, но только с ближних, с ильменцев.
Зато князь киевский, Оскольд, вошел в большую силу и брал и с ближних, и с дальних. А было это так: он сперва Любеч подмял, после Чернигов. А после взял Смоленск. После пришла зима. И пришел Оскольд к Полтеску. Пришел, как после все будут ходить – по льду, по замерзшей Двине. И только он пришел, и только встал на Вражьем Острове…
Как в Полтеске начался мор! И люди стали говорить, что это им за то, что они перебили доверившихся, да еще где – за поминальным столом! Володша гневался, кричал: а кто их к нам звал, белобровых?! Да только мор от этого не унимался. Тогда пошел Володша на кумирню и жег дары, рабов. Много сжег, но Перун ничего не ответил. И не заступился. А люди стали говорить еще страшнее: что Перун – старый бог, умирает, а у Оскольда бог совсем другой – и моложе, и крепче! Грозный, ромейский бог! И сам Оскольд теперь почти ромеич, и это он только для нас Оскольд, а для ромейского бога Оскольд – Николай. И чтит его, а бог ему за это дает силу. Володша не верил, смеялся. Тогда ему сказали: смейся, смейся! Прошлой зимой Оскольд тоже смеялся! Да и не только он один, а с ним весь Киев, когда к ним из Царьграда пришел ромейский волхв, он звался Михаилом, принес писание и говорил, что вот где истинная вера. Над тем Михаилом смеялись. Тогда сказал тот Михаил: «Смотрите!» – и бросил то писание в огонь. И отступил огонь! И все они, кияне, поклонились. И были крещены. А вот теперь они с тем грозным и всесильным богом пришли сюда. Их тьма. Мечи, щиты, кольчуги – все на них ромейское. А у Володши что? Да и Перун молчит. И отвернулись люди от Володши, отворили Лживые Ворота – те, прежде Верхние, через которые Трувор входил…
И побежал было Володша, но его схватили. И разорвали его здесь же, под окном. Оскольд на полочан дань положил и возвратился к себе в Киев. И тихо было в Полтеске, и заправлял здесь всем тогда Оскольдов посадник Четырь, а по ромейскому богу Леонтий. Володшу же, жену его, и сына, и братьев, и всю иную родню – всех под корень…
Всех, да не всех! Микула уцелел, Володшин младший сводный брат. Он, люди видели, в тот день ушел вниз по реке, их было две лодки всего. И, говорили, что они ушли к варягам. И, это добавляли уже шепотом, был Микула в Володшиной княжеской шапке. И это не зря! А потом…
Скрип! Что это? Князь резко поднял голову…
Игнат стоит в дверях. Переминается.
– Ну, что еще?! – спросил Всеслав.
– Так ждут они давно, – сказал Игнат.
– Которые?
– Те, на реке.
– А что Угрим?
– Уехал. Скоро. И всё честь по чести. Дали ему Лысого. А в поводу – Играя и Стреножку.
– Ладно. Иди. И я сейчас приду.
Игнат ушел. Всеслав нахмурился и осмотрелся. Тихо в гриднице, пусто. И бедно! Стол, миска, хлеб – и это всё. Да только что еще нужно? Если вот прямо здесь, за этим же столом, раньше отец сидел! А еще прежде дед. И много еще кто – весь род! А первым сел Микула. Надо, надо уважить, конечно! Князь отломил краюху хлеба и понюхал. Постоял… А после подошел к печи и опустился на колени. Тихо позвал:
– Бережко! Бережко!
Никто не ответил. Да князь ответа и не ждал. Он переломил краюху, покрошил. Опять позвал:
– Бережко!.. Ешь!
И сыпнул хлебных крошек в подпечье. Потом осторожно туда заглянул…
И улыбнулся – угольки! Да, словно угольки. Моргают, тусклые. Значит, жует. Сыпнул еще, потом еще, подумал: лик, он издалека привезен. А Микула ликов не имел, он кланялся кумирам… А Полтеск у Оскольда взял! Прости мя, Господи! Перекрестился князь, встал, осмотрелся. Никого. Стол, миска, хлеб. А за окном давно уже светло. Значит, пора уже идти. А то, небось, заждались.
2
Всеслав спускался по крыльцу. Крыльцо под ним скрипело. А что, и правильно, думал Всеслав, когда живой идет, оно всегда скрипит. А вот Она ходит неслышно. А ты пока живой, еще скрипишь…
Тьфу, гневно подумал Всеслав, какая грязь кругом! От крыльца – сразу в грязь! Идешь и хлюпаешь как по болоту. Перемостить давно уже пора! И говорил ты им, кричал даже, срамил! Но что им грязь? Им грязь привычна. Им – чтобы все было в грязи, чтобы никто из нее никогда не мог вылезти. И думают, что так оно лучше всего. И правильней, ровней. Ну да, куда еще ровней, когда холоп да князь равно в грязи! А если нет, так они сразу же бух в Зовуна – и глотку драть: в грязь! в грязь! И это будто бы по-дедовски. А если даже так, то что с того? Да разве только то, что по-дедовски, то и есть верх всего? Глушь, медвежатина! И зверь в тебе взалкал, щека задергалась… Тьфу-тьфу! Всеслав, охолонись! Какое тебе теперь дело до них? Тебе осталось-то всего да ничего, терпи!..
Всеслав остановился, постоял. После пошел, но уже не спеша. И так же не спеша князь думал: вот я иду и не гневаюсь. Вот я всё, что вижу, терплю. И всех, кого я вижу, жалую. Вот я миную двор. Вон Хром идет навстречу. Бог в помощь, Хром. А вон идет Бажен. Будь здрав, Бажен! Всеслав кивнул Бажену, потом опять кивнул еще кому-то, а вот кому, не рассмотрел, да это и неважно…
И тяжело остановился и повернулся к Софии. Поднял взгляд вверх, на ее купола. Снял шапку, перекрестился. Отдал поклон – не Зовуну, но только ей, Софии, потому что Зовун, он не наш, а он сам по себе, вечевой. И даже он не Зовун, а крикун! Но и мы тоже только сами по себе, гневно подумал Всеслав, и тоже слово знаем! И надел шапку плотно, глубоко – на самые глаза – и пошел дальше…
А сразу ведь хотел идти без шапки! Взял сапоги варяжской юфти, нагольный полушубок, меч. А шапку отложил.
– Застынешь, князь, – сказал Игнат. – Вон как тебя ночью знобило.
– Так то не от этого.
– Все от того. И все к тому!
– К чему?
Игнат не ответил. Но и Всеслав смолчал, больше уже не спрашивал…
И вот теперь он в этой шапке. Да только разве это княжья шапка? Сколько ей лет уже, гневно подумал Всеслав, да он еще на море в ней ходил, значит, с десяток будет. Ворс вытерся до лысины. В такой, что ли, в среду положат? А хоть бы и в такой – ему же этого уже не видеть! И Зовуна тогда уже не слышать! Вспомнив о Зовуне, Всеслав не выдержал и оглянулся – и посмотрел на него. Да только что там нового увидишь, Зовун как Зовун! Висит себе, как и всегда висел, ветер под ним, под языком, веревку треплет. Там, наверху, еще свежей, Зовун, небось, озяб без дела. Но погоди, даст Бог, скоро согреешься – и еще как! Вон в среду сколько звону будет, радости! Всеслав злобно мотнул головой, отвернулся и пошел дальше, к воротам.
В воротах стояли дружинники, Чмель и Вешняк. Эти увидели князя и заулыбались. А что, подумал князь, и правильно, потому что он кто им? Кормилец! А кто им Зовун? Вот то-то же!..
Да только теперь, вдруг подумал Всеслав, уже не срок делить на княжьих и на градских. Теперь это все позади. И он, кивнув дружинникам, вошел в ворота. В те самые, которые когда-то были Верхними, а теперь называются Лживыми. Сначала Трувор через них входил, потом Оскольд. А прадед твой, Владимир Святославич, внук Игорев и правнук Рюриков, тот сюда конно въехал, по костям. Да и по чьим еще костям, прости мя, Господи! От Буса счет ведем, и было в этом счете всякое, но никогда еще такого не бывало, чтобы вот так к нам в род и в кровь въезжали – конно и незвано и через нашу же кровь и по нашим костям! И вот от них, вот от этих ворот, от того дня и началась вражда непримиримая! А сразу за воротами мосток, ров под мостком. И в этом рву, когда со стен стреляют, ох немало руси полегло!..
Нет, всё это не то, совсем не то, думал Всеслав, вступая на мосток. А сразу за мостком тропа вильнула в сторону, в кусты, и круто пошла вниз, к реке. А на реке, у берега, Всеслав увидел лодку, а в ней, на веслах, двух Невьянов: один Ухватый, а второй Копыто. Всеслав нахмурился, подумал: это недобрый знак – садиться между одноименными. Да только что теперь к добру?! И он пошел дальше, спустился, после легко, не по годам, заскочил в лодку, сел между гребцами и велел:
– Не шибко.
Невьяны ровно, ладно выгребли на стрежень. На Вражьем Острове кричали галки. На Заполотье было еще тихо, там даже еще туман не разошелся. И ветер как будто бы стих, но пробирало крепко. Всеслав поплотней запахнул на себе полушубок. Сидел, смотрел на воду. Вода была серая, мутная, в такой ничего не рассмотришь. Да и зачем это рассматривать, думал Всеслав, когда и так всё известно! Здравствуй, Дедушка, вот я тебе поклонился, ты видишь? Так и в Никитин день я тоже тебе кланялся! Это от меня тогда были те люди и от меня тот дар! А ты мне вчера отплатил – и я это уже отведал. Очень было жирно, очень вкусно! Жаль, что в последний раз. Правда, теперь у меня все будет последнее: сначала ты, а дальше пойду поклониться Хозяину. Как думаешь, он меня примет? Молчишь? Ну-ну, молчи, а что тут скажешь!
Всеслав вздохнул и разогнулся, и на воду уже не смотрел – а вперед. Невьяны гребли молча, споро. После Всеслав повернулся к Копыту, спросил:
– Там, что ли, Дедушку нашли? – и указал на ближайшую заводь.
– Нет, пусто там, – сказал Копыто. – А это вон где, дальше. И то он не сразу отозвался! Полдня искали его, кликали. А тихо! Но этот всё равно нашел! Этот, конечно, а кто же еще! – и Копыто кивнул на Ухватого. Ухватый только хмыкнул, отвернулся.
И опять они молча гребли. А князь опять смотрел на реку, думал: они ловкие. А будешь неловким – и будет беда. Он же потом всё лето будет пакостить – сети порвет, челн опрокинет. А то и самого тебя утопит! Поэтому, как только Никитин день наступает, а Дедушка просыпается – и всегда злой, голодный – а они уже здесь! И вот уже ему твой дар! Лучше всего, он больше всего это любит, лошадку ему утопить. И тогда уже все лето будь спокоен! Как Ратибор тогда…
Нет-нет! Князь отмахнулся, словно от видения, неловко, криво усмехнулся и спросил:
– А налима кто прибрал? Тоже ты? – и посмотрел на Ухватого.
Но тот опять только хмыкнул. Зато Копыто сразу зачастил:
– Он, князь, а кто же еще?! Вот вроде мы рядом стояли. И у меня ничего. А он ладошкой по воде плясь-плясь, потом чего-то пошептал – и зверь к нему идет! А он его за жабры! Он слово знает, князь. Он и креста не носит!
– Ношу! – обиделся Ухватый. – Тогда только и снял, чтобы…
– Вот-вот, снимает! – перебил Копыто. – Значит, не зря! А я хоть целый день буду стоять, и хоть сниму, хоть не сниму – и ничего. А этот только пошептал… Да ты не бойся князя! Князь сам…
– Что сам? – строго спросил Всеслав.
– Да так… – Копыто поперхнулся. – Глуп я. Не слушай меня, князь.
– Я и не слушаю. А ты молчи!
Молчали. Город уже скрылся. Теперь по левой стороне были одни курганы. Поганые. Заросшие! Ибо туда ходить нельзя, ты сам это всем запретил. Ибо, сказал, не вера это, а обман, и не боги, а зло. Стозевые и ненасытные! А сам что на груди носил? Пресвятый Боже! Только в Тебя верую! А то, поганое… Зачем оно мне, торопливо подумал Всеслав. И жарко мне, думал он дальше, еще торопливее. Распахнул полушубок, схватился за грудь, сунул руку под ворот, нащупал крест…
И отлегло, отпустило! А то, подумал, вдруг Она ночью и крест… Нет, крест был на месте! Князь сжал его – сильней, потом еще сильней. Казалось, что еще немного – и он проткнет ладонь, но князь сжимал его, сжимал. Крест, думал, вот где сила. Кем ты ни будь, а он сильней тебя! Жил в Кракове епископ Станислав. Он говорил: король погряз в грехе. И подбивал людей на бунт. А может, и не подбивал, а просто говорил, как оно было. Но король Станислава не слушал! И тогда Станислав объявил, что не допустит короля к причастию. И вообще не примет его в храме. И вот тогда король – тот самый Болеслав, который вел на Киев Изяслава и изгонял тебя, законного… Да, и законного, а что?! Ибо кто ты? Внук Изяславов, старшего из сыновей Владимира, и принял ты венец его, Владимиров, по чести, всенародно, и сам митрополит тебя венчал… Да, Болеслав! Так вот, тот самый Болеслав – Необузданный, так его звали – явился в храм, схватил епископа прямо во время мессы и угрожал ему мечом! А Станислав сказал: «Побойся, Болеслав! Что будет мне, то будет и всей Польше. Вот я целую крест, что будет так!» И он поцеловал. А Болеслав только смеялся. После схватил епископа и выволок на его площадь, и там его убил, четвертовал. И что теперь? Нет прежней Польши, нет короны! Поднялся люд, изгнали короля… И вместе с ним исчезла и корона. Говорят, что Болеслав унес ее с собой, спрятал под рубищем, бежал. И где-то в Швабии, Тюрингии – никто точно не знает, где – он сгинул. Тот самый король Болеслав, который Киев брал, Поморье жег, богемцев, угров воевал… А вот теперь его брат Владислав – просто князь. А Польша, как тот Станислав, разрублена и четвертована, распалась на уделы. Вот каково чрез святой крест переступать! И вот в чем твоя сила, князь, – в кресте, а не в бесовских чарах. Что чары? Дым! Сожгли Перуна – и ушел Перун, рассеялся как дым, курганы заросли. А ты как правил, так и правишь. А оберег сорвал, а крест поцеловал – и Она от тебя отступила! А сколько лет носил ты этот оберег, и как ты на него надеялся! А зря! Всего семь месяцев ты был Великим князем. Когда же ты узнал, что Болеслав идет, то выступил ему навстречу, и верил ты, что оберег спасет тебя, как спас из поруба и как вознес над всей Русью! А после… предал он тебя, не оградил от ляхов! И ты ушел, бежал в ночи – как волк. Обидно было, зло душило. Одно тогда лишь и утешило: что будто Болеслав взял Изяслава за грудки…
Да только лгали люди! И так всегда. Лгут, если это им на пользу или в утешение. А также еще лгут для страха – и не только для того, чтобы кого-то напугать, но чтобы и себя. Ну а себя-то им зачем? Ведь же Микула говорил:
– Страх – это зло! Ты не должен никого бояться, только тогда ты настоящий князь.
И Микула знал, что говорит. Семь лет был Полтеск под Оскольдом, семь лет Микулы с нами не было. Бежал совсем еще мальчишкой, зато вернулся настоящим воином, и воинов привел с собой. Много привел! А собирал их, говорил, по зернышку: свеи, урманы, пруссы, руянцы. Им всем – что Удин, что Перун, что Святовит или ромейский Бог – едино. И вот пришли они, Микулины дружинники, стали на Вражьем Острове. А было их семь кораблей, по-варяжски – драккаров. Под вечер дали полочанам знать – стрелой пустили грамоту. В ней было сказано: «Завтра зажгу. Бегите». Но полочане в это не поверили, били в Зовун, сошлись на вече. Потом всю ночь готовились, утром взошли на стены…
А Микула, как и упреждал, зажег! Они метали огненные стрелы – и загорелся город. Потом пошли они на приступ. И вошли. И люто резали – всех, без разбора. А что! Им так велел Микула, он кричал:
– Под корень! Всех! За брата! За жену его! За род! За страх мой! Режь!
И они порезали. А огонь был такой, что после только через год отстроились. И опять жизнь пошла! Новый терем поставили, новое капище, новые стены. Пришел Бережко, приплыл Дедушка. Микула строго княжил! Детей своих от королевны урманской, как только они подросли, сразу послал варяжить. Ушли трое, а вернулись двое. Он их опять послал – и вернулся уже только один, Глеб. Вот этот Глеб потом и правил. Ятвягов воевал, литву, латталлу…
А с Русью был особый уговор: вы сами по себе, мы сами. Но так стало не сразу. А сразу было вот как: когда Олег пошел на Киев на Оскольда, то он послал в Полтеск меч – мол, берите его и идите за мной. Но Микула этот меч переломил и возвратил его Олегу. Тогда Олег один пошел. Сел в Киеве, Оскольда удавил, храмы ромейские пожег, вернул Перуна. А после опять послал своих людей к Микуле. Но на этот раз люди пришли ни с чем. Как это так, спросил Микула. А так, ответили ему, меча меж нами нет, вот что, и мы идем на волоки. Микула засмеялся и сказал: быть по сему! На том и порешили: Двина моя, Днепр твой, а волоки наши, едины. К тебе идут купцы, ко мне – пусть вольно ходят, ибо меча меж нами нет.
И долго его не было. Сперва у них Олег сидел, а после Игорь, а после Ольга, а после Святослав – и все они держали мир. А после даже более того: стал Святослав все чаще заговаривать, что, мол, у тебя, брат Рогволод, есть дочь-красавица, а у меня есть сын. Но если бы так просто – сын. А то ведь их у Святослава было трое, и двое из них королевичи, а третий – рабынич Владимир, вот кто! Всеслав, вспомнив такое, стиснул зубы, щека опять задергалась.
– Игнат! – крикнул Всеслав.
Но тут же опомнился и посмотрел на Невьянов. Но они как ни в чем не бывало гребли. Всеслав помолчал, подождал…
Нет, они на него и не смотрят. Так, может, подумал Всеслав, крика и вовсе не было? Может, это ему опять почудилось – как ночью?! Или он стал совсем как баба? Смерти испугался, вот как! Или не смерти, а Хозяина? А ведь Хозяин уже совсем близко, подумал Всеслав, осмотревшись. Бельчицкий ручей они уже миновали, осталась только Слепая коса. Слепая, повторил Всеслав, и поморщился. Люди думают, что они зрячие. Ну, мало ли что люди думают! Да и до людей ли сейчас? Тихо, гладко кругом. Князь опять склонился над водой и тайно, про себя, заговорил: где ты же, Дедушка, хоть бы взыграл, волну пустил, ладошкой хлопнул! Ведь я же тебя на этот раз не просто одарил – а я, как чуял, тебе Орлика пожаловал! Его ко мне вот так же, по весне, от угров привели. Купец попался въедливый, он цену не сбавлял, а наоборот накидывал. А жеребец храпел, приплясывал. Красавец! А масть, как говорится, в бороду – такая же каурая, а глаз бешеный, а холка двужильная! То есть по всем приметам надо было брать. И взял я, и смирил его, взнуздал. После провел в поводу, остудил, а после вскочил на него… И аж сердце запело, вот как! Потому что ну еще бы! Стать у Орлика видная, шаг легкий, бег размашистый. Но только ох как давно это было! А нынче…
И он посмотрел на того, кто смотрел на него из воды и подумал: а нынче ты и сам уже не головной, а кляча клячей. А конский век еще короче! Поэтому когда четыре дня тому назад Игнат спросил, кого будем давать, ты сердито ответил:
– Так этого! Я же им уже показывал, которого!
Но так и не сказал, что Орлика, не смог. Но Игнат и так всё понял, весь аж побелел и чуть слышно сказал:
– Да что ты?! Как можно?! Грех-то какой! Его – да водяному!
А ты ему гневно:
– А ну! А не то!.. – и схватился за меч.
И взяли они Орлика, свели его к реке. Там ему голову медом намазали, солью посыпали, а в гриву ленты вплели. После стреножили его и повалили в лодку. Ухватого на берегу оставили, а сами выгребли на стрежень и стали ждать знака. Ухватый ходил, слушал, после чего-то услышал, махнул рукой – и они толкнули Орлика из лодки. И больше не стало Орлика. Отведал его Дедушка, замаслился и привел Ухватому налима – прямо в руки, не надо ловить! И, значит, не налим это, а Орлик. Вот так-то, князь! Только какой в этом грех, если ты теперь сам почти как Орлик? А что, разве не так, подумал князь и мрачно усмехнулся. Так, конечно! Потому что ты вот сейчас приплывешь, накормят тебя, выведут… Конечно же, это поганство, но так давно заведено. Сперва отец ходил, а ты только смотрел, а после уже сам туда ходишь – с пятнадцати лет. А этот раз, как ты теперь знаешь, последний. Да и вон уже они – стоят на берегу. Там, впереди… Но Всеслав отвернулся от них и сердито велел:
– Шибче! Шибче давай!
Зачастили Невьяны. Брызги летели холодные, прямо в лицо. И это был славный холод! А берег быстро приближался. Да, снова подумал Всеслав, а ведь и вправду как Орлика! Ш-шах – прошуршало днище по песку. Лодка уткнулись в берег. Всеслав поднялся и поправил шапку. Копыто – по обычаю – сказал:
– Под ребра, князь!
– Как водится, – сказал Всеслав и быстро вышел из лодки. И так же быстро взошел на бугор. Сказал выжлятникам:
– Не обессудьте, припоздал. Дела были спешные.
Выжлятники – их было трое – согласно закивали: спешные. А старшой из них, Сухой, еще сказал:
– И не беда. Дни нынче длинные, успеем.
– И то! Пошли, – велел Всеслав.
И они все четверо пошли. Всеслав шел впереди. Ноги сильно скользили в грязи. Грязи было очень много. И это уже на бугре не пройти, раздраженно подумал Всеслав, а что тогда будет внизу? Совсем болото!
Так оно там и было – болото. После свернули в ельник – и там то же самое. Шли, хлюпали. Молчали. Потом Сухой заговорил:
– Все в срок идет. Он еще с ночи встал, маленько походил, а теперь опять лежит.
– На ветках лег? – спросил Всеслав.
– Нет, у себя, в берлоге. Это он вчера на ветках был. И позавчера. А тут будто почуял! Лежит, не кажется. Я думаю, что это добрый знак. Так, князь?
– Так, – равнодушно ответил Всеслав.
Сухой опять что-то спросил, но Всеслав не расслышал. Не слушалось! Хотелось просто тишины… А тут еще опять полезло в голову такое: а ведь и впрямь, наверное, всему свой срок назначен. Сейчас срок реке просыпаться, и лесу тоже, и полям, значит, пора год начинать. Жаль только, что день сегодня выдался неладный – грязь, холодно, дождь собирается… Да только дело не в дожде, а в том, что сколько лет ты сюда ходишь, а так и не привык. Но тут привыкнуть трудно! Это потому что ты как Орлик. А этим, выжлятникам, что? Сухому тридцать лет от силы! А Третьяку и того меньше. А Ждан вообще еще безусый. На следующий год они другого князя сюда поведут и будут говорить ему «все в срок». Им еще жить да жить!
Собака тявкнула. Костром повеяло. Князь усмехнулся и подумал, что он уже как раз проголодался – значит, и это тоже в срок!.. Как вдруг Сухой спросил:
– А правда, князь, про кречета?
– Про кречета? – переспросил Всеслав. – Которого?
– Так, говорят, тебе пообещали.
– Кто?! – удивился князь и даже остановился.
Сухой пожал плечами и сказал:
– Так ведь болтают всякое…
– Ну-ну!
Сухой вздохнул и отвернулся. Они опять шли молча. Ишь, кречеты, гневно подумал Всеслав, откуда он такое взял? И, не удержавшись, спросил:
– А что тебе до кречетов?
– Так, ничего, – осторожно ответил Сухой. – Просто я их ни разу не видал. А говорят, что они лучше соколов. И их за Камнем, говорят…
– Так то за Камнем! Вон куда хватил!
И князь даже рукой махнул, будто показывал, где кречеты. И опять они шли молча. Хлюпали. Теперь уже не думалось – совсем.
А вот и та поляна. Вот и костер горит. И они все там сидят. Но только завидели его и сразу подскочили. Один Ширяй Шумилович… Нет, вот и он встает. Любимов прихвостень, заводчик, гневно подумал Всеслав. Вот ты ж поди, нашли кого прислать, дальше подумал князь, еще сильнее распаляясь. Сейчас начнет во здравие да приторно! Ну, говори же ты!
Но Ширяй почему-то молчал. И все они молчали. Наверное, что-то случилось – и очень недоброе! Князь настороженно спросил:
– Не удержали, да? Ушел Хозяин?
– Нет, не ушел, – уклончиво ответил Сила.
– А что тогда?.. Ширяй!
Ширяй степенно облизнулся и сказал:
– Хозяин плачет.
Вот, сердито подумал Всеслав, а что ему, смеяться, что ли? И удивленно спросил:
– Как это плачет?
– Так. Послушай.
И замолчал Ширяй, застыл. И все они молчат. Всеслав чутко прислушался…
Тишь-тишина! Собак, и то не слышно – лежат, уши прижав, не шелохнутся. А вот как будто бы… Всеслав нахмурился… А вот опять… А вот…
Всеслав шумно, облегченно выдохнул, осмотрел их и насмешливо сказал:
– Так это же скрип, а не плач! Ну, дерево скрипит, а вы… как бабы старые!
– Нет, князь, это плач, – тихо сказал Ширяй. – Мы подходили. Это от Хозяина.
– А хоть и от него! Ее почуял, вот и плачет.
– То, что Ее, так это верно, – согласно закивал Ширяй. – Вот только чью Ее!
Пес! Мелет что! Взъярился князь: рот сразу повело, оскалился, а рука – тоже сразу – на меч!
– Князь! Господарь! – крикнул Сухой, схватил его, сдержал.
Да, сдержал бы, не будь моей воли, сердито подумал Всеслав, и оттолкнул Сухого. Но и меч убрал в ножны. Неспешно убрал! После очень недобро сказал:
– Ладно! Живи, Ширяй! Садись пока… А вы все чего стоите?!
Все опять опустились к костру. Теперь они опять сидели. А князь стоял и слушал… Да, сердито подумал, скрипит. Но где это точно, не видно, там же такая чащоба… И ладно, пусть так! И князь сказал в сердцах:
– Бери! – и растопырился, руки развел.
Сухой снял с него меч, шапку, полушубок. Князя опять стало знобить, как ночью. Но теперь это просто от холода – это здоровье. Князь усмехнулся, подошел к костру, сел, осмотрел собравшихся. И они тоже на него смотрели. И все по-разному! Так ведь и сами они разные, равнодушно подумал Всеслав и сказал:
– Ковш!
Ему подали ковш. В ковше был овсяный кисель на меду. Всеслав испил большой глоток, утерся и сказал:
– Ком!
Подали ком. Князь разломил его, съел половину и запил, еще отъел, а остальное передал по кругу. Ком был как ком, гороховый, Хозяин это любит. Как и овес, и мед. А скрип – это совсем не плач…
И тут выжлятники запели – тихо, заунывно. Только никакая это была не песня, а самое настоящее поганское заклинание. Хозяин, не гневись, пели они, Хозяин, не серчай, не обессудь, мы твои дети, мы всегда… Всеслав опять поежился. Пресвятый Боже, что это, зачем, сердито думал он, вот крест на мне, чист я, вот я тяну руки к огню, и лижет он меня, а не согреться мне – мороз меня дерет. И прежде драл. К такому не привыкнуть. Но так заведено, терпи. Отец терпел, и дед, от Буса так идет, ты им как оберег, как Орлик. Поют они и смотрят на тебя, надеются, что отведешь от них Хозяина, задобришь, усмиришь. А нет так нет, в лес не пойдут, будут стеречься. Ударят в Зовуна, другого князя себе выкрикнут. А ты…
– Я, – сказал князь, – готов, – и встал.
Все тоже встали. Ширяй перекрестил его. Сухой подал рогатину. Пошли – князь впереди, все остальные следом. Князь шел и слышал, как Третьяк поднял собак, как те залаяли – но даже не оглянулся. Только поправил крест, перехватил рогатину. Шел и молил в душе: Пресвятый Боже! Наставь меня. И укрепи. Дай сил. Ибо один лишь Ты есть защита моя и твердыня моя, щит и прибежище. Велика милость и щедрость Твоя… И вдруг сбился, и подумал в гневе: а ведь не то это, не то! А ведь Она права! Сейчас твой срок или потом, через семь дней – все едино. Ибо что есть семь дней? Ничто. А сам ты кто? Никто. Вот и знобит тебя – и это совсем не от холода!..
– Куси! – крикнул Третьяк. – Куси!
Собаки кинулись к берлоге. Лай. Крики. Топот. Гиканье. В рога дудят…
И, наконец, его рев! А вот еще громче и злее! А вот еще! А где он сам? Всеслав, не утерпев, шагнул было вперед…
И вот он – выскочил Хозяин! А матерый какой, высоченный! Собак – хряп лапой, хряп. И завертелся, ринулся, вновь вздыбился и заревел. И тотчас же присел, упал, вскочил. А псы – знай, рвут его. За гачи, за спину. Так его! Так! Псари орут:
– Ату! Ату! – и в бубны бьют, дудят в рога.
И вот он встал, застыл, оскалился и глянул на тебя. Вот, в самый раз его сейчас! Ну, князь, не мешкай!
– Хозяин! – закричал Всеслав. – Сюда! Вот я, твой брат! Ко мне!
И еще выступил вперед, и выставил рогатину, и рожон повернул на него! И еще закричал:
– Эй! Ты где?!
И тут он ринулся! Рев! Пена! Пасть!
Р-ра! Хррр…






