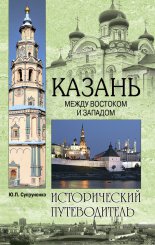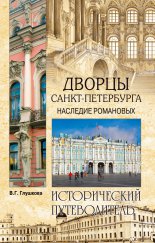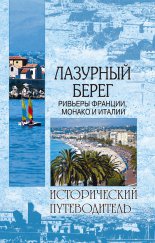Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Ave Maria Михальский Вацлав
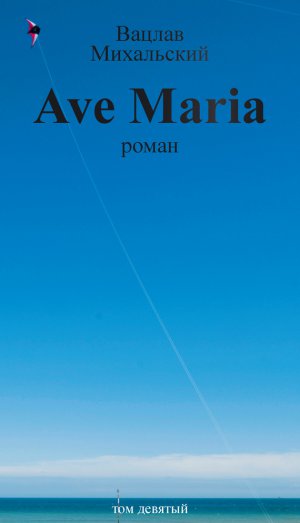
– Пожалуй, – согласилась Мария, – но тогда и ужин велите подать в номер.
– Хорошо, мадам, я пришлю к вам хозяина ресторана, Эмиль примет заказ. Он остался вами очень доволен. Кстати, это мой младший брат.
– Спасибо за гостеприимство, мадам Мари, – сказал, поднимаясь, Павел, – я выйду на улицу.
– Хорошо, а мы еще поболтаем, пока девочки не прибрались, – сказала Мария.
– Мне так приятно с вами, – сказала Марии хозяйка гостиницы, – как будто родню встретила. Вы графиня, а такая простая. У вас такой импозантный муж, наверное, и дети очень красивые.
– У меня нет детей.
– Да вы что?! Детей надо, вам еще не поздно. Вам ведь и сорока нет?
– Что-то в этом роде, – смешавшись, отвечала Мария.
– Ой, что я вам скажу, – переходя на шепот, склонилась к гостье хозяйка, – даже не соображу, как начать… Короче… нет, боюсь, вы неправильно поймете.
– Говорите, я пойму все правильно.
– Все дело в кровати, мадам Мари… Понимаете, вот вы завтра уедете, а у нас как раз время свадеб, и у меня запись. На полтора месяца все расписано. Мы осенью каждые сутки сдаем ваш номер под первую брачную ночь. У нас знаменитая кровать, не зря она такая огромная. А главное – счастливая! Столько деток родилось, и пересчитать нельзя.
– Так мы задерживаем свадьбы? Нам лучше съехать? – огорченно спросила Мария.
– Нет-нет, что вы, Ваше Превосходительство! Молодые подождут, живите, сколько хотите.
– По рукам! – засмеялась Мария.
– По рукам! – подтвердила Мари, и они звонко хлопнули ладонь о ладонь, как заговорщики.
– К вечеру разжигайте камин, а к вашему брату ресторатору мы сейчас пройдемся сами, закажем хороший ужин.
– Я обещаю со свечами, – сказала Мари вслед уходящей Марии.
Ужин при свечах удался на славу. Яблоневые сучья и ветки в огромном камине горели ровно и источали тонкий аромат древесного дыма. А за открытым настежь окном номера стоял еще живой яблоневый и абрикосовый сад, слегка подернутый синеватым туманом.
– А ты любишь хорошие стихи? – встав с кресла у камина, Мария подошла к раскрытому окну.
– Возможно. Но вообще-то я по технике…
- – О счастье мы всегда лишь вспоминаем,
- А счастье всюду, может быть, оно
- Вот этот сад осенний за сараем
- И чистый воздух, льющийся в окно, —
продекламировла Мария.
– Красиво. И похоже на правду. Кто написал?
– Бунин. Он живет где-то на Юге Франции.
– Много приличных людей уехало из России, – Павел вздохнул, – много. Хотя, когда у французов была их Великая революция, они ведь бежали спасаться к нам. И не просто спаслись, а послужили России верой и правдой. Взять хотя бы праправнука того же кардинала Ришелье. Этот Ришелье-младший и во взятии Измаила участвовал, и градоначальником Одессы был, ему даже там памятник есть от благодарных жителей. Он ведь и генерал-губернатором Новороссийского края был. А потом, после победы над Бонапартом, дважды возглавлял кабинет министров Франции. Так что толковый у кардинала был праправнук и, говорят, при этом еще и бессребреник. Такие бывают на свете чудеса: при должностях, при монарших милостях, воруй, сколько унесешь, а он бессребреник. Бриллианты из русских орденов выковыривал и продавал, чтобы кормиться в отставке.
Они не стали рисковать и заказали у ресторатора то же самое вино, что пили вчера.
– За что пьем? – поднимая бокал, спросила Мария.
– Не зря говорят: «слово – серебро, молчание – золото». Давай выпьем молча, каждый за свое, заветное.
Они звонко чокнулись, помолчали и осушили до дна свои бокалы.
Потом долго смотрели в тишине на пляшущие язычки пламени в камине.
За что поднял свой мысленный тост Павел, Мария не знала, а сама она выпила за надежду… за ту надежду, что поселила в ее душе хозяйка гостиницы. После разговора с ней Мария только об этом и думала. А вдруг? Всякие в жизни бывают чудеса, надо только набраться сил и поверить. Кажется, она уже поверила. И сейчас, когда Мария смотрела на огонь в камине, ей вспоминалось: ливийская пустыня; оазис Бер-Хашейм, в который они ездили с Улей к знахарке Хуа, ее золотые браслеты на щиколотках ног и на руках, выкрашенные хной ступни ног и ладони; крохотные чашечки бедуинского кофе на золоченом подносе, большие горячечно блестящие черные глаза знахарки Хуа. Вспомнились и слова заключения, которое вынесла Хуа после осмотра Марии и Ули: «Вас не от чего лечить. Вы здоровы, а чтобы родить, вам нужен здоровый мужчина». Конечно, вспомнился, не мог не вспомниться и тот (на волоске от гибели) эпизод с генералом Роммелем, который встретился ей в ливийской пустыне во главе тяжелых танков. Вспомнилось, как бывший при генерале полковник спросил:
– Господин генерал, разрешите расстрелять караван? Из крупнокалиберного пулемета – минутное дело. – Его добрые голубые глаза старого учителя вспыхнули на мгновение чистым светом, как у человека, способного быстро и хорошо сделать свою работу.
Роммель не разрешил.
– Красивая дикарка, – печально сказал Роммель, пристально взглянув на Марию. – Ладно. Пусть родят сыновей. – Роммель поднял руку в знак прощания, повернулся и пошел к танкетке.
– Слушай, дядя Паша, а давай поживем здесь подольше, – вдруг предложила Мария. – А до Марселя тут ходу шесть часов.
– Я и сам думаю, как оставить такую кровать на произвол судьбы, – весело сказал Павел и, подойдя к Марии, обнял ее за талию.
В Труа еще был поздний вечер. Мария и Павел сидели у вкусно пахнущего горящими фруктовыми ветками камина, медленно попивали терпкое красное вино, нехотя говорили о том о сем, а больше молчали. Им и молчать вдвоем было очень хорошо, может быть, даже лучше, чем говорить.
А в Москве тем временем уже наступила ночь. Два часа разницы, да еще в конце октября давали о себе знать в полной мере. В отделении, где лежал выздоравливающий Адам, давно все стихло, и свет в коридоре был только от настольной лампы на посту дежурной медсестры. Все, кто мог спать, спали. Адам был из тех, кто не спал. Во-первых, его угнетал храп одного из соседей в дальнем углу палаты. Похрапывали все, но этот храпел временами так остервенело, как будто несся куда-то на мотоцикле без глушителя. Во-вторых, Адам только и думал теперь, что о своих женах. Обе они были ему желанны. И ту, и другую он любил и уважал. И той, и другой был обязан жизнью. И что ему теперь делать? Отказаться от одной ради другой? Но почему? Как ему разыскать Ксению? Как передать хоть какую-то весточку о себе маме и отцу? Как быть? Это тебе не Гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» В том-то и задача, что «быть», но как ему быть? Он пытался думать о своих женах поодиночке, о каждой в отдельности, а они все время сливались вместе, и ничего нельзя было с этим поделать, хоть плачь. Но лучше не плакать, а попросить у медсестрички снотворное, иначе промучаешься до утра.
Хорошенькая белокурая и светлоглазая медсестра Катя знала, что Адам хирург, знала, что он ассистент самого Папикова. Как-то это знание быстро распространилось среди медперсонала, в основном женского. Возможно, так получилось потому, что Адам был, безусловно, красивый мужчина.
– Катя, дайте мне снотворного, – попросил Адам, подойдя к стойке, за которой сидела медсестра, вчитавшаяся в книгу так глубоко, что она даже и не сразу услышала Адама.
– Ой, товарищ майор, а я на вас рассчитывала, – оторвавшись от книги, сказала Катя.
– Да? – Адам приветливо взглянул в лицо девушки своими эмалево-синими, притягательными глазами.
– Нет, не в том смысле, – покраснев, засмеялась Катя. – Там в пятой палате тяжелый, и я думала, если что, с вами посоветуюсь. Мне и дежурный врач так сказал: «Если я занят, посоветуйся с майором из третьей палаты, он очень опытный». А если вам снотворного, то как же?..
– Действительно, – Адам почесал переносицу. – Ладно, накапай хоть валерьянки и пустырника.
– Это запросто, – обрадовалась Катя, и скоро на посту крепко запахло валерьянкой и, послабее, пустырником.
– А что читаете? «Анну Каренину»? «Королеву Марго»? – покровительственно улыбаясь, спросил Адам.
– Вот, тридцать капель валерьянки и двадцать пустырника. Водой насколько разбавить?
– На мизинец, – вспомнив выражение своей жены Александры, сказал Адам. – Довольно. Ваше здоровье, мадемуазель! Так что читаете? – спросил он, выпив успокоительное.
– «Случайные процессы», – показала ему обложку серой потрепанной книги Катя, – это в развитие теории вероятностей – высшая математика.
– Ничего себе, – озадаченно сказал Адам. – А зачем?
– Я учусь на физмате заочно.
– А почему не в меде?
– Не люблю медицину. У меня уже в печенках сидит смотреть, как люди мучаются. А я в прошлом году математическую олимпиаду выиграла, поэтому и взяли на заочное без экзаменов и сразу на второй курс.
– Для меня это темный лес, – сказал Адам, – и как ты понимаешь?
– Ой, что вы, товарищ майор, математика как музыка, – одна радость. Чего там понимать? У меня и дед был математик. До революции по его учебникам даже учились в университетах.
– А как же ты оказалась в медицине?
– А я после детдома устроилась в медучилище, училась, а по ночам работала санитаркой. У нас директор детдома был очень хороший дядька, он всегда говорил: «Вам, ребятки, нужна работенка такая, чтобы нигде не пропасть». Вот он и устроил нас девять девчонок в медучилище. Уже война шла, медики были нужны позарез. В войну нас долго не учили, вместо четырех лет два года – и диплом.
– Понятно, – задумчиво сказал Адам, – с тобой, Катя, все более-менее понятно, а вот с твоей математикой… Я, например, никогда не мог понять, почему А плюс В в квадрате могут чему-то равняться? Почему дважды два четыре?
– Потому что так договорились, – сказала Катя. – Математика точная наука в рамках точных договоренностей.
– Я об этом смутно догадывался, – растерянно сказал Адам. – Но понимаешь, в чем дело? Дело в том, что все в этой жизни на договоренностях. И обычаи, и законы, и правила – все на договоренности.
– Возможно, но про жизнь я не готова говорить, я ее пока мало знаю, – уклончиво ответила девушка. – Вы здесь постойте, товарищ майор, а я сбегаю посмотрю, как там тяжелый.
Адам кивнул в знак согласия.
– Спит, – радостно сказала вернувшаяся Катя.
– Я тоже пойду. Спасибо, прочистила мне мозги. Удачи тебе, Катя.
– Спасибо, товарищ майор. А вот который сильно храпит, вы ему так делайте: «тца-тца-тца», и он перестанет.
– Попробую, – сказал Адам, направляясь в свою палату.
Удивительно, но первое же «тца-тца-тца» подействовало на храпуна, и он умолк на какое-то время. А когда снова поехал на своем мотоцикле без глушителя, Адам уже спал.
Адам спал под заливистый храп соседа, а Ксения, Александра и Анна Карповна не спали в полной тишине «дворницкой». Даже за стеной в кочегарке не было шума. Наверное, и дядя Вася заснул, тот самый старичок, что иногда, встретившись один на один с дворничихой Нюрой, хитро подмигивал ей и говорил отчетливым шепотом: «Эх, хороша советская власть, да больно долго тянется».
В октябре 1948 года полнолуние было 18-го числа. С тех пор видимый диск луны изрядно истаял. И теперь, в ночь с 24 на 25 октября, в потолочное окно «дворницкой» светила едва ли пятая доля ущербной луны, небольшая, но зловеще яркая. Сильный верховой ветер давно разметал дождевые тучи над центром Москвы, дождя как не бывало, и ночь стояла тихая, лунная.
Анна Карповна не любила ущербную луну, а вот новолуние, или, как называли у них на Николаевщине молодой серп месяца, «молодик», до старости лет ждала с детской надеждой на чудо. До новолуния ровно неделя, и тогда станет окончательно ясно и для Анны Карповны, и для Александры, будет чудо или не будет. Конечно, Анна Карповна имела в виду беременность дочери. Боже! Как ей хотелось внучат! Но если дочь беременна, то по срокам вряд ли от Адама. Со дня их встречи только сегодня исполнится две недели… Маловато… значит, от Ивана. Но так, наверное, оно и лучше, правильнее. Хотя что значит правильность по сравнению с любовью? Ничего, ровным счетом. Саша рассказывала, что они с Иваном уже не раз заговаривали о маленьком и все эти разговоры начинал сам Иван. Может, и сбудется. На свете жили и живут миллионы людей, рожденные от нелюбимых. Значит, будет еще одним больше. Хотя ребеночек-то в чем виноват? Ничего, стерпится-слюбится.
От размышлений об Александре Анна Карповна как-то незаметно перешла к воспоминаниям о своей собственной молодости. Она ведь выскочила замуж неполных шестнадцати лет и родила всех трех детей в любви и верности. Ее первенец Евгений погиб 5 ноября 1914 года в первом бою русских и немецких кораблей на Черном море. Накануне он был досрочно выпущен из Санкт-Петербургского морского корпуса. Марии на тот момент было девять лет, до рождения Саши еще оставалось пять лет, а до гибели мужа и исхода русских кораблей за море шесть лет. Это сейчас все подсчитано по факту, а тогда было непредставимо… Сын, по обычаю, похоронен на дне морском; мужа «пустили в расход» красные, и где он нашел упокоение, одному богу известно; Мария скитается по миру. Слава тебе, господи, осталась при ней Александра, но теперь у нее своя жизнь. Жизнь – странное времяпровождение – до тридцати тянется, а после тридцати летит с нарастающей скоростью. Вот ей, Анне Карповне, по паспорту 65, а на самом деле скоро семьдесят стукнет, в декабре этого года. И где же они, эти годы? Куда провалились? Или их ветром сдуло? Так называемым ветром истории. Слава богу, она прожила без подлостей, что правда, то правда. Ни одного низкого поступка не было за ее душой: не предавала, не убивала, не мучила, не доносила, не наговаривала, не сталкивала людей лбами! До сорока жила как бы одной жизнью, а после сорока жизнь ее разломилась, и она узнала и голод, и холод, и унижение. Слава богу, ни сумы, ни тюрьмы не было – Господь миловал. А вся ее заслуга в этой жизни, получается, только в том, что подняла она Сашеньку. Еще бы хоть одного внучонка поднять, Господи! – Анна Карповна перекрестилась. – Господи, спаси и помоги! – И вспомнился ей двор их городской усадьбы в Николаеве. Большой каменный дом, просторная веранда с кружевными солнечными пятнами, падающими сквозь крону раскидистого белолистного тополя, что рос у самой веранды, и еще другой тополь, пирамидальный, что стоял на краю их большого двора, – старый пирамидальный тополь, отбрасывающий на закате такую благодатную, такую молодую тень, как будто хотел напомнить о лучших своих временах. Да и кому не хочется вспомнить о лучших своих временах?
Лежа на узком топчанчике, Анна Карповна вспоминала и о своем воспитаннике Артеме. Она, конечно, много для него сделала, но и этот мальчик, рожденный, наверное, в любви, тоже немало для нее сделал. В тяжелые годы одиночества наполнил ее жизнь смыслом, помог ей дождаться в добром здравии Александру… А без него как бы она пережила фронтовые годы? Его родители говорят на разных языках и в прямом, и в переносном смысле, а мальчуган растет вон какой славный! Она любит его как родного, это чистая правда. И он отвечает ей пылкой любовью, она для Артема абсолютный авторитет, и радость, и надежда, и тыл перед нападками родной матери, увы, не отягощенной ни большим умом, ни добрым сердцем. Не случайно он ни разу не назвал ее мамой, а все – Надя и Надя.
Лежа без сна, но с закрытыми глазами, потому что луна светила слишком ярко, Анна Карповна думала и вспоминала о многом. Вспомнила и о том, как струилась тень пирамидального тополя, падающая через всю их графскую усадьбу. Вспомнила и Пашу, и Дашу. Где они? Уплыли за море? Как разломилась вся их жизнь в Гражданскую войну. Как страшно разломилась. И ведь говорилось тогда и до сих пор говорится, что все ради народа, ради его светлого будущего. И кто дорожит народом? Он даже сам собою не дорожит, наш великий народ. Почему? Потому что привык за века, что он всего лишь расходный материал. В революцию и Гражданскую войну так и говорилось: «пустить в расход», что означало «расстрелять». Наверное, если сосчитать всех безвинно убиенных в России только за первые пятьдесят лет XX века, то получится целый большой народ. Например, как если взять и убрать с лица земли всю Францию. Анна Карповна не знала цифр, но смутно догадывалась, что это именно так. Только к концу XX века ее дочери и внучке историки предъявили 27 миллионов погибших в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов. А война 1914–1918 годов, о которой теперь ни слуху ни духу, как будто ее и не было никогда? А братоубийственная Гражданская война? А голод 1921-го? А голод 1933-го? А голод 1947-го? А раскулачивание, расказачивание? А замученные в неволе: от Соловков до тайги и тундры, от Сибири и Заполярья до безводных пустынь Средней Азии? Советская власть не вечна, но дело не в одной лишь власти. Придет другая, и что, народ перестанет быть для правителей расходным материалом? Вряд ли. Почему-то Анна Карповна думала так всегда: «лучше не будет».
Анна Карповна умостилась спать на узком топчанчике, а Александра и Ксения лежали на большой кровати «валетом», каждая под своим одеялом. Они тоже не спали, хотя и не переговаривались между собой, делали вид, что спят.
Ксения думала о том, как они встретятся с Адамом. Как же это возможно? И до чего великодушна Александра! Ксенина бабушка преподнесла ей много истин, и в том числе эту: «Хочешь рассудить о человеке в тяжелой ситуации, самое простое и правильное – поставить себя на его место, и тогда тебе станет виднее». Мысленно Ксения попыталась поменять себя местами с Александрой и поняла, что, наверное, она не отдала бы своего Адама. Стыдно, конечно, но не отдала бы… А Саша готова отступиться… Ксения в первый раз подумала об Александре «Саша» как действительно о родной сестре. Нет, она, Ксения, точно бы не отдала. Правда, есть Адька и Сашка, и Александра не хочет идти против них, вот в чем дело. Какое счастье, что у нее есть детки, какая сила! Ей вспомнились плывущие в предутреннем тумане домишки ее родного поселка, бесконечно длинная стена заводского забора из белого силикатного кирпича, вспомнилась красавица тетя Глаша, так нелепо ушедшая из жизни, вспомнился и дружок ее детства альбинос Ванек, погибший в неравном бою за ее, Ксенину, честь. Господи, неужели ей суждено воссоединиться с Адамом?! Невообразимо… Какая отчаянная Александра, какие отчаянные у нее фронтовые друзья!
Ущербный диск луны горел так ярко, что его мертвенный свет бил в глаза, и Ксении вдруг пришли на память стихи, которые читала вслух бабушка. Она знала на память много стихов, в том числе и, как говорили в школе, «упадочного поэта» Сергея Есенина:
- А месяц будет плыть и плыть,
- Роняя весла по озерам,
- А Русь все также будет пить,
- Плясать и плакать под забором.
Может быть, Ксении пришли на ум именно эти строки оттого, что за стеной в кочегарке глухо слышались хмельные голоса, и среди них особенно явственно фальцет всегда пьяненького дяди Васи, который задавал собеседнику третий извечный русский вопрос: «Ты меня ув-важаешь?!»
А Александра тем временем тупо думала об одном и том же: если она беременна, то от кого? Если бы от Адама! Но по срокам рано. Значит, будет дочь Ивановной, а не Адамовной. Она почему-то была неколебимо уверена, что родится у нее дочь. Что ж, если будет Ивановна, то оно и к лучшему… Хотя почему? Да хотя бы потому, что есть Ксенины и Адама двое детишек! А вдруг все это чепуха, вдруг она просто отравилась чем-то, что-то не то съела, – вот и тошнит, вот и мутит. При этой мысли ей стало совсем не по себе: только не это, нет, нет и нет! Пусть от Ивана. Если она и понесла, то фактически чуть ли не на сто процентов от своего Ванечки-генерала. Хороший он человек, и ее любит… Да и она почти любит его, а будет дите – все укрепится.
Почему вдруг в сентябре, накануне Ашхабада, она скоропостижно расписалась с Иваном?
Почему вдруг? Да потому, что это произошло как бы независимо от ее воли, но не против ее желания. Женская логика? Может, и женская (увы, не худшая из логик), но противоречий тут по существу не было. Поездка на розыски Адама, знакомство в поселке с Ксенией и ее синеглазыми малышами вроде бы определили все навечно, а встреча с Адамом, как казалось тогда, могла только присниться. К тому же мама говорила изо дня в день, как ей хочется внуков, какой хороший Ванечка-генерал, да и красивая Нина все твердила про Ванечку. И самой Александре был он тогда неизменно приятен и дорог, почти как родной. И все-таки лавину обрушила Нина, можно сказать, по воле случая. В сентябре старший сынок Нины, доставшийся ей от фронтового мужа генерала, пошел в школу, и там Нина познакомилась с начальницей загса, которая привела в первый класс свою дочку. Фронтовичка Нина была человеком действия: она взялась подвезти новую знакомую на своем трофейном «Рено» к загсу, а по дороге они договорились, что завтра к вечеру, после работы, «распишут чудную пару». Так оно и случилось как-то само собой, без специальной подготовки, экспромтом. После загса Нина, ее муж генерал, Александра и Ванечка в генеральском мундире поехали в Елисеевский гастроном, а оттуда к Анне Карповне в «дворницкую». Никогда прежде не видела Александра свою маму одновременно такой помолодевшей, такой счастливой, такой гордой, как в тот дивный сентябрьский вечер. Когда около полуночи они все уезжали от мамы, она придержала дочь за порогом «дворницкой» и горячо шепнула ей на ухо: «Спасибо тебе».
Александру продолжало мутить, и она не могла смотреть без отвращения на зло горящий лик ущербной луны. От одного только взгляда на зеленовато-медную дольку лунного диска тошнота прямо-таки подкатывала к горлу. Хорошо, что вечером вдруг пришел новый вестовой Ванечки-генерала. Пришел этот испуганный рыжий парнишка и расставил все точки над i.
Хорошо-то хорошо, но ее так и подмывало столкнуть лежащую рядом Ксению с кровати. Стыдно до слез, но подмывало ужасно. Наверное, из-за этой ущербной, тошнотворной луны в окошке над головой…
Все трое уснули почти одновременно. Уснули, чтоб встретить новый день с новыми силами и новыми надеждами. А краешек ущербной луны сдвинулся по небосводу и больше не светил в окошко, не мешал им спать.
Тогда, в «дворницкой», в запале и смятении чувств Александра пообещала Ксении, что отведет ее к Адаму в больницу. И теперь, сказав «А», хочешь не хочешь, а надо бы говорить «Б» – надо извещать Адама о предстоящей встрече. Легко сказать «надо», а у Александры язык не поворачивался. Наконец, почти через неделю после того, как она открылась Ксении и та стала приходить к Анне Карповне каждый божий день сразу после занятий в университете, Александре все же пришлось сказать Адаму о предстоящей встрече. Во-первых, тянуть с этим дальше было просто некуда, а во-вторых, он сам начал этот разговор.
Они стояли в теплом, чистом, пропахшем лекарствами больничном коридоре у высокого, хорошо вымытого и тщательно заклеенного на зиму окна с широким подоконником, на котором стоял глиняный горшок с неприхотливым алоэ, прозванным в народе «доктором». Косые струи дождя сбивали с большого клена под окном последние желтые листья, и те не кружились, как обычно, в плавном полете, а падали под потоками воды ниц, опадали на почерневшую от влаги землю как-то очень смиренно и безнадежно.
На посту медицинской сестры в то утро опять дежурила светлоглазая хорошенькая Катя-математика. Оказывается, это прозвище закрепилось за ней давно, и никто не упрекал ее за то, что она собирается навсегда изменить медицине и жить, как она говорила, не на «чужой», а на «своей» улице.
– Товарищ майор, – выйдя из-за отгородки поста, где у нее стоял маленький письменный стол, негромко окликнула Адама Катя, – товарищ майор, может, глянете тяжелого в пятой палате?
Адам кивнул в знак согласия, и они с Катей пошли в пятую палату, а Александра прошла к посту дежурной медсестры, облокотилась о стойку и загадала: «Если в пятой палате все обойдется, если больной выживет, то это и в ее судьбе будет хороший знак».
Адам и Катя не возвращались минут сорок. Катя прикатила в пятую палату капельницу, еще раз выбегала за чем-то в ординаторскую, но когда они, наконец, вернулись, то по их лицам Александра сразу поняла – все в порядке и порадовалась за больного и за себя.
Они возвратились с Адамом к окну, и он вдруг сказал:
– Ты представляешь, эта Катя книжки по высшей математике читает!
– Я в курсе. Она заочница на физмате.
– Она мне говорит: «Математика – точная наука в рамках точных договоренностей». А я ей говорю: «Но тогда можно сказать, что все в этом мире в рамках договоренностей, вся жизнь». Например, ей я этого не сказал, но подумал: мусульмане договорились, что у мужчины может быть четыре жены, и все жены живут в согласии. Конечно, есть строгий регламент шариата, свод правил: каждую жену надо обеспечить жилищем с отдельным входом, каждую кормить, поить, обувать, одевать, каждую четвертую ночь надо ночевать с женой и еще там много условий…
– Да, я слышала об этом обычае, – прервала Адама Александра.
– Ты слышала, а я ведь из Дагестана, – запальчиво сказал Адам, – ты слышала, а я все это сто раз наблюдал в горных аулах. Правда, четыре – это редкий случай, а две – запросто! Чего-то я заболтался, – смутился Адам, перехватив взгляд своей первой (старшей) жены и поняв, что она слышит в его словах не текст, а подтекст. – Какой дождь лупит!
Александра не поддержала обычно спасительный в таких случаях разговор о погоде. И наступила неловкая пауза.
– Слушай, – наконец продолжил разговор Адам, – а как бы моим послать весточку? Маме, отцу…
– Не знаю. Спрошу у Папикова. Ксения в Москве, я приведу ее завтра, – вдруг выпалила Александра.
Боже! Как он обрадовался! Как нестерпимо было видеть Александре его разрумянившееся лицо с косящими сильнее обычного сияющими эмалево-синими глазами.
– Она учится в МГУ на биофаке, – после долгой паузы сказала, наконец, Александра, – как ты хотел. – Губы ее задрожали, и на глаза навернулись слезы.
Адам обнял ее за плечи и привлек к себе. Ему было все равно, смотрит ли на них кто-нибудь. Так, обнявшись, они долго стояли у окна, за которым шумел дождь. С клена облетели почти все листья, остались только три самых стойких. Глядя на эти три последних листочка, Александра подумала: «Один – Адам, второй – я, третий – Ксения». Она со страхом ожидала, что какой-то листок опадет, но они дружно держались, пока и сам клен не утонул в сгустившихся сумерках. «Если до завтра продержатся, то все у нас будет хорошо», – с детской надеждой на чудо подумала Александра.
Вскоре зашаркали шлепанцами, застучали костылями ходячие – пошли на запоздавший обед в столовую, расположенную в противоположном конце длинного коридора за выкрашенной светло-кремовой масляной краской фанерной перегородкой. Там, за перегородкой, было и второе окно, точно такое же высокое, как то, у которого стояли Адам и Александра.
– Тебе обедать пора, и так они что-то задержались, – сказала Александра, – уже время полдника…
– Не хочется.
– Иди, иди. Надо. А я в конце дня еще забегу. Смотри, как стемнело, но это скорее из-за дождя.
На этом их разговор прервался. Александра чмокнула Адама в щеку и быстро-быстро пошла по коридору – мимо поста с Катей-математикой, мимо больных, которые смотрели на нее с живым интересом, и скрылась с глаз Адама в проеме двери на лестничную клетку.
Адам не стал есть перловый суп на курином бульоне, а вот любимой гречневой каши поел с удовольствием. Обоняя застоявшиеся запахи больничной столовой, он думал о маме, об отце, вспоминал свой любимый Дагестан, который за годы работы врачом обошел пешком и объездил на лошадке вдоль и поперек. Он ясно увидел зарю в горах Дагестана, ее алые и желтые перья, распластанные, словно крылья, над вершинами скалистых гор. Вспомнил тот маленький высокогорный аул, где он принимал долгие тяжелые роды у пятнадцатилетней горянки, второй жены хозяина сакли, а первая, старшая, все это время помогала Адаму. Наверное, ей было лет двадцать пять, но черты лица ее уже чуточку огрубели, хотя она и была еще красива. Особенно запомнились ее глаза – черные, большие и удивительно добрые. Взгляд их был и очень мягкий, лучистый и в то же время исполненный собственного достоинства. Именно это сочетание доброты и гордости навсегда врезалось в память Адама. Вспомнил он и как с плоской крыши сакли салютовал из охотничьего ружья старый муж роженицы (наверное, мужу было чуть за тридцать, но тогда он показался двадцатичетырехлетнему Адаму очень старым), вспомнил он и белый дымок из дула ружья, и острый запах пороховой гари. Вспомнил и маленького новорожденного в белой, похожей на крем смазке с головы до ног, как в белых одеждах безгрешия, его старчески сморщенное личико и первый крик…
«Да, у него было две жены, – подумал Адам о горце, салютовавшем на крыше сакли, – и первая, старшая, жена помогала мне принимать роды у второй, младшей жены… Как говорит Катя-математика: «В рамках точных договоренностей». Вот они договорились среди мусульман, и ему, значит, можно, а мы не договорились, и мне нельзя… А может, нам было бы хорошо втроем? Они ведь обе мне одинаково желанны… Неужели завтра я увижу Ксению?.. Нет, что ни говори, а Александра – человек… Ее великодушие подавляет… Но как же мне быть? Бросить Ксению? Нет, это невозможно. Эх, хорошо бы уехать с ними в высокогорный аул или уйти в тайгу или в пустыню… Как бы хорошо мы там жили! Быть или не быть – разве это вопрос?.. Как быть? – вот вопрос так вопрос».
А Александра тем временем была на месте своей основной работы на кафедре Папикова. Сам он куда-то уехал, и они сидели в кабинете вдвоем с его женой Наташей. Занятия в институте к тому времени закончились, в гулких весь день коридорах стояла тишина, преподаватели разошлись кто куда.
– Саша, что случилось? – спросила через некоторое время Наталья. – Ты сама не своя.
– Пока ничего, – отвечала Александра, – а случится ли, бог весть… Слушай, а к концу второй недели беременности, к началу третьей могут появиться такие признаки, как тошнота, охота солененького?
– Кто его знает, – смущенно ответила бездетная Наталья, – я, дура, аборты делала, а как оно все протекало, не помню.
– До войны?
– И до войны.
– Понятно.
– По науке, Саша, к концу второй недели рановато. А там кто его знает. На то и существуют правила, чтобы допускать исключения. Ты не по адресу обратилась, солнышко.
– Ладно, время покажет.
– Может, чайку попьем? – спросила Наталья.
– Давай. Чаек от всех заморочек первое лекарство, – усмехнулась Александра, – иди кипяточку принеси с первого этажа.
– А заварка у нас есть, Саш?
– Есть. И чай краснодарский, и мята, и душица. Сейчас я скомбинирую – будет первый сорт. Даже сахар есть.
– Ладно – Наталья вышла за дверь с зеленым эмалированным чайником, а Александра принялась насыпать в заварной фарфоровый чайничек заварку; в кабинете приятно запахло мятой и душицей. Волей-неволей ей вспомнилась поездка в поселок на розыски Адама, как сидели они с Ксенией на теплом крыльце ее домика, как свежо пахло мокрыми полами, которые только что окатила хозяйка ведром воды, какая теплая была ночь, как сияли звезды над кособокими домишками поселка, как отчаянно прокричал зарезанный филином заяц.
Чаю попили с удовольствием, а тут и Александр Суренович подоспел. Ему тоже понравился чай с травами из Ксениного поселка.
– А ты чего нос повесила? – по-отечески тепло спросил Папиков Александру. – По-моему, все хорошо. Он скоро поправится, и будем работать. Я переговорил с ректором, он не возражает.
– Да, все хорошо, – безучастно отвечала Александра, думавшая только о том, как она завтра приведет к Адаму Ксению.
– В душу к тебе лезть не буду, – миролюбиво сказал Папиков, понявший со всей определенностью, что Александре есть что скрывать и она пока не готова ни с кем делиться своими горестями.
– Я пойду, мне еще к нему забежать надо? – спросила разрешения Александра.
– Давай! Всего хорошего, и Адаму привет!
– Спасибо.
Превозмогая себя, Александра зашла в отделение к Адаму и сказала, что завтра во второй половине дня она приведет Ксению.
– Хорошо, – ответил он сдержанно, и эта его сдержанность не могла не понравиться Александре.
Назавтра выдался редкостный для конца октября солнечный и довольно теплый денек. Про такие погожие дни посреди осенней хляби и первых противных холодов так и хочется сказать: «не день, а именно денек», хочется ответить лаской на Божью ласку.
Ксения должна была прийти к трем часам дня. Договорились встретиться у институтских ворот. В это время больным в хирургическом отделении полагалось спать. Чтобы как в детском саду или в пионерском лагере не называть этот час «мертвым», в хирургии его называли «сончас». Напоминаний о смерти здесь и без того хватало.
Последние полчаса перед встречей Александра провела в таком возбуждении, что пришлось просить Наталью накапать ей валерьянки.
– Капай побольше, мне надо успокоиться.
– А в чем дело?
– Потом расскажу, после трех.
Наталья, не скупясь, накапала валерьянку. Александра впервые в жизни выпила успокоительное.
За пять минут до встречи она пошла к воротам. Мельком взглянула на облетевший клен под окном институтской хирургии. Все три листочка держались стойко и даже, как показалось Александре, одинаково радостно поблескивали на солнце и трепетали под легким дуновением ветра.
Ксения была на месте. В кургузом коричневом плюшевом пиджаке с худенького материнского плеча (такие носили перед войной), в цветастой шифоновой косынке, в юбке от школьной формы, в стоптанных туфлях-лодочках, до блеска начищенных гуталином, в светло-коричневых хлопчатобумажных чулках в резинку с бледным, почти детским перепуганным личиком Ксения выглядела довольно жалко. «Надо сразу белый халат на нее напялить, он все скроет», – подумала Александра прежде, чем поздороваться.
– Это вся твоя зимняя одежка? – кивнув в ответ на «здравствуй», спросила Александра.
– Наверно, – робко ответила Ксения.
– У тебя и шарфика теплого нет? Так и ходишь с открытой душой?
– Н-нет, но мне тепло.
– Ладно, потом разберемся. Пошли. Только когда придем, не реви, не кричи, сейчас сончас и многие спят. Ясно?
– Я-ясно.
– У тебя уже сейчас губы дрожат… Не реви, а то и я разревусь. Пошли, он ждет.
В приемном покое Александра взяла у девчонок чистый накрахмаленный халат. Ксения в нем изменилась разительно, даже как бы повзрослела на вид.
– И косынку сними, надень мой колпак, как будто ты медсестра. Ой, как тебе идет! Вперед, Ксеня!
Адам стоял у окна спиной к ним и не заметил, как они подошли.
– Привет! – коснулась плеча Адама Александра. Тот обернулся и увидел перед собой одновременно и первую, и вторую жену.
Ксения молча припала к груди Адама. Плечи ее тряслись в беззвучных рыданиях.
– Все, я пошла, – сказала, отходя от них, Александра и тут же, чтобы подавить вдруг накатившую тошноту, прижала к губам носовой платок.
На посту опять дежурила Катя. Почему-то она всю неделю выходила в дневную смену.
– Катя, ты проследи, чтобы им никто не мешал, – распорядилась Александра.
– Хорошо. А это его сестренка? – полюбопытствовала Катя.
– Жена. Сестра – это я.
– А-а, – удивленно пропела Катя, – а я…
Но Александра уже скрылась в проеме двери на лестничную клетку, опустошенно думая на ходу: «Идиотка! Какая же я несчастная идиотка – сама отдала, своими руками!»
Океанский лайнер отплывал из Марселя в Нью-Йорк ровно в 18.00 по среднеевропейскому времени. Так что в запасе у Марии и Павла оставалось чуть больше десяти часов. Вчера вечером перед сном они собрали вещи, благо их было немного, и сейчас, поутру нового дня, им оставалось лишь привести себя в порядок, позавтракать и – в путь. От Труа до Марселя больше пятисот километров, а дорога хотя и хорошая, но дорога есть дорога… Получается, что времени в обрез.
Павел еще брился в ванной комнате, а Мария решила спуститься в столовую.
– Я пойду распоряжусь насчет завтрака, – сказала она в приоткрытую дверь ванной.
– Пойди, – был ответ. – Я скоро.
«Господи, как мгновенно пролетели эти прелестные дни в Труа! Спасибо тебе, Господи!» Прежде чем выйти из номера, Мария вернулась к циклопической кровати и погладила ее резную деревянную спинку, особенно нежно – заласканную многими юными женами гривастую морду льва, украшавшую ее край. «Эх, если бы все случилось так, как предрекает хозяйка гостиницы Мари… “Если бы, да кабы, в роте выросли грибы”», – как говаривала в незапамятные времена Марииного детства нянька баба Клава, мать денщика Сидора Галушко и их хорошенькой рыженькой горничной певуньи Анечки.
Выйдя из номера, Мария остановилась в легкой утренней полутьме у пучка полыни, висевшего над перилами лестницы, принюхалась с удовольствием. Внизу вдруг довольно громко заспорили: по голосу – хозяйка гостиницы Мари и какой-то мужчина, отвечавший ей унылым, робким баритоном.
– Где стихозы?
– Но, Мари…
– Я тебя спрашиваю – где стихозы?
– Но, Мари, – это ведь творчество.
– Какое к чертям собачьим творчество! Сегодня графиня съезжает, и мы должны начинать. Ты хочешь, чтобы я попала под неустойку?!
– Но, Мари, творчество… я все успею.
– Твое счастье, Поль, что ты мой старший брат, а то бы я тебе показала творчество! Денег не дам. Принесешь первые десять стихоз – получишь аванс.
– Ты права, Мари, ты как всегда права… Ты такая добрая…
– И не подлизывайся! Не дам ни сантима.
– Этот прохвост Эмиль не наливает в долг.
– Правильно делает. Я ему запретила. Боже, что бы вы без меня делали?!
– Ты права, Мари, но хоть на стаканчик дай…
– Не дам. Проваливай. И чтобы к вечеру принес первые стихозы.
– Обязательно. Я принесу пять стихов, – вдруг воодушевился мужчина, и в голосе его прозвучали горделивые нотки, – пять стихов, – добавил он с королевским апломбом. Голос мужчины показался Марии знакомым, где-то она уже слышала этот апломб.
– Принесешь пять, тогда и поговорим, Поль.
– Но, Мари! – взмолился Поль.
Серебряная пудреница, которой Мария пользовалась, вдруг выскользнула у нее из рук и покатилась по лестнице. Мария спустилась, подобрала пудреницу, где вместо зеркальца был вмонтирован отполированный золотой диск, и продолжила спускаться вниз по лестнице.
Внизу смолкли.
– Доброе утро, Мари, – приветствовала Мария хозяйку гостиницы. – Доброе утро, мсье!
– Доброе утро, Ваше Превосходительство! – радостно отвечала хозяйка. – А это мой старший брат Поль – поэт.
– Очень рада вас видеть! – отвечала Мария и тут разглядела, что Поль – тот самый пожилой мужчина в черном костюме и черных сатиновых бухгалтерских нарукавниках, которого они с Павлом повстречали у мэрии и который с апломбом рассказывал им о Труа.
Хозяйка гостиницы сунула что-то в руку поэта, наверняка не очень крупную купюру, он зажал ее в кулаке, поклонился Марии в пояс, мгновенно отступил в темную глубину зала и выскользнул из гостиницы.
– Ваш брат работает в мэрии?
– Да, откуда вы знаете?
– А мы его встречали у мэрии еще в начале, как только стали знакомиться с Труа, и он рассказал нам много интересного.
– О да, Поль много чего знает, – с неподдельной гордостью сказала Мари. – Он работает в мэрии, но очень тяготится этим. Поль настоящий поэт – в прошлом году он чуть не получил le prix Apollinaire. Но в последний момент премию дали парижанину. Конечно, у них там своя шайка-лейка, зачем им маленький Поль из маленького Труа? Дали парижанину, а мой Поль остался с носом[4].
– Может, еще дадут, не все потеряно, – подбодрила хозяйку гостиницы Мария.
– Вряд ли. Хотя, дай бог! Поль тоже надеется. Он ведь у меня детей клепает… Извините, я хотела сказать, его жена родит каждые полтора года. У них одиннадцать душ детей, и всех кормить надо. Вот он и пишет для меня стихозы, извините, я хотела сказать стихи, – поздравления для новобрачных. Я даю ему имена и фамилии жениха и невесты, их родителей, а если есть какая смешная или пикантная подробность в их роду, то даю эту историю, и он клепает стихозы… извините, пишет стихи.
– Стихозы? – улыбнулась Мария. – А кто первый их так назвал?
– Да он сам же и назвал. Потом каллиграф, его дружок из мэрии, красиво переписывает на специальном листе с розочками и с голубями, а после венчания или после мэрии, когда все приходят сюда, Поль зачитывает стихозу… извините, стих, и я даю молодым этот лист. Всем очень нравится, и Поль неплохо подрабатывает. Потом свадьба остается внизу, а молодые поднимаются наверх, в ваш номер.
– Все расписано по ролям, как в театре, – засмеялась Мария.
– Ну а как же! – просияла в ответ ей Мари. – Свадьба должна запомниться молодым. Всем хочется радости и счастья, а того и другого не так уж много на белом свете.
– Что правда, то правда, – подтвердила Мария. – Как сказал французский композитор Камил Сен-Санс: «Не пришлось бы вам впоследствии горько сожалеть о времени, безвозвратно утраченном для веселья».
– Так и сказал? Какой молодец! Я это запомню и вставлю в свою речь на свадьбах. Честно говоря, эта затея с королевской кроватью дает мне больше, чем гостиница и ресторан, вместе взятые.
– Мари, мы позавтракаем и поедем.
– Да-да, конечно. Круассаны, кофе, джем? Все как обычно?