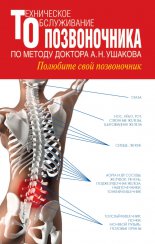Гибель Помпеи (сборник) Аксенов Василий

Он говорил со мной тихо и доверительно.
– Послушайте, мне передавали, что вы не решаетесь мне звонить. Я давно жду вашего звонка. Право, что за церемонии и опасения? Видимо, это вызвано недоразумением. В последнюю нашу встречу мне показалось, что вы неправильно поняли меня. Я думаю, что все решится положительно. Спите спокойно. Я всей душой с вами, и каждым ее фибром, и каждым своим нервом, сердцем, печенью и селезенкой, моим достоинством и честью, верностью, искренностью и любовью, всем святым, что есть у человечества, идеалами всех поколений, земной осью, солнечной системой, мудростью моих любимых писателей и философов, историей, географией и ботаникой, красным солнцем, синим морем, тридевятым царством я клянусь быть верным вашим слугой, оруженосцем и пажом.
Обливаясь потом, я повесил трубку.
– Вот видишь, – сказала мне жена, – как все просто и нестрашно. Стоит только захотеть, и… – Она улыбнулась мне.
Я встал, отправился в ванную, умылся, потом зашел в спальню и посмотрел на Кита. Он спал, как маленький богатырь, раскинув руки и ноги. Младенческие перетяжки еще не окончательно исчезли у него, они были обозначены на запястьях, на пухлых его лапах. Он хитровато улыбнулся во сне, видимо совершая в этот момент разные смешные и милые перестановки в своем царстве.
Когда я смотрю на него, я наполняюсь радостью, светом и добром. Мне хочется выпить за счастливую жизнь семерых козлят.
1964 г.
Победа
рассказ с преувеличениями
В купе скорого поезда гроссмейстер играл в шахматы со случайным спутником.
Этот человек сразу узнал гроссмейстера, когда тот вошел в купе, и сразу загорелся немыслимым желанием немыслимой победы над гроссмейстером. «Мало ли что, – думал он, бросая на гроссмейстера лукавые узнающие взгляды, – мало ли что, подумаешь, хиляк какой-то».
Гроссмейстер сразу понял, что его узнали, и с тоской смирился: двух партий по крайней мере не избежать. Он тоже сразу узнал тип этого человека. Порой из окон Шахматного клуба на Гоголевском бульваре он видел розовые крутые лбы таких людей.
Когда поезд тронулся, спутник гроссмейстера с наивной хитростью потянулся и равнодушно спросил:
– В шахматишки, что ли, сыграем, товарищ?
– Да, пожалуй, – пробормотал гроссмейстер.
Спутник высунулся из купе, кликнул проводницу, появились шахматы, он схватил их слишком поспешно для своего равнодушия, высыпал, взял две пешки, зажал их в кулаки и кулаки показал гроссмейстеру. На выпуклости между большим и указательным пальцами левого кулака татуировкой было обозначено: «Г.О.».
– Левая, – сказал гроссмейстер и чуть поморщился, вообразив удары этих кулаков, левого или правого. Ему достались белые.
– Время-то надо убить, правда? В дороге шахматы – милое дело, – добродушно приговаривал Г.О., расставляя фигуры.
Они быстро разыграли северный гамбит, потом все запуталось. Гроссмейстер внимательно глядел на доску, делая мелкие, незначительные ходы. Несколько раз перед его глазами молниями возникали возможные матовые трассы ферзя, но он гасил эти вспышки, чуть опуская веки и подчиняясь слабо гудящей внутри, занудливой, жалостливой ноте, похожей на жужжание комара.
«Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя…» – на той же ноте тянул Г.О.
Гроссмейстер был воплощенная аккуратность, воплощенная строгость одежды и манер, столь свойственная людям, неуверенным в себе и легкоранимым. Он был молод, одет в серый костюм, светлую рубашку и простой галстук. Никто, кроме самого гроссмейстера, не знал, что его простые галстуки помечены фирменным знаком «Дом Диора». Эта маленькая тайна всегда как-то согревала и утешала молодого и молчаливого гроссмейстера. Очки также довольно часто выручали его, скрывая от посторонних неуверенность и робость взгляда. Он сетовал на свои губы, которым свойственно было растягиваться в жалкой улыбочке или вздрагивать. Он охотно закрыл бы от посторонних глаз свои губы, но это, к сожалению, пока не было принято в обществе.
Игра Г.О. поражала и огорчала гроссмейстера. На левом фланге фигуры столпились таким образом, что образовался клубок шарлатанских каббалистических знаков. Весь левый фланг пропах уборной и хлоркой, кислым запахом казармы, мокрыми тряпками на кухне, а также тянуло из раннего детства касторкой и поносом.
– Ведь вы гроссмейстер такой-то? – спросил Г.О.
– Да, – подтвердил гроссмейстер.
– Ха-ха-ха, какое совпадение! – воскликнул Г.О.
«Какое совпадение? О каком совпадении он говорит? Это что-то немыслимое! Могло ли такое случиться? Я отказываюсь, примите мой отказ», – панически быстро подумал гроссмейстер, потом догадался, в чем дело, и улыбнулся.
– Да, конечно, конечно.
– Вот вы гроссмейстер, а я вам ставлю вилку на ферзя и ладью, – сказал Г.О. Он поднял руку. Конь-провокатор повис над доской.
«Вилка в зад, – подумал гроссмейстер. – Вот так вилочка! У дедушки была своя вилка, он никому не разрешал ею пользоваться. Собственность. Личная вилка, ложка и нож, личные тарелки и пузырек для мокроты. Также вспоминается «лирная» шуба, тяжелая шуба на «лирном» меху, она висела у входа, дед почти не выходил на улицу. Вилка на дедушку и бабушку. Жалко терять стариков».
Пока конь висел над доской, перед глазами гроссмейстера вновь замелькали светящиеся линии и точки возможных предматовых рейдов и жертв. Увы, круп коня с отставшей грязно-лиловой байкой был так убедителен, что гроссмейстер пожал плечами.
– Отдаете ладью? – спросил Г.О.
– Что поделаешь.
– Жертвуете ладью ради атаки? Угадал? – спросил Г.О., все еще не решаясь поставить коня на желанное поле.
– Просто спасаю ферзя, – пробормотал гроссмейстер.
– Вы меня не подлавливаете? – просил Г.О.
– Нет, что вы, вы сильный игрок.
Г.О. сделал свою заветную «вилку». Гроссмейстер спрятал ферзя в укромный угол за террасой, за полуразвалившейся каменной террасой с резными подгнившими столбиками, где осенью остро пахло прелыми кленовыми листьями. Здесь можно отсидеться в удобной позе, на корточках. Здесь хорошо; во всяком случае, самолюбие не страдает. На секунду привстав и выглянув из-за террасы, он увидел, что Г.О. снял ладью.
Внедрение черного коня в бессмысленную толпу на левом фланге, занятие им поля b4, во всяком случае, уже наводило на размышления. Гроссмейстер понял, что в этом варианте, в этот весенний зеленый вечер одних только юношеских мифов ему не хватит. Все это верно, в мире бродят славные дурачки – юнги Билли, ковбои Гарри, красавицы Мэри и Нелли, и бригантина поднимает паруса, но наступает момент, когда вы чувствуете опасную и реальную близость черного коня на поле b4. Предстояла борьба, сложная, тонкая, увлекательная, расчетливая. Впереди была жизнь.
Гроссмейстер выиграл пешку, достал платок и высморкался. Несколько мгновений в полном одиночестве, когда губы и нос скрыты платком, настроили его на банально-философский лад. «Вот так добиваешься чего-нибудь, – думал он, – а что дальше? Всю жизнь добиваешься чего-нибудь; приходит к тебе победа, а радости от нее нет. Вот, например, город Гонконг, далекий и весьма загадочный, а я в нем уже был. Я везде уже был».
Потеря пешки мало огорчила Г.О., ведь он только что выиграл ладью. Он ответил гроссмейстеру ходом ферзя, вызвавшим изжогу и минутный приступ головной боли.
Гроссмейстер сообразил, что кое-какие радости еще остались у него в запасе. Например, радость длинных, по всей диагонали, ходов слона. Если чуть волочить слона по доске, то это в какой-то мере заменит стремительное скольжение на ялике по солнечной, чуть-чуть зацветшей воде подмосковного пруда, из света в тень, из тени в свет. Гроссмейстер почувствовал непреодолимое, страстное желание захватить поле h8, ибо оно было полем любви, бугорком любви, над которым висели прозрачные стрекозы.
– Ловко вы у меня отыграли ладью, а я прохлопал, – пробасил Г.О., лишь последним словом выдав свое раздражение.
– Простите, – тихо сказал гроссмейстер. – Может быть, вернете ходы?
– Нет-нет, – сказал Г.О., – никаких поблажек, очень вас умоляю.
«Дам кинжал, дам коня, дам винтовку свою…» – затянул он, погружаясь в стратегические размышления.
Бурный летний праздник любви на поле h8 не радовал и вместе с тем тревожил гроссмейстера. Он чувствовал, что вскоре в центре произойдет накопление внешне логичных, но внутренне абсурдных сил. Опять послышится какофония и запахнет хлоркой, как в тех далеких проклятой памяти коридорах на левом фланге.
– Вот интересно: почему все шахматисты – евреи? – спросил Г.О.
– Почему же все? – сказал гроссмейстер. – Вот я, например, не еврей.
– Правда? – удивился Г.О. и добавил: – Да вы не думайте, я это так. У меня никаких предрассудков на этот счет нет. Просто любопытно.
– Ну, вот вы, например, – сказал гроссмейстер, – ведь вы не еврей.
– Где уж мне! – пробормотал Г.О. и снова погрузился в свои секретные планы.
«Если я его так, то он меня так, – думал Г.О. – Если я сниму здесь, он снимет там, потом я хожу сюда, он отвечает так… Все равно я его добью, все равно доломаю. Подумаешь, гроссмейстер-блатмейстер, жила еще у тебя тонкая против меня. Знаю я ваши чемпионаты: договариваетесь заранее. Все равно я тебя задавлю, хоть кровь из носа!»
– Да-а, качество я потерял, – сказал он гроссмейстеру, – но ничего, еще не вечер.
Он начал атаку в центре, и, конечно, как и предполагалось, центр сразу превратился в поле бессмысленных и ужасных действий. Это была не-любовь, не-встреча, не-надежда, не-привет, не-жизнь. Гриппозный озноб и опять желтый снег, послевоенный неуют, все тело чешется. Черный ферзь в центре каркал, как влюбленная ворона, воронья любовь, кроме того, у соседей скребли ножом оловянную миску. Ничто так определенно не доказывало бессмысленность и призрачность жизни, как эта позиция в центре. Пора кончать игру.
«Нет, – подумал гроссмейстер, – ведь есть еще кое-что, кроме этого». Он поставил большую бобину с фортепьянными пьесами Баха, успокоил сердце чистыми и однообразными, как плеск волн, звуками, потом вышел из дачи и пошел к морю. Над ним шумели сосны, а под босыми ногами был скользящий и пружинящий хвойный наст.
Вспоминая море и подражая ему, он начал разбираться в позиции, гармонизировать ее. На душе вдруг стало чисто и светло. Логично, как баховская coda, наступил мат черным. Матовая ситуация тускло и красиво засветилась, завершенная, как яйцо. Гроссмейстер посмотрел на Г.О. Тот молчал, набычившись, глядя в самые глубокие тылы гроссмейстера. Мата своему королю он не заметил. Гроссмейстер молчал, боясь нарушить очарование этой минуты.
– Шах, – тихо и осторожно сказал Г.О., двигая своего коня. Он еле сдерживал внутренний рев.
…Гроссмейстер вскрикнул и бросился бежать. За ним, топоча и свистя, побежали хозяин дачи, кучер Еврипид и Нина Кузьминична. Обгоняя их, настигала гроссмейстера спущенная с цепи собака Ночка.
– Шах, – еще раз сказал Г.О., переставляя своего коня, и с мучительным вожделением глотнул воздух.
…Гроссмейстера вели по проходу среди затихшей толпы. Идущий сзади чуть касался его спины каким-то твердым предметом. Человек в черной шинели с эсэсовскими молниями на петлицах ждал его впереди. Шаг – полсекунды, еще шаг – секунда, еще шаг – полторы, еще шаг – две… Ступеньки вверх. Почему вверх? Такие вещи следует делать в яме. Нужно быть мужественным. Это обязательно? Сколько времени занимает надевание на голову вонючего мешка из рогожи? Итак, стало совсем темно и трудно дышать, и только где-то очень далеко оркестр бравурно играл «Хас-Булат удалой».
– Мат! – как медная труба, вскрикнул Г.О.
– Ну, вот видите, – пробормотал гроссмейстер, – поздравляю!
– Уф, – сказал Г.О., – уф, ух, прямо запарился, прямо невероятно, надо же, черт возьми! Невероятно, залепил мат гроссмейстеру! Невероятно, но факт! – захохотал он. – Ай да я! – Он шутливо погладил себя по голове. – Эх, гроссмейстер вы мой, гроссмейстер, – зажужжал он, положил ладони на плечи гроссмейстера и дружески нажал, – милый вы мой молодой человек… Нервишки не выдержали, да? Сознайтесь!
– Да-да, я сорвался, – торопливо подтвердил гроссмейстер.
Г.О. широким, свободным жестом смел фигуры с доски. Доска была старая, щербленая, кое-где поверхностный полированный слой отодрался, обнажена была желтая, измученная древесина, кое-где имелись фрагменты круглых пятен от поставленных в былые времена стаканов железнодорожного чая. Гроссмейстер смотрел на пустую доску, на шестьдесят четыре абсолютно бесстрастных поля, способных вместить не только его собственную жизнь, но бесконечное число жизней, и это бесконечное чередование светлых и темных полей наполнило его благоговением и тихой радостью. «Кажется, – подумал он, – никаких крупных подлостей в своей жизни я не совершал».
– А ведь так вот расскажешь, и никто не поверит, – огорченно вздохнул Г.О.
– Почему же не поверят? Что же в этом невероятного? Вы сильный, волевой игрок, – сказал гроссмейстер.
– Никто не поверит, – повторил Г.О., – скажут, что брешу. Какие у меня доказательства?
– Позвольте, – чуть обиделся гроссмейстер, глядя на розовый крутой лоб Г.О., – я дам вам убедительное доказательство. Я знал, что я вас встречу.
Он открыл свой портфель и вынул оттуда крупный, с ладонь величиной, золотой жетон, на котором было красиво выгравировано: «Податель сего выиграл у меня партию в шахматы. Гроссмейстер такой-то».
– Остается только поставить число, – сказал он, извлек из портфеля гравировальные принадлежности и красиво выгравировал число в углу жетона. – Это чистое золото, – сказал он, вручая жетон.
– Без обмана? – спросил Г.О.
– Абсолютно чистое золото, – сказал гроссмейстер. – Я заказал уже много таких жетонов и постоянно буду пополнять запасы.
Февраль 1965 г.
Дикой
1
- В Рязани грибы с глазами,
- Их едят – они глядят.
2
Я вспомнил эту дразнилку, когда садился в экспресс. Рязанские мужики телка огурцом режут – вот еще одна дразнилка. Но все-таки мы были не последними: над вятскими и псковскими смеялись больше.
Итак, я вошел в вагон, похожий на самолет своими мягкими авиационными креслами. Я был весь в поту. Это становилось уже неприличным – пот с бровей, лицо мое горело, воротник рубашки намок. Дурацкая моя соломенная шляпа резала лоб, и, видно, все эти причины – пот и боль от дурацкой этой шляпы, и тяжелый чемодан, и рюкзак с подарками – все эти причины погасили волнение, которое, как я предполагал, должно было меня охватить при посадке в рязанский поезд.
Наконец я уселся, положил на колени шляпу, откинул спинку кресла и вспомнил дразнилку. В Рязани пироги с глазами, бормотал я. Их едят, а они… Грибы с глазами, подумал я, и тут вот меня охватило невероятное волнение, от которого что-то сдвинулось внутри и появилась боль, и слезы смешались с потом.
Поезд тронулся, и по вагону пошел гулять летний ретивый ветерок, напоминающий о райском житье, о том, как босоногим мальчиком, вороватым и пронырливым, я вбегал под сень рязанских прохладных рощ. Что я знал тогда о мире?
В 1920 году мы, делегаты 6-й армии, ехали с Перекопа в Харьков на Всеукраинскую партийную конференцию. Нас было двенадцать человек в теплушке, и во всех остальных вагонах ехали такие же, как мы, обовшивевшие люди. Были тут красноармейцы, командиры, комиссары; все на «ты», прямо из окопов. На «вы» мы звали только Марию Степановну Катину из политотдела дивизии, единственную среди нас женщину. Она была молода и образованна, и в ту пору у меня с ней складывались чуть ли не романтические отношения. В 21-м году она умерла в Бахмаче от сыпного тифа.
Поезд шел медленно по заметенной снегом разоренной земле. Сгущались сумерки, и не было видно в них ни одного огонька – пустыня, а потом серый рассвет и дикий гиблый ветер в полях, и только наш громыхающий состав с жаркими печками и шматами сала в тряпках, со сладкой картошкой, с горластыми ораторами и спокойными теоретиками, только наш поезд своим медленным движением утверждал жизнь в этой пустыне.
Вместо того чтобы отсыпаться после окопов, мы спорили. В самом деле, ведь за безжизненными этими полями виделись нам голубые города. Что касается меня, то для меня над голубыми прозрачными куполами в бездонном моем весеннем небе висели механические стрекозы, похожие на нынешние вертолеты, а сверху в теснинах улиц были видны волны праздничной манифестации. На остановках перебегали из теплушки в теплушку, возникали летучие митинги, создавались временные комитеты, инициативные группы, выносились резолюции.
Мучили нас вши, они отвлекали от высоких мыслей и яростных теоретических схваток.
Ночь как-то я сидел возле печки и чесался. Утомленные мои товарищи спали, не просыпаясь, храпели, раздирая себе бока. В накаленном красном сиянии, излучаемом печкой, видел я нежный пучок волос на затылке Марии Степановны, и ее тонкую руку, и изгиб ее бедра. Она тоже почесывалась.
В ту ночь я сделал замечательное открытие. В железном боку печки была дыра с пятак величиной. Там создавалась сильная тяга внутрь, в печь. Случайно я приблизил к отверстию ворот гимнастерки и вдруг заметил, что вошки из всех складок, подхваченные этой тягой, полетели в огонь, с треском одна за другой там погибая. Я чуть не подскочил от радости. Ведь прежде никакие мероприятия не помогали – вши оставались и очень быстро плодились, доставляя нам страдания неслыханные. А тут я за десять минут обеззаразил все свое имущество. Счастье, да и только.
Потом я разбудил всех своих товарищей. Товарищи сгрудились вокруг печки и принялись уничтожать паразитов с тем же успехом, с каким они уничтожали контрреволюционную нечисть на всех фронтах гражданской войны. Ну, Пашка, ты герой, говорили они.
Одна лишь Мария Степановна конфузилась и не желала воспользоваться моим открытием.
– Что вы, Павел, меня ничто не беспокоит. Товарищи, оставьте меня в покое, – говорила она.
– Мария Степановна, дорогой товарищ, вы же не спите из-за проклятых насекомых, – сказал Иван Куняев, кавалерийский делегат.
– Да, я не сплю. Я думаю о завтрашней полемике с блоком Голявкина, – возразила она.
Однако глухой ночью, когда все уже счастливо и свободно сопели на нарах, Мария Степановна пробралась к печурке. Я открыл глаза и увидел, что сидит она в одном белье и подставляет под тягу свою гимнастерку, чутко прислушиваясь к звукам, которые могли бы донестись сквозь грохот колес.
Нары подо мной скрипнули, она вся встрепенулась и повернула ко мне свое чистое лицо с плачущими глазами. Я готов был провалиться сквозь нары, сквозь пол прямо на шпалы, но все-таки глядел на нее во все свои дурацкие буркалы, так она была хороша. В этот момент она была никакая не Мария Степановна, политический строгий товарищ, а нежная девушка Маша. Я, простой пастух, которого революция оторвала от идиотизма сельской жизни и бросила в напряженную борьбу, я тогда понял, как страшен ей, дочке директора гимназии, наш военный быт и какое у нее сильное мужество и верность идее. Она закусила губы и отвернулась от меня.
С этой ночи романтические наши отношения были приостановлены, она стала суха со мной и строга и не называла более Павлом, а звала Збайковым, товарищем Збайковым. Позднее, в 30-е годы (я был в то время председателем исполкома большого города и жил с семьей в шикарной квартире, имел персональный «форд»), в те времена я часто вспоминал покойницу, когда кто-нибудь из семьи заводил полюбившуюся пластинку «Каховка»: «…и девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет». «Под солнцем палящим, под ночью слепою немало пришлось нам пройти»…
Да, тогда, в 30-е, что-то сжималось у меня внутри от этой песни, а сейчас даже плакать хочется, когда начинаю мурлыкать ее под нос. Мои дороги по всем фронтам гражданской и частые перемещения периода реконструкции, потом этапы до Воркуты и ссылка в Красноярском крае, и нынешняя моя спокойная жизнь персонального пенсионера в экспериментальном черемушкинском доме… Все чаще я стал сейчас предаваться воспоминаниям, и эта моя поездка не что иное, как воспоминание. Ведь я не был на родной Рязанщине более сорока лет.
3
В Рязань экспресс прибыл к вечеру. Люди, идущие по переходным мосткам над путями, были еще освещены солнцем, а перрон и встречающие были уже в вечерних сумерках. Меня никто здесь не встречал. Опять начались мои мытарства с чемоданом и рюкзаком. Привычки мои не позволяли обратиться за помощью к носильщикам. Не люблю я этого дела. Даже в бытность большим человеком я все время норовил сам ухватить свои чемоданы, вызывая этим удивление подчиненных.
– Поможем, папаша? – обратился ко мне носильщик, сам уже далеко не первой молодости. Я бодро улыбнулся, но на самом-то деле было мне тяжко. Силы уже не те.
С грехом пополам дотащил я вещи до камеры хранения, потом уточнил расписание – поезд на Ряжск отправляется завтра в полдень. Налегке я отправился в город и долго плутал по каким-то безлюдным перекопанным для прокладки теплофикационных труб улицам. Улиц этих я не узнавал, и тихая, чуть ли не секретная их жизнь была мне чужда.
Неожиданно я вышел на широкий, ярко освещенный проспект, по которому катили троллейбусы и такси и где стояли высокие дома. Двигаясь вдоль этого совсем уже мне незнакомого проспекта, я дошел до какой-то большой гостиницы. Конечно, у входа висело солидное, золотом по черному, стационарное объявление: «Свободных мест нет». Пришлось мне воспользоваться документом – персональной книжкой старого большевика. Администраторша полистала мой документ, выглянула в окошечко и сказала:
– Прошу, гражданин, обождать: у меня вон люди из «ящиков» еще не устроены.
В креслах сидели четверо «из ящиков», мужчины в серых костюмах. Так или иначе, но койку в двухместном номере я получил и был очень доволен, потому что не рассчитывал на такой успех. В коридоре подвыпивший человек остановил меня:
– Папаша, зуб болит. Где врача найти?
– Не знаю, дорогой, – сказал я.
– Сам-то русский или из ГДР? – спросил он.
– Русский, – сказал я, – рязанский уроженец.
– Да-а, – протянул он задумчиво, – а зуб-то болит. Придется в милицию обратиться.
Мы разошлись.
Ничто в этой гостинице не напоминало мне той милой моей Рязани, где когда-то «на заре туманной юности» изучил я основы политграмоты и получил военную подготовку. Гостиница была как гостиница, а в окна с улицы глядели безликие и безучастные неоновые вывески.
За ужином в ресторане я развеселился. Поразило меня меню. В разделе холодных закусок значились почти подряд такие блюда: салат из морской капусты, морской гребешок, салат «Дары моря». Континентальный этот город, видно, имел некую таинственную связь с Тихим океаном.
Утром я вышел на балкон и посмотрел вниз на проспект. По тротуарам торопливо сновали домохозяйки со связками длинных и странных, явно морских рыб.
Я поймал себя на том, что хихикаю, как турист, как столичный ферт, над провинциальными чудачествами незнакомого города. Еще раз я окинул взглядом ровную линию пятиэтажных домов и тут заметил в их ряду старую облупленную часовенку, в которой ныне помещалось, кажется, городское бюро справок.
Мимо этой часовенки бежали мы, щелкая затворами, мимо нее и мимо лабазов, мимо колониальной лавки Скворцова и Ко, мимо синематографа «Эльдорадо»; бежало нас двадцать человек. В тот день мы вооружились по тревоге после сообщения о том, что нашего человека Ваньку Комарова арестовал на митинге проэсеровски настроенный полк.
Я помню застывшую на бесснежном морозе грязь, тучки пыли, поднятой ледяным ветром, огромную площадь перед нами, вымощенную булыжником, и в конце площади плотную толпу шинелей – эсеровский полк.
«Тут тебе и конец придет, Павлушка», – думал я на бегу. Обошлось. Переорали, перематерили мы эсеровских агитаторов.
4
Утренний поезд на Ряжск был составлен из старых зеленых вагонов с узкими окнами. В вагонах было почти пусто – в моем сидели лишь три крестьянки в плюшевых черных жакетах. Они оживленно переговаривались. Впервые за все время своего путешествия я услышал подлинный рязанский глубинный напев их речи.
– Надысь я иду, а в тележке у яго тра-ава-а, – рассказывала про какой-то случай одна из них.
Это «х» или «г» было легким, мягким и теплым, словно летящий пух, словно чуть шершавое поглаживание матушкиных рук.
Я вспомнил покойницу, как растерялась она, маленькая старушка в нарядной своей понёве, на вокзале того города, где я верховодил в тридцатые, как отказывалась сесть в мой «форд» – «Я в эту тяжелку не сяду», как вечером в нашей большой квартире изрекла она мне конфиденциально: «Высоко ты забрался, Павлушка, а выше-то больней падать».
К концу войны сестра написала мне в лагерь, что матери у нас больше нет, что в сорок втором году, в голодуху и осеннюю темень, пошла она во двор, в уборную, сломала ногу и на другой день скончалась. А до конца войны ограничен я был в переписке.
Ряжский поезд двигался медленно, не то что вчерашний экспресс, медленно мы выбирались из Рязани, проезжая мимо кварталов новой застройки, чахлых сонных слобод, мимо разрушенных колоколен и индустриальных объектов, пересекли реку и въехали в необъятные поля, ровно освещенные жарким спокойным солнцем. Индустрия словно платком на прощанье взмахнула нам огромным языком пламени, полыхавшим в голубом небе над высокой черной трубой. Это бесхозяйственно жгли газ.
А потом тишина и маленькие станции, названия которых звучали для меня как музыка – Старожилово, Верда, Скопин… Все это было тихой музыкой: станционные красные домики за березками, зевающий начальник станции, босой мальчишка, звонок колокола, по которому отправлялся поезд, и скрип дощатого низкого перрона…
В Ряжске был сборный пункт дезертиров. Набралось их здесь несколько тысяч. Это была разнузданная орда морально опустившихся, бешено орущих людей, а конвой наш был малочислен, слаб. Трудно сказать, почему они не перебили тогда нас, конвоиров. Должно быть, просто невозможно им было организоваться даже для такого нехитрого дела: каждый орал свое, каждый был сам за себя, никто не хотел никого слушать, но каждый боялся пули сам для себя, по отдельности. Объединились они только в своей ненависти к комиссару, приехавшему с инспекцией из Москвы.
Мы вывели их за город, в поле, и кое-как организовали в огромное гудящее, как взбешенный улей, каре. Здесь была сколочена шаткая трибуна для высокого московского комиссара.
Он подъехал в большой черной машине, сверкавшей на солнце своими медными частями. Он был весь в коже, в очках и, что очень удивило нас, абсолютно без оружия. И спутники его тоже не были вооружены.
Он поднялся на опасно качающуюся трибунку, положил руки на перила и обратил к дезертирскому безременному воинству свое узкое бледное лицо.
Что тут началось! Заревело все поле, задрожало от дикой злобы.
– Долой! – орали дезертиры.
– Приезжают командовать нами, гады!
– Сам бы вшей покормил в окопах!
– Уходи, пока цел!
– Эх, винта нет, снял бы пенсню проклятую!
– Братцы, чего же мы смотрим в его паскудные окуляры?!
– Пошли, ребята!
Мы уже подняли винтовки для первого залпа в воздух, как вдруг над полем прокатился, как медленный гром, голос комиссара:
– Что это за люди?
Рукой он показывал на нас, конвоиров.
– Я спрашиваю, что это за люди с оружием? – снова прошел над нами голос, похожий на звук, что тянется за нынешними реактивными самолетами.
Дезертирство от неожиданности затихло, пораскрывало рты.
– Это конвой! – четко доложил один из его спутников.
– Приказываю снять конвой!
Он набрал полную грудь воздуха, очки его сверкнули, и он заревел еще более тяжелым, еще более гневным голосом, толчки которого словно отдавали у каждого в груди:
– Перед нами не белогвардейская сволочь, а революционные бойцы! Снять конвой!
В тишине, последовавшей за этим, над полем вдруг взлетела дезертирская шапка и чей-то голос выкрикнул одиночное «ура».
– Товарищи революционные бойцы! – зарокотал комиссар. – Чаша весов истории клонится в нашу пользу. Деникинские банды разгромлены под Орлом!
«Ура» прокатилось по всему полю, и через пять минут каждая фраза комиссара вызывала уже восторженный рев и крики:
– Смерть буржуям!
– Даешь мировую революцию!
– Все на фронт!
– Ура!
И мы, конвоиры, о которых все уже забыли, что-то кричали, цепенея от юношеского восторга, глядя на маленькую фигурку комиссара с дрожащим над головой кулаком на фоне огромного, в полнеба, багрового заката, поднимающегося из-за горизонта, как пламя горящей Европы, как огонь американской, азиатской, австралийской, африканской революций.
Я вспомнил этот эпизод сразу же, как увидел большое желтое дореволюционное еще здание Ряжского вокзала. Ряжск и в те времена был крупной узловой станцией, таким он остался и сейчас. То и дело с обеих сторон его перрона появлялись дальние поезда, замыкая транзитных граждан в грохочущий коридор.
Здесь предстояла мне ночевка, потому что поезд на Ухолово отправлялся только на следующий день. Без особого труда я получил койку в «комнате отдыха» и отправился автобусом в город, который в пастушеской моей юности казался мне загадочной и шумной столицей, какой, скажем, сейчас мне представляется Париж.
Ранним вечером я прибыл в центр городка и стал свидетелем гулянья местной молодежи, среди которой тон задавали студенты-механизаторы. Столичный ширпотреб проник уже и сюда, и молодые люди мало отличались от тех, кого я вижу ежедневно из своего окна в Черемушках, но все же это была, конечно, уже не Рязань, это была глубинка, отдаленная периферия.
Я погулял немного, делая наблюдения.
Горожанам, должно быть, давно полюбилось слово «павильон». Точки общественного питания назывались здесь павильонами – павильон № 1, павильон № 2, павильон № 3. А в самом центре возле скверика помещался любопытный магазинчик под вывеской «Игрушки, венки». Сейчас на дверях висел замок.
«Нарочно не придумаешь, – подумал я, глядя на эту вывеску. – Продавец, должно быть, философ. Утром приходит, переставляет игрушки, зайчиков, мишек, целлулоидных пупсов, стряхивает пыль с венков, уж понятно, не лавровых, с гигантских роз и пионов, покрытых тонким слоем стеарина, а то и с железных венков. Уж эти веночки мы знаем, элегантные, со звездочками, в былое время такие венки были в ходу для стальных людей, «сгоревших на работе». Станешь тут философом».
В последние годы я перенял у своей дочки и ее мужа манеру надо всем слегка посмеиваться. Дочка моя и ее муж, изъездившие чуть ли не весь мир, постоянно надо всем хихикают, беззлобно, но постоянно, как будто этот чуть-чуть даже утомительный для посторонних юмор чем-то облегчает им жизнь. Лично я с этой привычкой борюсь. Что это такое – был серьезным всю свою жизнь, а на старости лет все хи-хи да ха-ха.
Солнце еще освещало кафельные плитки бывшего особняка купцов Маркушиных, которых некогда мы с товарищами экспроприировали, когда вокруг сквера взревели мотоциклы механизаторов и бесшумно закружили велосипеды – молодежь стала разъезжаться. Я тоже покинул Ряжск и отправился на станцию, где ждала меня койка за 70 копеек.
Всю ночь под окном пыхтел и отчаянно, как кавказский осел, кричал какой-то паровозик, а на соседней койке молодой парень крутил под одеялом свой маленький полупроводниковый приемник, завывала эта шумовая музыка, этот проклятый джаз, от которого у меня дома, в Черемушках, раскалывается голова.
– Молодой человек, – тронул я за плечо соседа, – давайте уж так – или вы, или он, – и показал ему в окно на паровоз.
– Извини, батя, – сказал парень, – такая у меня привычка. Заснуть не могу без легкой музыки. Сейчас засну.
Еще секунд десять визжали заморские трубы, потом щелкнул выключатель, парень захрапел, дико взревел паровоз, и я заснул.
Утром в необозримой комнате отдыха шли уже только разговоры о покосе, мужички увязывали узлы, и я понял, что это мои попутчики до Ухолова.
Ухоловский поезд был еще тише, чем ряжский. Закрыв глаза, можно было бы представить себе, что двигаешься в телеге, если бы не близкое пыхтенье паровоза.
Напротив меня на лавке сидели три мужичка, соседи мои по комнате отдыха.
Люди это были примерно моего возраста, и что-то в их повадках, в жестах, в манере разговора подсказывало мне, что это уже ближние люди, может быть, даже из нашего села или из его окрестностей. Волновался я неслыханно, думая, как затеять с ними разговор. Казалось мне, что они, толкуя о своих делах, как-то со значением на меня поглядывают.
– Вот и прикидывай, мужички, где интересней, – говорил один из них, красноносый дядя в лихо сдвинутой набекрень кепке. – Родькин, стало быть, зовет сам-десять, а в лесничестве кладут сам-шесть.
Родькин! У меня заколотилось сердце: это была фамилия из нашего села, мощный, родственный нам, Збайковым, клан Родькиных.
– В лесничестве особо не размахнешься, – сказал сухощавый задумчивый человек. – Не размахнешься, говорю. Одни пни да кусты.
– О покосе разговариваете, товарищи? – осторожно спросил я.
– О нем, – охотно ответил третий, лукавый коротыш, самый почему-то знакомый из них. Двое других промолчали, и коротыш стушевался.
– Вот вы сказали – Родькин, – набрался смелости я, – извините уж, невольно подслушал. Это не Михаила ли Родькина сынок?
Коротыш заерзал на лавке и смолчал, а сухощавый, внимательно вглядевшись в меня, спросил:
– Михал Андреева Родькина имеете вы в виду, гражданин?
– Да-да, Михал Андреев! – вскричал я, мгновенно какими-то вспышками вспоминая фигуру могучего мужика Михаила Родькина, не раз стегавшего меня за набеги на его сад.
– Так этот Родькин, о котором мы гуторим, председатель наш, его внук, – строго сказал сухощавый.
– Так вы, может, из села Боровского, товарищи? – опять вскричал я.
– Мы вот с ним из Боровского, а энтот товарищ из Канина.
– Так я ведь тоже из Боровского!
– Ага, – вежливо покивали мне мужики и, глядя в окно, принялись заряжать самокрутки. Молчание длилось долго. Я краснел и бледнел, как мальчишка, проклиная свою дурацкую шляпу, и очки, и галстук, все свое городское обличье, видимо, вызывающее у них недоверие.
– А вы чей же будете? – наконец спросил сухощавый, самый авторитетный из них.
– Я Збайковых, – чуть ли не умоляюще сказал я.
– Устина Збайкова, стало быть, сын?
– Нет, Устин-то Збайков в Тивердинских выселках жил, а мы из Энгельгардовского общества.
– Ага, «Знамя труда», стало быть, – объяснил сухощавый канинскому крепышу.
– Петра Збайкова, покойного, я сын, – сказал я.
И вдруг красноносый, молчавший до сих пор, хлопнул шапкой по колену.
– Да уж не Павла ли Петровича вижу я перед собой? – гаркнул он.
– Да! Да, я Павел Петрович Збайков.
– Павел Петрович! Ну, поди ж ты! – засмеялся красноносый. – А меня-то не признаешь? Я ведь Сивков Григорий.
Сивков Григорий, Сивков Григорий… Сивковых помню из Ермолаевского общества, а Григорий?
– А ведь вместе в церковноприходскую школу ходили, фулюганили вместе, – старчески залукавился сверстник мой Григорий.
Не знаю уж, узнал ли я его или просто убедил себя, что узнал, но мы тут же стали вспоминать наши мальчишеские шалости, как будто прошло не сорок с лишним лет, а каких-нибудь десять. Мы говорили о разорении грачиных гнезд и о ловле карасей в барском культурном пруду, и о велосипеде податного инспектора – история и топография этих приключений полностью у нас совпадали, и я понял, что Григорий Сивков действительно принадлежал к нашей шайке.
– Сивков! – воскликнул я, вдруг на самом деле вспомнив. – У тебя ведь брат был мой тезка.
– Точно, – подтвердил Григорий, – признали наконец, Павел Петрович.
– Жив тезка-то?
– Кто его знает, жив ай нет? В тридцатом годе, как принято было у нас твердое решение, так он по жизни пошел. Слух был, что в казахстанской земле у него ноне хозяйство.
– А меня-то припоминаешь, Пал Петрович? – спросил худощавый. – Я Савостин Михаил с Тивердинских выселок.
– Как же, помню, как же.