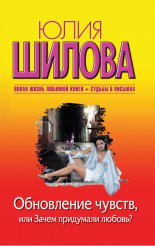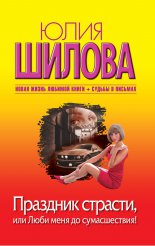Хроники минувших дней. Рассказы и пьеса Ковалев Леонгард

Конечно, мы и ссорились, бывали обиды. Во время грандиозного фейерверка в парке к нам в сад опустился парашютик от сгоревшего на нем пиротехнического заряда. Я считал, что парашютик должен принадлежать мне, потому что и двор, и сад считал своими, так как я здесь жил, но взрослые присудили парашютик Эмме. Качествами джентльмена я не обладал, потому был обижен до слез и понял, что Эмму любят больше, чем меня. Между тем парашютик был всего лишь куском бесцветного парашютного шелка с примитивным устройством для удержания под ним горючей смеси. Обиды, конечно, забывались, ведь я любил Эмму, и мы встречались не так часто, сколько хотелось.
Но вот однажды, проснувшись утром в своей постели, я замечал странную перемену в доме. Комната вдруг стала какой-то особенно светлой и большой. Из кухни слышалось, как входившие со двора громко топали у порога и как-то по-новому, бодро звучали голоса. Из постели я подбегал к окну, и чудо: там все было бело, вчерашнего мрака, черноты как не бывало! С неба крупными медлительными хлопьями, беззвучно кружась, падал и падал снег.
Я быстро завтракал, быстро одевался, все, конечно, с помощью бабушки, шел во двор. Все-все там было покрыто белым, пушистым снегом: крыльцо, двор, сарай, каждое дерево и каждая ветка в саду, и то, что дальше – улица, весь город, и было тихо-тихо. Я подставлял лицо холодным снежинкам, лепил снежную бабу, снежки.
В один из таких дней после обильного снегопада во дворе собралась целая свора собак – должно быть, приятели нашего Томика. В компании выделялся большой черный пес с вислыми ушами. С высокого крыльца я стал забрасывать собак снежками, на что они никак не отзывались, но все внимательно наблюдали за мной. Расхрабрившись, я стал спускаться по ступенькам крыльца, продолжая кидаться, и, наконец, сошел с последней. Тогда черный пес не спеша и молча подошел ко мне, поднялся передо мной на задние лапы, а передние положил мне на плечи. Я упал навзничь, и он стал надо мной. От страха я не мог ни пошевелиться, ни издать какой-либо звук. Черныш постоял так минуту, глядя поверх меня и как бы задумчиво, и отошел – с достоинством, не зарычав, не залаяв. Вскочив на ноги, я мгновенно взобрался на спасительное крыльцо.
С собаками было еще одно приключение. В нашем саду не было ни одной сливы. Между тем у соседки, старухи-польки, на ее участке, граничившем с нашим садом, росло как раз вдоль границы чуть ли не с десяток сливовых деревьев, плоды которых были отчаянно соблазнительны – крупные, светящиеся соком, желтые и розовые, и я лелеял мечту добраться до них. Я часто прохаживался вдоль ограды из колючей проволоки, поглядывая на эти, такие близкие сливы, так что не мог не вызвать подозрений. И однажды, решив, что настал благоприятный момент, быстро подлез под протянутую колючку. От дома соседки, видимо все это время наблюдавшей за мной, тотчас понеслись ругательства на польско-русском наречии. Вслед за этим на меня устремилась целая свора собак, которых держала она. Мгновенно выскользнув из-под проволоки, я бросился бежать, но, видя, что собаки уже догнали меня, остановился под ближайшей яблоней, повернувшись к ним лицом. Их было пять или шесть. Они окружили меня и грозно облаивали. Постояв так некоторое время и решив, что ярость собак утихла, я выскочил во двор со всей быстротой, на какую только был способен, захлопнув калитку перед самым носом своры. Удивительно, но собаки, обычные дворняги, которые легко догнали меня, не укусили, хотя вполне могли это сделать. Может, они снизошли к моему глупому младенчеству и только попугали меня?
Приближался Новый год. Я постоянно спрашивал взрослых, сколько еще осталось дней. Наконец, день этот наступал, в дом вносили елку – высокую, до потолка, раскидистую, пушистую, распространявшую по комнатам лесной дух, вызывавшую бурю восторга. После того как дедушка или дядя Коля устанавливали ее на кресте, мать и я начинали развешивать на ней украшения – игрушки, потом конфеты, печенье, грецкие орехи, завернутые в фольгу, красные яблочки, купленные, так как у нас таких не было, мандарины. На елке крепились также тонкие разноцветные свечи. Их зажигали под строгим присмотром взрослых. Мягко колеблющееся сияние их с золотым ореолом вокруг язычка пламени было волшебно трепетным, непередаваемо дивным. Погруженная в таинственный полусвет, мерцая разноцветными огоньками, елка была настоящей сказкой, пришедшей в дом. Славно было забраться под навес раскинутых ветвей, к Деду Морозу, поставленному среди сугробов ватного снега, лежать так и думать, что вот ты уже в другой, чудесной стране и сейчас начнется удивительное, невозможное в обычной жизни, чего еще не было никогда!
Подарки для нас к Новому году были самые простые. На сохранившейся фотографии тридцать седьмого года мы с Эммой стоим возле нарядной елки и держим их в руках: у Эммы целлулоидный негритенок-голыш, у меня небольшая лошадка из папье-маше.
После Нового года тянулись долгие дни снегов и мороза. Снежные бури, вьюги, снегопады сменялись морозными солнечными днями. Тогда я катался во дворе и в саду на лыжах и санках. В доме было тепло, натоплено, играло и говорило радио, в кухне бабушка топила печь, орудовала ухватами, сковородниками, я опять рисовал, читал, но уже хотелось тепла, весны.
Совсем другая жизнь, манившая к себе, томившая желанием приобщиться к ней, шла за пределами двора и сада. На треке носились мотоциклисты, на футбольном поле разыгрывались матчи футболистов. Сквозь широкие щели забора все это было хорошо видно из нашего сада.
По вечерам в березовой роще шло гулянье. Вдоль цветочных клумб и кустарниковых шпалер непрерывными потоками шли нарядно одетые люди, оживленно разговаривая, смеясь. На балконе летнего клуба играл духовой оркестр. Внизу, на площадке, кружились танцующие пары. Иногда устраивался зрелищный фейерверк, как тот, когда мы поссорились из-за упавшего в наш сад парашюта. Это было настолько похоже на то, что потом показывали в кинофильме «Истребители», что, казалось, там был именно этот фейерверк и наш парк. Парк посещали дядя Гена, тетя Варя, мать, брали с собой и нас с Эммой. Чувством этих прогулок был праздник среди огней, музыки, счастливой беспечной толпы.
Днем в парке было пустынно. Не было никого на аллеях, на треке, на футбольном поле. Тишина, которая приходила оттуда, соединялась с тишиной нашего сада, и тогда в этом мире оставались лишь солнце и небо, тихие шумы деревьев, мечтательная задумчивость природы.
Дом наш стоял рядом с вокзальной площадью, в центре которой за невысоким заборчиком был скверик, тенистый от разросшихся там желтых акаций. На нашей Первомайской улице, смыкавшейся с площадью, во время праздников собирались демонстранты, гремели оркестры. Отсюда к центру города начиналось шествие колонн.
Ярким солнечным утром Первого мая сюда подошла полуторка с устроенными в кузове лавками, специально оборудованная к этому дню для перевозки детей. С разрешения матери я тоже забрался в эту машину, и много часов потом мы ехали вместе с потоком демонстрантов к центру города. Я, кажется, первый раз ехал так в машине. Конечно, это было исключительное событие. Кто был мальчишкой в те годы, поймет меня. А в обычные дни улица наша была малолюдна, тиха, даже пустынна.
Рядом с вокзалом находилось основное здание клуба, где была и библиотека. В клубе показывали кино. Деревянное строение это с архитектурными претензиями в виде каких-то башенок, шпилей, выкрашенное охрой и суриком, окружали старинные тополя. Фойе украшали растения в кадках. Здесь были столики для желающих поиграть в домино, шахматы, шашки. Перед началом сеанса с эстрады, специально устроенной для этого, выступали певцы, певицы, играл оркестр. Здесь я видел: «Огни большого города» и «Новые времена», «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Василиса Прекрасная», фильмы о летчиках и моряках, о революции и гражданской войне, о шпионах и врагах народа. Эти последние, такие как «Ошибка инженера Кочина», «Партбилет», производили сильное, однако тяжелое впечатление. Несмотря на малый свой возраст, я вполне воспринимал подавляющий пафос этих картин.
Каждодневно сеявшаяся вокруг атмосфера страха тех дней, расклеенные повсюду плакаты, изображавшие «ежовые рукавицы» в действии, другие, подобные им, достигали того результата, на который были рассчитаны. Ходили пугающие слухи о шпионах и диверсантах, которых, кажется, было уже столько, что опасность подстерегла на каждом шагу. Каждодневные разговоры взрослых о том, что ночью «взяли» кого-то, заставляли держать в уме постоянную, смутную тревогу. И однажды глубокой ночью – а все эти дела, как и вообще черные дела, творились по ночам – к нам громко и настойчиво постучали. Вошли люди в форме НКВД. Начальник спросил фамилии проживающих, потребовал паспорт дедушки. Сидя за столом, он смотрел в свои бумаги и что-то писал. Вдруг он спросил имя-отчество дедушки, хотя паспорт был у него перед глазами. Дедушка ответил, а энкэвэдэшник назвал из своих бумаг другие имя и отчество. Оказалось, пришли за другим человеком под той же фамилией, жившим в маленькой избушке позади нашего дома. Так дедушка и все родные пережили несколько минут настоящего страха. В ту ночь добыча служителей преисподней была в другом месте.
А в первые дни нового года, рано утром, пришли все в слезах тетя Варя и Эмма: ночью забрали дядю Гену. Дяде, однако, невероятно повезло. Он попал в тот короткий промежуток, когда некоторых арестованных выпустили. Его освободили через две недели, он вышел бледный, заросший черной бородой. Были и радость, и слезы по поводу его освобождения, и потом он рассказывал, как их били валенком, в который закладывали тяжелый камень. Так отбивали внутренности, не оставляя на теле пыточных следов. Думаю, не последней причиной ранней смерти дяди Гены была и эта.
Обстановка окружающей враждебности, чувство, что кругом шпионы и враги, усиливались проходившими судебными процессами над троцкистами и бухаринцами, а также обычаем устраивать грандиозные похороны крупных деятелей и героев, как Горький, Орджоникидзе, Чкалов. Трансляции этих похорон с чеканным голосом диктора и траурной музыкой вызывали мрачные впечатления и тяжелые чувства. Из нашего репродуктора я слушал их затаив дыхание каждый раз от начала до конца.
Происходили еще какие-то странные, в то время непонятные события. Однажды все обозримое небо покрыло несметное количество самолетов-бомбовозов, летевших низко, медленно, тяжело. Перелет длился довольно долго. Что это было? Не знаю об этом ничего до сих пор. В другой раз, тоже на небольшой высоте, пролетел какой-то не такой, не наш самолет. Из разговоров взрослых было знание, что это немецкий, фашистский самолет, и почему-то из-за этого плакала Эмма. Возможно, на этом самолете в Москву прилетал Риббентроп?
Конечно, нам было известно о существовании очень плохих людей – фашистов. Они находились в Германии и убивали всех хороших людей, а особенно самых лучших – коммунистов. Об этом рассказывал фильм «Карл Бруннер», в котором трогала судьба немецкого мальчика, представленная человечно, интересно. Шла война в Испании, фашистские самолеты бомбили испанские города. В «Правде» была напечатана карикатура: могучий республиканский солдат наносит сокрушительный удар генералу Франко – а он же и есть фашист, – удар, от которого у злобного генерала из перекошенной пасти вылетали зубы. И гордо звучало: «Они не пройдут!».
Были в то время фильмы о жестоких басмачах и злых белофиннах. На вокзальной площади состоялся митинг летчиков, вернувшихся с финской войны. Они заполнили значительную часть площади – в темно-синей своей униформе, в пилотках, с медалями и орденами на груди, слушая выступавших ораторов.
Но были другие события, захватывавшие воображение: перелет Чкаловского экипажа через Северный полюс в Америку; Папанинская эпопея; подвиг летчиц самолета «Родина»; еще не утихли рассказы о недавней Челюскинской экспедиции, о летчиках Водопьянове, Громове, Леваневском. В героическом обрамлении представлялись бои с японцами на Дальнем Востоке. Обо всем этом печаталось в газетах с большими заголовками, снимками, проводились помпезные передачи по радио, показывалось в кино. Таково было это время. И вот его голоса уже далеко, и мало кто слышит их.
В те дни мне пришлось близко столкнуться с тем фактом, что на свете есть смерть. Умерла молодая женщина, жившая через дорогу от нас. Похороны были многолюдные, с большим количеством цветов, с духовым оркестром и душераздирающей музыкой.
А незадолго до моего отбытия в санаторий умер от диспепсии мой десятимесячный братик. Хоронили его мать, дядя Гена, тетя Варя, Эмма и я. День был радостный, яркий. Я впервые оказался на кладбище. Затененное старыми деревьями, с памятниками и свежими холмиками могил, укрытыми венками, оно произвело неизгладимое, сложное впечатление, заставив подумать о тех, кто был и кого больше нет, о таинственном, страшном, обозначаемом словом «смерть».
Маленькая могилка была вырыта в ярко-желтом песке, на пологом спуске к долине, на краю кладбища. В красном гробике лежал хорошенький мальчик в кружевах, похожий на куклу чистым, без кровинки лицом. Страшное это было дело: пугающий зев могилы, куда навеки был положен и засыпан влажным песком маленький человечек, и та роскошная картина летнего дня, говорившая о прекрасном и вечном. Как можно было соединить их? Сияло небо, светило солнце, все было в зелени, роскошной и яркой, шумящей под радостным ветром. Мать роняла молчаливые слезы, и по-детски громко безудержно плакала Эмма.
Несмотря на всю обстановку подозрительности и страха, на то, что кругом были враги и шпионы, все еще оставались солнце и небо, трава, деревья, оставались дом и дружба, весь круг близких и дорогих людей. А если тебе к тому же каких-нибудь пять или семь лет и когда у тебя есть все, какие мировые проблемы могут испортить жизнь?
Я оставался предоставленным самому себе в мире, где большую часть времени всем было не до меня. Жизнь эта казалась скучной, неинтересной, томила однообразием и одиночеством. Все это были одни и те же двор, сад, огород, и все я оставался один, сам с собой. Потому, когда происходили, пусть даже ничтожные события, они оживляли такие дни. Событием было чтение интересной, взятой в библиотеке книги, покупка новой, обычно грошовой книжки, коробочки цветных карандашей, интересная радиопередача, приход Эммы с родителями или наше посещение их дома.
Вот бабушка варит в саду вишневое варенье на костерке в латунном тазу, поставленном на два кирпича. Мы с Эммой стоим рядом и ждем, когда она соберет для нас вкусные пенки деревянной ложкой на длинном черенке. Или мы с бабушкой отправляемся в поле, где пасется стадо, чтобы подоить Сондру. Бабушка несет ведро, мы идем в конец улицы и оказываемся за городом, на природе. Солнце палит, оно в зените, небо безоблачно. По сторонам дороги высокие, редко посаженные ели, источающие под зноем смолистый аромат. Стадо пасется недалеко, нас встречает Василь, весь в сознании своей профессиональной ответственности. Он о чем-то говорит с бабушкой, для меня сейчас у него нет времени. Бабушка доит Сондру, получается полное ведро молока, и мы отправляемся в обратный путь. На улице мы проходим мимо большого двухэтажного дома, стоящего на пригорке за высоким забором. Это коммуна, подобная той, какую описал Макаренко. На крыше – трое коммунцев. Одного спустили с крыши вниз головой, двое других держат его за штаны. Висящий орет благим матом, приятели хохочут. Глядя на это, бабушка сокрушается, но что можно сделать?
Однажды возле нашего дома милиционер и красноармеец, разведя руки, ловили сбежавшего коммунца. Стриженный под ноль, в синей рубашке и зеленых штанах – видимо, специальной одежде для коммунцев, – прижатый к забору, он искал глазами, куда бы юркнуть, но бежать было некуда, он был пойман. Милиционер скрутил его, остановил проезжавшего на лошади колхозника, взвалил, как куль с картошкой, на телегу и повез в сторону коммуны.
В цирке, куда мы ходили с бабушкой, показывали поезд, пассажирами которого были разные звери: обезьянки, собачки, зайцы. А в кукольном театре я смотрел спектакль, где вместе с куклами на большой сцене с чудесными декорациями существовал настоящий, живой Иван. Спектакль назывался «Большой Иван».
По нашей улице, в противоположной стороне от парка, за углом, находился небольшой базар. Бабушка делала там необходимые покупки и часто брала меня с собой. Там было много интересного, мне нравился этот живой, цветистый мир. Тут продавались горы разнообразной глиняной посуды, также чугуны, сковороды, топоры и пилы, грабли, лопаты и рядом ярко раскрашенные глиняные игрушки: зайцы, собаки, свистульки в виде петушков и птичек; а еще вырезанные из дерева молотобойцы, медведи, старики и старухи; изделия из цветной бумаги; «морские жители», дудки, трещотки. На прилавках горки красных раков, разноцветные конфеты в виде круглых шаров и длинных палочек, соблазнительные штуки из мака с медом. В конце базара находился большой чан с керосином. Здесь всегда стояла очередь желающих получить его, ибо в каждом доме был примус, которым пользовались, чтобы не всякий раз топить печь.
На улице, возле базара, перед зданием почтамта, на асфальтированной площадке мальчишки устраивали катанье на самокатах, гремевших подшипниками, которые использовались для них.
Помнится еще, как бабушка вырвала мне зуб, который шатался и очень мешал. Она привязала крепкую суровую нитку одним концом к моему зубу, другим – к дверной ручке, вынула из плиты, которая в это время топилась, тлеющую головешку, одной рукой придержала дверь, а другой сунула мне к лицу головешку. Я отшатнулся – и зуб вылетел.
Иногда в выходной день мать отправлялась в город сделать какие-то покупки, и я упрашивал ее взять меня с собой. Мы доходили до театра, до центрального парка, откуда с высокой кручи открывался вид на Днепр и Заднепровье.
В городе было много интересного. Мы заходили и в книжный магазин, и мать покупала там что-нибудь мне. Назад я уже еле плелся от усталости, отставал, но в следующий раз опять упрашивал взять меня с собой.
В солнечный летний день железнодорожники организовали маевку с выездом народа в живописную местность, на берег Днепра – с буфетами, с музыкой духовых оркестров, с выступлениями артистов. Взяли и нас с Эммой. Праздник получился замечательно незабываемый среди чудесной природы.
Мне было пять лет, когда я увидел во сне, будто в наш дом с высокого крыльца ломится волк, тот самый, от которого ускользнули три поросенка. Вскоре после этого я заболел. Началось с того, что я не мог держать голову естественным образом и стал носить ее на руке. Мне начали сниться кошмары. Я стал кричать по ночам, а проснувшись утром, укрытый с головой одеялом, не мог пошевелить руками, чтобы, отодвинув его, избавиться от духоты. Выход вскоре нашелся: я догадался стаскивать одеяло ногами, а немного полежав, мне возвращалась способность двигать руками.
Мать стала показывать меня врачам, и они лечили меня каждый на свой лад. Показали меня и местным профессорам, сделали рентгеновский снимок, но и на нем не увидели, в чем дело. Бабушка привела знахарку, она совершила надо мной таинственные манипуляции со свечами и невероятно толстой книгой, раскрыв которую, кропя меня водой, бормотала свои заклинания. Не помогло и это. Мать повезла меня в Минск. Там мы попали на прием к профессору Найману, позже, уже после войны, оболганному и уничтоженному бериевцами.
Я уже не мог идти сам, по многолюдной минской улице мать несла меня на руках. Я был тяжелый, мне было пять с половиной лет. Мать выбивалась из сил. Был осенний месяц, наверное, октябрь, день солнечный, но прохладный. При переходе через пересекающую улицу с головы у матери ветром сорвало берет, швырнув его под колеса проезжавшей эмки. Один из прохожих, военный, бросился за беретом и выхватил его из-под самого колеса.
В гостинице, с какого-то высокого этажа – так высоко я еще не был никогда – я видел, как далеко вниз ушла земля, какими маленькими там казались люди. Оставив меня в номере одного, мать уходила хлопотать о врачебном приеме.
Со мной были две игрушки: маленькие трактор и автомобиль. Они мало развлекали, я лежал в постели. Молчание, тишина окружали меня долгие часы.
Профессор, глянув на снимок, сделанный в Могилеве, тотчас поставил диагноз: ушиб шейного позвонка. Было предложено два лечебных варианта: гипсовая коробка, охватывающая голову и туловище, включая ягодицы, или специальный жесткий неснимаемый воротник. Я выбрал гипсовую коробку; воротник, который закует мне шею, пугал меня. Профессор сказал матери:
– Мужайтесь, будет ли лечебный эффект, неизвестно. В положительном случае в гипсе придется провести, может быть, лет пять.
Профессор был невысокого роста, подвижный, как колобок, с головой, полностью свободной от волос.
В назначенный день меня раздели догола, положили на столе лицом вниз, и группа студентов-практикантов, изучавших процедуру под руководством профессора, обступила стол, и каждый хотя бы один палец положил на меня, а на тело и голову стали накладывать влажные и холодные, пропитанные гипсом куски марли – несколько слоев. От страха, а больше от смущения и стыда я кричал на всю клинику.
Меньше чем через год мать привезла меня к профессору снова. Я был уже на ногах. Осмотрев меня, обращаясь к матери, профессор сказал:
– Вы счастливая мать, он вполне здоров.
Долгие восемь месяцев я пролежал в гипсовой коробке. Иногда заходили тетя Варя и Эмма, но не задерживались. Взрослые, как всегда, были озабочены своими делами. В комнате, кроме меня, в своей кроватке барахтался Игорь, родившийся в то время, когда я заболел. Он был занят погремушкой, резиновым утенком и был почти беззвучный ребенок. Особенного ухода за мной не требовалось, потому целые дни я оставался один. Вечером с работы приходила мать, что-то делала для Игоря, для меня, иногда ходила в кино с тетей Варей и дядей Геной, которые всегда брали с собой и Эмму, и, когда возвращалась, подсаживалась ко мне, рассказывала содержание фильма, что-то из событий, происходивших в городе или на работе, а часто и читала что-нибудь вслух.
Мне давали книги, карандаши, бумагу – я читал или рисовал, положив бумагу на кусок фанеры. И когда уставал, думал о той жизни, которая протекала за стенами дома и была недоступна мне.
Прошла осень, прошли Новый год, елка, зима, прошла и весна. Стало тепло, зазеленела трава. В саду расстилали рядно, меня выносили из дома, клали на него, оставляя так на весь день. Позже ко мне приносили Игоря, который уже начинал подниматься на ноги. Возле нас ставили какой-то ящик, и он, держась за его край, вставал, пробовал ходить.
Долгие дни эти со мной были только сад с тяжелеющими плодами на ветках, бездонное небо и солнце. И рядом, словно маленькие подобия его, цвели одуванчики – нежный цветок, на который летела пчела. Заходившая ненадолго Эмма садилась на край рядна, сплетала из них венок, но вскоре уходила. Оставаясь один, целыми часами я смотрел в эту лазурь и думал… О чем?.. О чем можно думать в шесть лет?
К лету я начал тайком подниматься на ноги вместе со своей коробкой, привязанной ко мне бинтами, и пережил неожиданные ощущения: земля, которая долгое время оставалась у моих глаз, вдруг ушла страшно далеко вниз. У меня закружилась голова, я должен был вновь учиться ходить.
В следующем году меня отправили в туберкулезный санаторий. В туберкулезный потому, наверное, что предполагалась возможность возникновения этой болезни из-за ушиба позвоночника, на самом деле просто потому, что нужной путевки не было. Та путевка, которая по показаниям подходила мне, досталась другому ребенку.
До места назначения меня сопровождала чужая женщина. В незнакомом городе, куда мы прибыли поездом, за нами приехала эмка. Она развернулась на площади перед красивым зданием с овальным фасадом и колоннами по нему и выехала за город. В пути женщина и водитель оживленно беседовали. Предоставленный самому себе на заднем сидении, я впервые ехал в легковом автомобиле.
Небольшое светлое здание санатория, кажется, в два этажа, несколько других, стоявших рядом, видимо, хозяйственных, строений находились посреди соснового бора. Я оказался в группе детей такого же возраста. Там все было как в детском саду: большая комната с игрушками, спальня, где стояли наши кровати, столовая. Распорядок был тоже детсадовский. Лечение – исключительно целебным воздухом бора. Время, незанятое приемом пищи, послеобеденным сном, играми в комнате, проходило в лесу.
Но все здесь вызывало во мне отторжение. У меня не было никакой близости ни с кем из детей, все было постылым и чуждым, лишенным тепла. Я чувствовал вокруг пустоту. Ночью, когда все спали, я думал о доме, вспоминая умершего братика, плакал. Долгие годы потом слово «санаторий» вызывало во мне чувство нерадостного, чуждого. А в памяти остались картины дремучего бора, величавых деревьев. Задумчивый шепот, которым они обменивались друг с другом в вышине, дурманящий запах папоротников, густо разросшихся под ними, живо и ярко вспоминаются и теперь.
Одним из воспитателей и обслуживающих работников санатория был молодой мужчина, много времени проводивший с нами. Он вырезал для нас из толстой сосновой коры замечательные лодочки и кораблики. На них устанавливались бумажный парус и руль, и они красиво плавали в большой луже перед санаторием. Это мало развлекало меня. Даже когда воспитательница, расположившись на поляне среди окружавших ее детей, читала интересную книжку, я оставался в стороне, погруженный в свое.
Была там девочка, которая не росла. Считали, что воздух соснового бора поможет ей. Она была постарше остальных, но такого же роста, как и другие дети. И тоже держалась особняком, была молчалива, печальна.
В комнате для игр висела картина, изображавшая море, далекий в нем парус и на берегу женщину и мальчика, машущих ему рукой. Я никогда не видел моря, оно представлялось мне влекуще прекрасным. А парус? Одинокий? Я уже знал эти стихи. В них заключалась тайна. Оставшиеся на берегу не могут изменить судьбы, а море все дальше и дальше уносит надежду и счастье… Я все еще помню эту картину…
Я опять был у себя во дворе и в саду.
Странным образом я стал находить возле дома, в траве, ключи – отдельные и целыми связками. Откуда? Что это были за ключи? Возможно, среди них был и тот, волшебный, который откроет таинственную дверцу? Но, значит, и она тоже где-то здесь, близко? Я обследовал весь большой сарай и все уголки в саду, во дворе, в доме, но волшебной дверцы не было нигде. Я мечтал о чудесных приключениях, о Буратино и девочке с голубыми волосами. Я знал: они совсем близко. Ах, как хотелось оказаться в стране, где жили они! А эти двор и сад? Они были скучны, неинтересны, здесь все было известно до последней травинки. И каждый день все то же, одно и то же – солнце, деревья, небо, трава. И все время один. Эмма готовилась поступать в школу, у нее были новые подруги. Игорь был еще слишком мал.
Приближалась новая осень. К нам пришли соседи, которые жили в красивом казенном домике через дорогу. Это были мать и дочь, девочка моих лет. Девочка была хорошенькая, желтоволосая, с красивыми карими глазами, Женя. В то время как бабушка и мать Жени обсуждали что-то между собой, я показал ей свои книжки, рисунки. Она не выказала интереса ни к тому, ни к другому, а мне хотелось подружиться с ней.
Вскоре я побывал в доме этих, желанных для меня соседей. В большой комнате, освещенной лампой под оранжевым абажуром, был полусумрак: дом окружали тенистые деревья. За столом, стоявшим посреди комнаты, мать Жени что-то шила на машинке. В углу возле окна стояла детская кроватка с ковриком над нею, с вышитыми на нем желтенькими утятами. Но сближения между нами опять не получилось.
Каждый день, засыпая и просыпаясь, я думал о ней. О, как хотелось, чтобы мы были вместе – вместе играть! Нам было бы хорошо. Она была такая нежная, такая красивая.
Они пришли снова, и бабушка опять что-то обсуждала с матерью Жени. Мы были во дворе. Было солнечно, так славно и так чудесно. Я опять не знал, чем ее заинтересовать, а она оставалась странно неприступной.
– Хочешь, пойдем в сад, сорвем яблок? – сказал я, не придумав ничего другого. Я готов был для нее на все. Но она горделиво повела плечиками, посмотрев равнодушно, свысока:
– Подумаешь! Задается своими яблоками! Задавака!
Стояли дни ранней осени. Солнце уже не жгло, не томило. Осенявшие парк березы, тополя вдоль улицы грустили о том, что прошло. В тихой задумчивости был старый сад… И она ушла… Мы жили так близко, но больше я не видел ее никогда…
Последние события и последние воспоминания всей той жизни относятся к сорок первому году. Я уже был школьник. Утром двадцать третьего июня я приехал из пионерского лагеря и увидел, как в городе поразительным образом все переменилось. Станция, примыкавшие к ней площадь и улица, тихие и малолюдные в прежнее время, были теперь словно растревоженный муравейник. Множество людей сновало здесь, не замечая ничего вокруг себя.
Дома была только бабушка. Мужчины находились неотлучно у себя на работе. Игорь – в детском саду и там оставался на ночь. Мать возвращалась из дома отдыха тем же поездом, каким ехал и я. Узнав об этом каким-то образом в пути, разыскивала меня на перроне, в то время как я был уже дома.
Едва я переступил порог, по радио была объявлена воздушная тревога. Со станции зазвучали частые гудки паровозов. Бабушка велела мне идти в сад, сама же оставалась у плиты. Тут же появилась и мать.
В саду еще продолжалась многообразно чарующая, мирная жизнь. В задумчивости, в тишине стояли деревья. Сияло небо. Сверкало солнце. С безмерной щедростью они одаривали землю своей благодатью. Им не было дела до человеческих безумств.
Дедушка уже вырыл глубокую яму. Как и все, что он делал, яма была выкопана аккуратно, старательно – совершенно круглая, диаметром метра два, с ровным, утрамбованным дном, со ступеньками для схода и выхода, с тщательно выровненным бруствером из вынутой земли. Трава уже была скошена, пахло сеном. Я сел на краю ямы, не спускаясь в нее. В небе, высоко-высоко, летел вражеский самолет. Далекий, таивший угрозу звук его моторов был слышен в саду.
В парке группа людей в штатском задержала некоего человека. В то время как там проверяли содержимое небольшого его чемодана и, кажется, что-то нашли, в сад неожиданно вбежал высокий мужчина, заросший черной недельной щетиной. Он явно спасался бегством. Не обращая внимания на меня, пугливо озираясь, увидев то, что происходило в парке, выскочил из сада и скрылся со двора.
Минуты через три в сад вбежали двое чекистов с пистолетами в руках, спросив, не забегал ли кто сюда. Я ответил, но куда дальше побежал тот человек, не мог показать: из сада этого не было видно.
День был роскошный, радостный – последние мгновения, которые я провел в этом саду, последние минуты той жизни, того далекого, невозвратного счастья, которое казалось тогда бесконечно скучным и так томило…
Во время оккупации из всей родни в городе оставалась только бабушка. Она не могла бросить дом и свое хозяйство, приглядывала еще и за домиком Эммы. По своей неистребимой потребности она приютила у себя нуждавшегося человека, который вскоре выгнал ее, присвоив себе и дом, и все имущество. Искать защиты было негде и не у кого.
После войны последние годы жизни бабушка бедствовала. Мы жили в другом городе. В последних письмах она писала: «…в жизни своей я много переплакала, но судьба уж верно моя такая, что мне до гробовой доски придется плакать, ну да что поделаешь – так, наверное, нужно…».
Дедушка, как только началась война, потребовал, чтобы ему дали магистральный паровоз. Ему было за семьдесят, и он уже давно не водил поезда. Было проведено медицинское освидетельствование, и оно показало, что дедушка по всем показателям здоров. Устроили проверку технических знаний, и опять дедушка поразил членов комиссии, без запинки ответив на все вопросы. Ему дали паровоз. Однако у него оставался все тот же недостаток: он засыпал, даже чуть ли не стоя. Потому вскоре его перевели на маневровый паровоз, потом сделали начальником угольных маршрутов. Он получал уголь в Кузбассе и Караганде, а в конце сорок третьего года работал уже ночным сторожем водокачки на станции Унеча. Однажды его нашли мертвым на далеком расстоянии от охраняемого объекта. Причина смерти не была установлена. Телесных повреждений не было, кроме небольшого синяка возле виска…
Бабушка лежит на том же Карабановском кладбище, где похоронен мой маленький братик, и тоже в безымянной могиле. Дом сгорел в последние дни оккупации при бомбежке. Сгорел сарай, исчез забор, от сада остались уродливые обрубки без ветвей и листьев. Думаю, сейчас уже нет и их. На месте старого доброго дома построен другой – небольшой двухэтажный, примитивной послевоенной архитектуры. Роскошный двор и все пространство сада вытоптаны, здесь уже ничего не растет.
Мне жаль старого дома. Долгими днями детства, когда я жил с ним, я не думал о нем. Только теперь пришло осознание того, почему там легко и хорошо было жить. Раньше в доме жили другие люди – те, кто построили его. Это была простая и добрая жизнь. Те люди, приносили сюда свои заботы, думы, страдания, здесь они работали, отдыхали и здесь любили. Они ушли не по своей воле, а дом хранил молчаливую память о них. Теплом, которое оставили они, доброй памятью этой он согревал и нас. И значит, вместе с ним сгорела память и о тех людях, и о нас тоже…
Нет и того домика, где жила Эмма. Из всех нас она одна остается жить в Могилеве. А мать, отец, тетя Варя, дядя Гена, дядя Коля? Их тоже давно нет. Они умерли каждый в свой срок и покоятся в разных местах, далеко друг от друга.
Иногда вспоминаю и ту желтоволосую девочку. Что сталось с ней? Осталась ли жива после войны? Как сложилась ее жизнь? И много ли получила она от нее, такая красивая и такая гордая?
А я? Я живу далеко, в доме, где много подъездов и много квартир. Тесный двор заставлен машинами, мусорными баками, загажен собаками, время от времени нападающими на людей: они считают, что территория принадлежит им. Солнце почти не заглядывает в наши окна: их загораживают такие же высокие дома, небо чаще всего почему-то покрыто тучами. Три наши комнаты составляют меньшую площадь, чем та одна, в которой мы жили тогда. В комнатах даже в солнечные дни – полумрак. На улице приходится быть настороже: могут встретиться грабители, наркоманы, сумасшедшие, всевозможные мошенники, «подростки», которым скучно и надо развлечься. Зато в доме есть удобства.
Проходят годы, забываются черные дни и черные дела. Белый снег успокаивает чувства. А те, кто идут по нашим следам, скажут: «Да не было этого ничего!». А может, и просто ничего не скажут – промолчат, отвернутся, обратятся к своим заботам. Да и в самом деле, кому нужны то дерево и та трава, которые росли где-то там шестьдесят, семьдесят лет назад? Разве тому только, кто тогда, давным-давно, полный наивных надежд и фантазий, лежал на этой траве под этим деревом и смотрел в небо… И часто приходит на память любимая дедушкина поговорка: кто старого не видал, тот и новому рад.
Голос издалека
Я еще не был школьник, но уже знал о пионерах и пионерских лагерях. Я бредил ими. Жить среди леса, на берегу реки, походы с горнистом и барабанщиком, палатки, костры – что могло быть интереснее, лучше? И было настоящим чудом, что мечта моя вдруг сбылась. После первого класса, не во сне, а наяву я оказался в настоящем пионерском лагере.
Начальником лагеря был человек немолодой и неприметный. В лагере его видели редко. Никакими запомнившимися действиями, личным участием в жизни лагеря он не заявил о себе. Запомнился только тем, что одет был в том стиле, которому следовало тогда большое начальство, руководители государства, вожди. На нем был полувоенный френч с отложным воротником, застегнутый на все пуговицы. Фуражка военного покроя с матерчатым козырьком подчеркивала сходство с человеком немаленьким, может быть, даже указывала на личную преданность.
Всеми делами в лагере руководил старший пионервожатый лет тридцати или побольше, высокий, коротко стриженный, черноволосый, несмотря на молодость не имевший, кажется, ни одного природного зуба. Улыбка его сияла сплошным золотом. Золото было, видимо, различной пробы, потому зубы имели разный оттенок. Был он энергичный, спортивный, голос имел командирский, громкий, лагерем руководил решительно и строго. Вид вместе с тем имел веселый, но улыбка не давала повода надеяться на снисхождение.
Жили мы в больших и добротных деревянных бараках, совсем еще новых, в комнате четверо или пятеро из одного отряда. Мы сразу подружились. У нас завелся обычай перед сном рассказывать сказки. Сначала рассказывали все по очереди. Но вскоре выявился лучший рассказчик – деревенский парнишка, настоящий мужичок, серьезный и самостоятельный, – веснушчатый, с выгоревшими на солнце до бела волосами, одетый в простые деревенские домашнего производства, одежды. Фантазия из него била ключом. После того как все остальные выговорились, он стал бессменным рассказчиком историй, в которых действовали волшебники, разбойники, в то же время танки, самолеты, конница, Красная Армия и все, что только могло родиться в его голове. Мы все уважали нашего товарища, признавали в нем личность.
День начинался с побудки, которую трубил горнист. Потом были утренний туалет, линейка. После завтрака поход из лагеря в интересные места с какими-нибудь занятиями, играми. Возвращались к обеду, после которого наступал мертвый час. Потом были полдник, снова занятия, развлечения, для чего имелись спортивные и прочие устройства и приспособления. Была и библиотека. После ужина горнист трубил отбой, и лагерь затихал до утра.
В центре лагеря стояла трибуна, перед которой на спланированной площадке выстраивались отряды на утреннюю и вечернюю поверки. На мачту перед трибуной поднимался флаг. На вечерней линейке с трибуны начальник лагеря и старший пионервожатый принимали рапорт дежурного. Отсюда зачитывались приказы, распоряжения, объявлялись благодарности и выговоры, сообщалось об исключении из лагеря провинившихся. Тут же объявлялось о назначениях для разных работ на следующий день. В одном из таких приказов был поименован и я. Мне было определено помогать на кухне, куда я и явился на другой день после полуденного отбоя.
Кухня находилась в отдельном бараке. Там стояли огромные котлы, в которых что-то варилось, было множество кастрюль, баков, всякой другой посуды и много женщин в белых поварских одеждах. Они были заняты каждая своим делом, на меня никто даже не посмотрел. Тогда я сам обратился к поварихе, которая была ближе других, объяснив, для чего я пришел. Не отрываясь от работы, чуть глянув на меня, женщина сказала:
– Какая уж от вас помощь, иди лучше погуляй.
Не заставив уговаривать себя, однако понимая, что полученное таким образом освобождение вовсе не оправдывало меня перед начальством, потому таясь, словно лазутчик, я выскользнул из лагеря и первый раз в жизни совсем один оказался в лесном царстве, радостно и любовно открывшем мне свои объятья.
Полный шумов и звуков лес был в игре солнечных и воздушных скольжений. Пробиваясь сквозь движущееся сплетение ветвей и листьев, на тропу с полудня падали жгучие лучи. Пронизывая игольчатые вершины сосен, теряясь и растворяясь среди тяжелых еловых лап, они наполняли лесное пространство сиянием благодатного лета, запахами разогретой ими растительности, самой земли.
На открытых местах ярко зеленели мягкие мхи, золотыми солнышками светились лютики, на высокой ножке колебались ромашки, в траве прятались нежные колокольчики, другие цветы, над которыми гудели пчелы, шмели, порхали нарядные бабочки, ползали жучки, божьи коровки. Вершинами деревьев, то ширясь, то затихая, тянулся протяжный шум. С разных сторон звенели птичьи голоса. В небе шли и таяли легкие облака. Вдали куковала кукушка.
Вересковые заросли шуршали под ногами. С вершины холма открывались синеющие дали. Снова и снова шел, затихая где-то, ласковый шепот.
Эти шум, вздохи, волнения кущей и трав, перебегающий ветерок, птичий пересвист, таинственные звуки в отдалениях дремотного бора, что значили они для души, впервые оказавшейся среди них, которые сами были словно живая душа природы? Никогда в том мире, откуда я пришел, где жил и куда должен был вернуться, не было так много радости и столько покоя… и таинственного многоголосья, и такой многозначащей тишины. И этот далекий, тоскующий среди роскошной природы зов. Их невозможно было понять, объяснить…. Хотелось, чтобы никогда не кончались и лето, и этот день… Но счастье – всегда только краткий миг. И если в жизни случались такие мгновения, то самые яркие из них и самые памятные, конечно, те, тогда, в тот далекий день…
Минуты шли, проходили, и нужно было возвращаться.
Выход из леса, конечно, должен был остаться незамеченным. Достигнув опушки, за которой начинался лагерь, затаившись, я стал ожидать, когда горнист протрубит подъем.
Между тем я был уже не один. Ко мне присоединились девочка постарше и мальчик, которые, как и я, гуляли в лесу и тоже выжидали момент, чтобы незаметно вернуться в лагерь.
Там, однако, происходило что-то непонятное. Трубы горниста не было слышно, подъема еще не было, однако по территории уже пробегали то один, то другой, то несколько человек, и, главное, со стороны барака, где жили девчонки, стал доноситься все громче какой-то странный шум. Подождав минуту-другую, увидев, что движение в лагере необъяснимо возрастает, мы перебежали к бараку, откуда слышался тот непонятый звук.
На пороге большой комнаты нам открылось невероятное. Девчонки, которые здесь жили, все сразу не просто плакали, но прямо-таки голосили, заламывая руки, чуть ли не рвали на себе волосы. Мы остолбенели, никто ничего не мог объяснить, и сразу из многих уст одно и то же:
– Если бы вы знали!.. Если бы ваш отец!.. Если бы у вас был брат!..
По лагерю неожиданно разнеслось: «Все на митинг!».
Сразу же со всех концов лагеря все его население бросилось к трибуне, на которой стояли начальник лагеря, старший пионервожатый, кто-то еще. После продолжительной паузы, за время которой собравшиеся поутихли, с трудом подбирая слова, начальник объявил:
– Сегодня, на рассвете, на нашу родину, на Советский Союз, напала Германия… началась война…
Столь ужасное известие это поразило каждого, несколько секунд все оцепенело молчали. Начальник добавил, что лагерь немедленно закрывается и все должны отправиться по домам.
Поднялась суматоха, началось настоящее светопреставление. Все бросились сдавать какое-то имущество, постельные принадлежности, получать вещи из камеры хранения. Я побежал сдавать библиотечную книгу, забрать свой чемодан. Все быстро покидали лагерь. Прошло каких-то час-полтора, и он опустел. Во всем лагере из обслуживающих работников осталось, может быть, два-три человека, которых даже не было видно, а из детей – двое: я и еще один мальчишка, мой земляк, с которым у меня почему-то не было никаких отношений, а была даже какая-то враждебность.
Роковые события не сблизили меня с моим антиподом. Он оставался где-то в другом месте, я его не видел. Было известно только, что за ним выезжает тетя, которая заберет и меня. Моя мать в это время была в доме отдыха.
Странно и жутковато было это – так внезапно остаться в полном одиночестве в большом, только что шумном, многонаселенном лагере. Потянулись томительные часы неизвестности, ожидания. Своего приятеля по несчастью я не видел. Из работников лагеря кто-то появлялся на минуту и снова исчезал. Со своим чемоданом я сидел на крыльце одного из бараков.
Длился, утекал, истаивал золотой этот день.
Суровые ели подходили к бараку и моему крыльцу. Окружавшие лагерь леса, отступая от него, простирались до горизонтов, и, по мере того как солнце продвигалось все дальше на запад, свет и тени изменяли картину природы. Она окрашивалась тонами безмятежной задумчивости, мирного покоя. Остывающее небо обретало все больше голубизны. Окрашенное вечерним золотом, оно дарило земле нежность, любовь, вспыхнув напоследок огненным закатом. Постепенно угас и он. Наступила ночь, тревожная и таинственная в своей тишине. Черное небо засверкало переливчатыми звездами. Шли, исчезая в вечности, долгие часы молчания, одиночества, мрака…
Долгожданная тетя приехала глубокой ночью. Сон разморил меня. Уже не помню, как мы покинули лагерь, как добрались до железной дороги, как сели в вагон.
Утром, сойдя с поезда, я увидел, как невероятно переменились наши станция и вокзал. Малолюдные или пустынные прежде, теперь они бурлили, переполненные взбудораженным народом. В ту самую минуту, когда я переступил порог своего дома и бабушка обернулась ко мне от плиты, по радио была объявлена воздушная тревога. От станции лихорадочно, жутко зазвучал сигнал, подаваемый сразу многими паровозами большого железнодорожного узла…
Прошли и канули в лету за годами годы, а в памяти остаются видение дня, самого чудесного, самого яркого из всех, какие были, и голос кукушки – одинокий, печальный, вещавший о том, что будет, что еще впереди. Кажется, он все еще доносится издалека…
Остановка в пути
На каникулах девочка была у бабушки, и, когда помогала на кухне, на нее опрокинулась кастрюля с кипятком. Ее обварило так, что вся передняя часть тела – грудь, живот, руки и ноги – покрылась ужасным струпом.
На девочке не было никакой одежды, даже самая легкая была ей непереносима. Она была укрыта простыней, из-под которой иногда показывалось, как в трещинах струпа сочится кроваво-слизистая влага.
Девочке было девять или десять лет. Мать и тетя переносили ее медицинскими носилками. Она лежала на спине, иногда произносила какое-то слово, страдающий голос был чуть слышен. Простыня оставляла открытыми личико, обрамлявшие его локоны золотых волос. На глазах время от времени выступали слезы. Склоняясь над нею, мать утирала их платочком.
С ними были другие две девочки и мальчик меньшего возраста, молчаливые и серьезные возле больной сестры. Носилки стояли у стенки вагона.
Ошеломленные, подавленные ужасными событиями, тем, что с ними происходило, люди молчали. В вагоне были только женщины и дети.
Мы выезжали в пригородную местность на три дня, на время предполагаемых бомбежек, как было объявлено властями. Было двадцать четвертое июня, шел третий день войны.
Жизнь переменилась мгновенно и катастрофически. Утром мать побежала на работу и уже через какой-нибудь час вернулась – также бегом, объявив с порога о нашем отъезде.
Сборы были недолгими. Вещей брать с собой не разрешалось: выезжали ведь на три дня. Взяли только в маленьком чемоданчике одеяльце, подушечку, кое-что из одежды – все для четырехлетнего братишки.
Дома оставалась только бабушка. Мужчины – отец, дедушка, дядя – находились при исполнении служебных обязанностей, не приходили на ночь, не показывались и днем.
Дом находился рядом с вокзальной площадью. Пустынная прежде, она превратилась в человеческий муравейник. Люди метались, спешили, сновали, натыкаясь друг на друга, не замечая ничего вокруг. Поезда отходили через каждые два часа – с теми, кто еще не знали, что они уже беженцы, а вскоре будут названы незнакомым до этого словом – эвакуированные.
В сопровождении бабушки мы прошли через площадь по перрону, забитому народом, вышли к поезду, забрались в один из вагонов, где еще можно было расположиться рядом с другими людьми.
На перроне царило смятение отъезда и расставанья. Он весь был заполнен волнующейся толпой. Происходили сцены, в которых изливалось неподдельное горе. Кто-то плакал, кто-то кого-то звал, торопясь говорили что-то важное, давали советы, напутствия. Все покрывалось разноголосицей общей неразберихи. А некоторые, кто уже находились в вагоне, и те, кто пришли проститься с ними, молчали, потому что все уже было сказано, и только смотрели друг другу в глаза, роняя слезу.
Бабушка оставалась в фартуке и платочке, как она была на кухне. Истекали последние минуты, когда мы были вместе. Вдруг вспомнили: не взяли хлеб, который остался дома. Без хлеба ехать было нельзя. Я бросился за ним сквозь толпу через перрон и привокзальную площадь.
Двор, крыльцо, кухня… За порогом открылась тишина покинутого дома… В окна било полуденное солнце. От плиты тянуло теплом, пахло обедом. Бабушкины ухваты и сковородники стояли на обычном месте, на столе – забытый хлеб… Минька подошел, сел против меня и долго смотрел мне в глаза. Бедный Минька – он все понимал…
В то время как я с буханкой в руках бежал назад, прямо над площадью, на небольшой высоте, разгорелся яростный бой двух десятков наших и немецких истребителей. В смертельном клубке самолеты гонялись друг за другом. Над площадью стояли рев моторов и треск пулеметов. В муравейнике никто не обращал на это внимания. Один я остановился, завороженный зрелищем воздушной схватки: пропустить такое было невозможно. Поезд, конечно, ушел бы без меня, если бы не бабушка, внезапно возникшая передо мной:
– Ты что, хочешь остаться?
Мы побежали, и только что с помощью бабушки и матери я забрался в наш пульман, состав тронулся. Вдоль вагонов пронеслось – будто задавленный стон. Толпа двинулась за поездом. Он шел медленно, давая возможность сказать последнее слово, бросить последний взгляд. Утирая слезу, бабушка смотрела скорбными, много повидавшими глазами. Она-то знала, что это не на три дня…
Поезд шел то убыстряясь, то замедляя ход, иногда почему-то останавливаясь, простаивая среди цветущей природы. День был роскошно великолепный. При остановках многие выбегали к березам, к кустам, которые росли возле дороги, ломали большие ветки, прикрепляли их потом к стенкам вагонов, поезд зазеленел от них.
Ехали долго. Пригородные места, где можно было переждать бомбежки, давно миновали, и тогда некоторые из женщин стали совещаться о том, куда мы едем, зачем, где будет остановка. Одна из совещавшихся – толстая, энергичная, с мясистым лицом и черными волосами, с голосом твердым, мужеподобным, с манерой говорить уверенно, веско – стала убеждать не бросаться так вот вдруг, безоглядно, сойти на ближайшей станции, разузнать все обстоятельства, после чего станет видно, как быть дальше. Она же и взялась сделать такую разведку. И мы сошли у разъезда Оселье, оказавшегося совершенной глухоманью.
Здесь сплошной стеной стояли леса. Они отступали только у самого разъезда, оставляя место обширной луговине, густо поросшей по всему пространству цветистыми травами. День заканчивался. Мирная тишина простиралась над краем.
Кроме путейского домика, была здесь еще пара каких-то строений, но никого из людей – кажется, один только начальник разъезда, человек немолодой, крупный, усталый, озабоченный военными обстоятельствами, своими обязанностями, переговорами по служебному телефону, сочувственно и доброжелательно настроенный к нам.
Всего в группе оказалось человек шесть женщин и сколько-то детей. Было решено воспользоваться предложением начальника расположиться в доме, просторном, побеленном изнутри и снаружи, состоявшем из нескольких довольно больших комнат. Только что здесь жили какие-то рабочие, но уже не было никаких признаков жилого помещения – ни мебели, ни какой-либо обстановки, ни стула, ни табуретки. Пол был устлан какими-то бумагами.
До заката оставался какой-нибудь час. Все бродили по комнатам, соображая, как расположиться на голом полу. Вещей не было ни у кого.
Внезапно над разъездом закружил самолет. Он пролетел так низко, что было видно и летчика в его кабине, и промелькнувшие черные с желтым кресты на крыльях, свастику на хвосте. В воздухе прозвучала раскатистая пулеметная очередь – одна, вторая. Сделав два или три круга, самолет улетел. Настроение беженцев упало: было рискованно оставаться вблизи железной дороги.
Узкой тропинкой среди пахучих трав уже при совсем низком солнце маленький отряд направился к лесу. Малышей несли на руках их матери. Другие дети шли вперемежку со взрослыми, ту девочку несли на носилках. Братишка мой топал впереди матери, я замыкал шествие.
Лес был темный, хмурый. Расположились под шатром преогромной, разлапистой ели на образовавшемся от ее корней и нападавшей хвои обширном бугре, вокруг которого было сыро и даже болотисто. Полчища комаров налетели на нас. Женщины, как могли, устроили детей, постаравшись защитить их от безжалостных кровопийцев, долго и потихоньку разговаривали – конечно, о войне, о диверсантах, обо всем, что произошло, вспоминали тех, кто остался, покинутый дом, что-то забытое в последнюю минуту. Иногда слышался голос той девочки, мать склонялась над ней.
Наступила ночь, черное молчание заполонило округу. В лесу и, кажется, во всем мире не было уже ни звука и ничего живого, только комары ныли и ныли. Не знаю, спал ли я вообще в эту ночь.
Утром все вернулись к разъезду. Предводительница была настроена по-боевому. Начальник остановил проходящий поезд, и она уехала, пообещав вернуться как можно скорее.
Ночевать в лесу больше не пришлось. Начальник показал баню, которая находилась в сотне шагов от разъезда, за деревьями, мы перебрались в нее.
Выстроенная в недавнее время, большая и ладная баня была еще совсем светлой древесины. Возле нее валялись груды щепы, два или три бревна. Последний раз ее топили, может, неделю назад, внутри было сухо и чисто. На полу, на лавках стояли деревянные шайки. Места было достаточно. Все разместились, кто как хотел. Я выбрал самую высокую полку – в парной, под потолком.
Самолеты больше не летали, а по железной дороге беспрерывно шли поезда: с беженцами и грузовые – на восток; на запад – воинские эшелоны. Но это было как будто далеко, а там, где были мы, весь долгий день сверкало солнце, летали бабочки, пчелы, ползали божьи коровки, стайками прыгали кузнечики. Ромашки, лютики, колокольчики шептались о счастье, которое будет здесь и завтра, и всегда. Скрываясь в траве, я подолгу смотрел в небо, слушая звуки природы, вплетавшиеся в ее тишину.
Да, это было счастье. Но ведь не одна только природа, не одно сегодня и сейчас составляют его. И то только, что в тебе самом, не может быть полным счастьем. А то, что было раньше, что прошло, чего, может, не будет уже никогда? Наш старый сад, двор и дом, все столь милые сердцу уголки? Бабушка и дедушка, любимая сестра, тети, дяди? Книжки, те, о которых известно все – каждое слово и каждая картинка, и другие – только что купленные, оставшиеся лежать непрочитанными на столе?
На лужайке мы сидели, собравшись в кружок, и старшая девочка читала вслух книжку. Оказалось, был еще один слушатель: к нам подползла на расстояние двух или трех шагов небольшая змейка, должно быть медянка. Она лежала на примятой траве, наверное, долго, приподняв голову и глядя на нас, будто ей были интересны мы и то, о чем говорилось в книжке. Как только кто-то из девчонок увидел ее, раздался пронзительный визг, вмиг все разбежались. Кажется, это было единственное достойное упоминания приключение, которое случилось в нашем детском сообществе.
В поисках пропитания женщины посещали ближайшую деревню. С той же целью мать и я побывали в домике лесника, стоявшем в лесу, километра за три от разъезда. Он был совершенно такой, какие я видел у себя в книжке «Русские народные сказки»: кухонька, русская печь, горница – все прибранное, опрятное, светлое. Стены штукатуреные и побеленные, светлые окошечки с горшочками герани и столетника. Иконы, подзоры, горка подушек на высокой кровати, покрытой рядном. Грустные ходики, лоскутные половички, от печи – запах простой крестьянской еды. И опять тишина – чуткая, вкрадчивая, приходившая из лесных дебрей.
Кроткая, худенькая старушка накормила нас полным обедом. Бесшумно двигаясь, переставляя посуду, подсаживалась к столу, тихим голосом говорила доброе и печальное. Больше в избушке не было никого.
То были дни первобытной свободы, детских фантазий, дни счастья под солнцем, под небом, среди цветущей природы. А в это время горели города и деревни, лилась человеческая кровь…
Перед закатом женщины собирались возле бани, рассаживались на крыльце, на бревнах, обсуждали наше положение, беспокоились долгим отсутствием разведчицы. Вспоминали прошлую жизнь, родных и знакомых, думали о мужьях, о мужчинах, которые бьются с врагом. Мальчишки бродили поблизости, выискивая что-то в траве и кустах, рассматривали это, показывали друг другу. Девочки держались возле матерей, слушая, о чем говорили они. Час наступал благостный, золотой. Та девочка тоже была здесь, на своих носилках.
Солнце клонилось ниже и ниже. Все кругом успокаивалось. Воздух делался столь чистым и таким прозрачным, что и самые далекие пространства рисовались четко и ясно. И вот уже лучи брызжут от закатного неба прямо в лицо, и цветет пронизанная ими лазурь.
Тайно я следил, как девочку выносили из бани и уносили обратно, как она проводила долгие часы на своих носилках, поставленных в светлой, движущейся тени подраставших берез. Мать и тетя не оставляли ее своей заботой, возле нее были сестрички и братик. Печальным колокольчиком звучал ее голосок. Но бывало, она оставалась одна. Странное желание тогда возникало во мне: подойти, сказать, сделать… но что? Нет, просто посмотреть в эти изболевшие, такие красивые глаза…
Ночью в бане стояли мрак и тишина. Мечты и фантазии уносили меня далеко. Я забывал о войне, о бабушке, которая осталась совсем одна, о доме. Я думал о девочке. Если бы она не была прикована к своим носилкам… Все могло быть иначе, по-другому… Здесь, под ласковым небом, мы бы читали интересные книжки, сплетали венки, и мы бы смеялись – просто так, потому что весело и все так хорошо. Потом мы бы лежали в траве и смотрели в небо: какое оно далекое, голубое, какие белые там облака, какие счастливые птицы. Мы бы весь день были вместе. Мы бы ушли далеко – на самый край поляны. Там мы построили бы домик из веток и трав. Мы спрятались бы в нем, нас бы искали, звали, а мы бы не отзывались, и нас никто бы не нашел. А когда пришла бы ночь, мы бы смотрели на звезды и рассказывали друг другу, как они красивы, какое черное таинственное небо раскинулось над землей. И мы бы навсегда остались в этом краю…
Через десять дней возвратилась отважная разведчица. Голова у нее была перебинтована, но она по-прежнему была в боевом духе. Все обступили ее и жадно ловили каждое слово. И она поведала неутешительные вести: немец прет, Минск взят, в Могилеве паника, город бомбят. Не сегодня-завтра они будут и здесь. О возвращении не может быть и речи.
Собираться всем нам была одна минута – посох да сума. Добрый начальник остановил для нас проходящий состав. Так как поезд, конечно, был переполнен, в один вагон все не могли поместиться, потому еще до его прихода рассредоточились вдоль путей. Поезд остановился только на одну минуту. Паровоз шел под парами, дрожал и сипел. Все оказались в разных вагонах. В один из них подали носилки, и поезд пошел…
Наши пути разошлись навсегда. Кто были они, те, с кем мы разделили незабываемые дни? Как провели военные годы? Все ли вернулись на родину? Остались ли живы? Только об одной нашей спутнице, а именно о предводительнице, был слух, что голова у нее была ранена не при бомбежке, а просто, пролезая под вагоном, она ударилась о буфер. Это была маленькая ложь, желание придать себе известный ореол. Но все равно это была женщина незаурядная, несомненно с героической жилкой. Конечно, она была и под бомбежкой, и не ее вина, что ранило ее не осколком. А кто из нас лишен человеческих слабостей, иногда и вполне невинных?
А девочка? Я убежден: тот, кому пришлось в этой жизни страдать, кто был надолго отторгнут от простых отношений, тот уже навсегда не такой, как другие. И не могу забыть полные слез глаза, их благодарность, когда однажды, таясь от всех, я положил ей на грудь самый красивый цветок, какой только мог найти на лугу…
Я знаю, почему это так. Нам хочется, чтобы и мы, когда нам будет плохо, были кому-то нужны…
Иногда детские фантазии возвращаются. Они увлекают в тот край и в те дни, и там мы одни – она и я. Мы собираем цветы, гоняемся за бабочками, смеемся просто так. И, когда устанем, садимся в траву и смотрим друг другу в глаза… В памяти она навсегда осталась той, которая была девочка и так страдала… Да, как это ни глупо, мне кажется… Нет, пусть это слово останется здесь…
Хроника минувших дней
Бегство от войны, долгое странствие наше протяженными путями России закончилось за Волгой, в Удмуртии, в краю, о котором до этих пор мы ничего не знали, которому и сами были неизвестны и вовсе не нужны. Продолжительность переезда означала не только километры дорог, но и время: мы ехали без малого месяц через грады и веси, с остановками и задержками, пропуская воинские эшелоны, порой оказываясь при таких скоплениях народов, какие оставили след лишь в библейских временах – может быть, с тем же отчаянием, засевшим в мозгу беженцев: достать съестное, не потерять детей и родных, выбраться к местам, где преследующая угроза утратит смертоносную реальность.
Оказавшись в городе, конечно, самом лучшем для тех, кто жил в нем, мы не обрели там того, что оставили дома. Крепкие, сильные люди его были суровы и немногословны. Мы говорили на том же языке, понимали друг друга, но все было не то, не такое.
Дома обывателей скрывались за высоким непроницаемым забором. Вдоль улиц вместо тополей и берез росли сосны. Солнце как будто так же светило с безоблачного неба, было жарко, но и в самой природе, с той ее особенностью, что зной и прохлада были постоянно близки, не было для нас дружеского привета.
Суров и немногословен был хозяин, в доме которого поселились мы вместе с нашими земляками. Собственную мать, незаметную, неслышную старушку, содержал он в строгости, в полном подчинении своей воле. Была она еще и слепая, но в доме выполняла всякую работу – мыла полы, стирала. Сам же был хмур, черен, бородат и, видимо, в крепкой силе. Ни жены, ни детей не было. Каков был род его занятий, мы не знали.
Просторный дом в несколько комнат с высокими потолками, нештукатуреный по бревенчатым свежеструганным стенам, еще достраивался. Отведенная нам комната, где не было никакой мебели, до самого потолка была оклеена то ли афишами, то ли плакатами. Спали мы на голом полу.
Двор, огороженный крепким забором, был тщательно прибран, подметен. Конечно же, были сарай, огород.
С семьей Романовых мы держались вместе с самого отъезда. Их было пятеро: мать, Надежда Николаевна, бабушка, трое детей, старший из которых, Олег, был моим сверстником. Надежда Николаевна, ветеринарный врач, дружная с нами, приятная и внешне, и в общении, выглядела скромно, по-современному в одежде и прическе.
Утром и мать, и Надежда Николаевна уходили искать работу. Мы с Игорем и дети Романовы проводили время на улице. Широкая, поросшая травой, она была пустынна, движения по ней не было никакого. Мальчишки и девчонки, которые жили здесь, заняты были своими играми, к нам отнеслись безразлично.
Питались мы в столовой, недалеко от вокзала. Там при большом наплыве народа были шум, гам, толчея, торопливое возбуждение: все куда-то спешили, опаздывали. За каждым, кто уже сидел за столом, стоял следующий, дожидаясь своей очереди.
Наваристый гороховый суп, которым кормили, был необыкновенно вкусным. Других блюд, кажется, не было. Игорь, которому только что исполнилось четыре года, возымел вдруг невероятный аппетит и никак не мог наесться. Заканчивая свою порцию, он заглядывал в наши тарелки, жалобно выпрашивая добавки. Мы оставляли ему от своего, и он съедал все подчистую.
В те дни между прочими событиями мы посмотрели спектакль «Бедность не порок». Помещение было, видимо, клубное, спектакль дневной, наверное для детей, но это был настоящий театр, от которого осталось странное, чуждое тем дням воспоминание. Запомнились содержание пьесы, имена действующих лиц – Гордей и Любим Торцовы. Запомнилась и песня, которую пел один из персонажей:
- Одна гора высока,
- А другая низка.
- Одна милка далека,
- А другая близко.
Надежда Николаевна вскоре нашла работу по своей специальности. Они готовились перебраться на казенную квартиру.
В такой же день, утром, к дому подкатил тарантас, которым правила наша мать; мы уезжали в деревню, где она получила работу, где нам предстояло и жить.
Тарантас был искусно сплетенной из ивовых прутьев корзиной с сиденьями внутри нее для ездоков и для кучера на облучке. Вещей с нами, кроме маленького чемоданчика, не было никаких. Мать с Игорем устроились внутри корзины, я взобрался на козлы, взял вожжи, и мы поехали.
Для меня это был опыт, о каком я не мог даже мечтать, хотя сидение мое на облучке и вожжи в руках имели чисто декоративное свойство. Стройная вороная лошадка, которую звали Дочка, прекрасно знала дорогу и не нуждалась ни в каком руководстве. Она была умница, но с характером, который вскоре и показала.
Было еще только утро: на небе ни облачка, солнце, поднимаясь, припекало. Выехав из города, тарантас покатил полями, потом через лес, потом опять полем.
В лесу с обеих сторон дороги стояли ели и пихты, мрачные и суровые. В тени их дремали прохлада и сумрак, оттуда веяли запахи незнакомого края. Снова нахлынуло чувство чужбины, больнее и глубже задевшее очарованием чуждой природы.
В поле дорога пошла среди высокой ржи. Небо у горизонта опускалось к неподвижным лесам. Там, вдалеке, оно сияло и нежилось, покрываясь тончайшим золотом. Солнце обнимало землю от края до края. Вокруг простирались глушь, тишина. Нигде не было ни души.
Никто нам не встретился, и никто нас не обогнал. Дочка трусила легонько, под колесами тарантаса шуршали травы, среди посевов мелькали ромашки, васильки. Нам открывалось незнакомое и чудесное, и все острее думалось о покинутом доме.
Ехали долго. Дорога подошла к оврагу, на дне которого вдоль колеи лежало толстое бревно. Внезапно Дочка, шедшая до этого легкой рысью, рванула так, что я едва удержался на козлах. Видимо, решив наказать нахального мальчишку, осмелившегося управлять ею, левыми колесами она повела тарантас прямо на бревно. Тарантас накренился настолько, что, казалось, сейчас опрокинется. Испугавшись, я выкатился на дорогу.
В одно мгновение тарантас взлетел на другую сторону оврага и сейчас же скрылся за стенами высокой ржи. Обернувшись, мать едва успела что-то крикнуть, чего я не разобрал, и от страха, что остался один в неведомом краю, громко заголосил.
Кричать было бесполезно, да и не нужно. Весь в слезах, выбравшись из оврага, я увидел перед собой деревню. На пологой местности находились вразброс какие-то строения, там же был домик, у крыльца которого с навесом спокойно стояли Дочка и тарантас. Когда я подошел, из домика вышли мужчина и женщина, а с ними мать с Игорем.
Деревню составляли две слободы – верхняя и нижняя. Верхняя забиралась на гору, значительно возвышаясь над прудом и речушкой, протекавшей через него. Нижняя выстроилась на равнинной стороне, за речкой. Вокруг простирались поля и леса.
Всего в деревне было двадцать восемь дворов. Она была русская, однако, как и все в округе русские деревни, имела удмуртское название – Кочекшур.
Мы поселились в верхней слободе, в самом ее конце, у околицы, на самом высоком месте, в избе аккуратной, чистой, имевшей традиционные горницу с кухней, русскую печь, полати, на которых мы потом спали.
Крестьянские подворья в деревне строились так, что они образовывали наглухо замкнутый порядок необходимых в хозяйстве строений. С улицы недоступный для постороннего мир замыкали высокие и широкие ворота. Рядом с воротами была и калитка, тоже глухая и прочная. Другие ворота с противоположной от улицы стороны открывались на приусадебные угодья. Подворье наших хозяев еще не имело такой завершенности. Не было забора, ворот, открытый двор зарастал спорышом, безлепестковой ромашкой, был огорожен только пряслами, вдоль которых густо и высоко поднималась лебеда.
Хозяином нашим оказался старик лет шестидесяти, лохматый, с рыжей, кудлатой бородой, ерник, матерщинник, с бегущей, мелкими шажками походкой. Хозяйка – может, чуть моложе, с пучком седых волос, плотная, в крепком теле, основательная, несуетная, постоянно и пристально занятая своим хозяйством. Ершистый старик внешне и характером сильно напоминал деда Каширина, каким он показан в известном кинофильме, с той разницей, что здесь он беспрекословно повиновался властной супружнице. Работал конюхом. Прибегая к обеду своими шажками, с порога начинал лепить: «Тит твою мать, тит твою мать», рассыпая одновременно позади себя: тр-тр-тр… Старуха строго останавливала его: «Стювайся!». И он подчинялся.
В день нашего приезда у хозяев гостил внук Юра, прибывший к ним из города, года на четыре старше меня – серьезный, рассудительный, умелый. Прежде чем что-нибудь сделать, соображал, прикидывал, не торопясь, не спеша. Он тут же предложил мне пойти ловить рыбу, отыскал в лабазе подходящее удилище, достал конский волос, сплел леску, взял грузило, крючок, поплавок, все это приладил как надо. Для себя удочка у него уже была, и мы пошли сначала вниз по деревне, потом крутым спуском влево, к пруду, на плотину.
Там уже сидели двое или трое таких же мальчишек. Все они знали Юру: здесь он был свой. Поздоровавшись с теми, кто оказался ближе, он выбрал место, распустил леску, насадил червяка, которых предварительно накопал на плотине сначала для моей удочки, потом для своей, закинул их, укрепил на берегу, рассказал, как рыба клюет, в какой момент нужно тащить.
Был еще только полдень. Солнце палило, а ожидаемой поклевки не было. Наконец Юра поймал рыбешку величиной с ладонь. У меня же за все это время так и не клюнуло. Дольше сидеть было бесполезно. Свернув удочки, мы вернулись домой.
Хозяйка зажарила пойманную рыбку и отдала нам с Игорем. Еще она дала нам по клинышку шаньги.
Юра позвал меня в лес, и мы пошли на лесную порубку через ржаное поле, которое начиналось сразу за околицей.
За нами увязался Колька, который давно вертелся здесь: его разбирало любопытство о появившихся чужаках. Он тоже был старше года на четыре и тут же стал учить меня специфическому лексикону, в чем я был полный профан. Он предлагал мне какое-нибудь выраженьице, и я, не понимая смысла, повторял его, как попугай. Это здорово веселило Кольку, он хватался за животики от смеха. Я оказался способным учеником, он сразу же обучил меня всему, что знал сам, и от того, как это у меня получалось, со смехом катался по земле.
Не участвуя в этом спектакле и не обращая внимания на Кольку, серьезным видом Юра показывал, что не одобряет его. Колькино общество с самого начала было неприятно и неугодно ему. Он рассчитывал провести время со мной, рассказывал, где нужно искать землянику и малину, объяснял, как делать серу, то есть жвачку, из еловой смолы – как выбрать смолу, как варить ее, довести до кипения, потом процедить через марлю или сито.
Когда мы вернулись, Колька тут же рассказал моей матери, как я обучался у него нехорошим словам. К большому удовольствию Кольки я получил от матери выговор. Но дело было сделано. С тех пор я не забыл преподанного Колькой урока. Позже с помощью моих деревенских наставников выучил еще и несколько выражений по-удмуртски и по-татарски – тоже, конечно, неприличных.
Времени было за полдень, но все еще жарко, когда из города прибыл младший сын хозяев Василий – Васька, в местном произношении Васькя, – спокойный, добродушный малый, большой и сильный, и тоже оказал мне свое расположение. Для меня он был «дяденька», хотя лет ему было всего восемнадцать. Он позвал меня проверить морды.