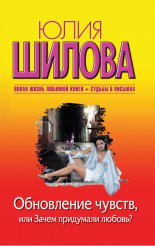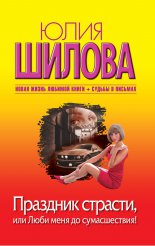Хроники минувших дней. Рассказы и пьеса Ковалев Леонгард

Первая память
Галка была мой первый друг. Мы жили в слободе и целые дни проводили вместе на улице, на лугу. Слобода была застроена по одной стороне. От нее начинался луг – через дорогу, с невысокого и пологого спуска. Луг весь был покрыт цветистыми травами. Посреди него протекала речушка шириной в пять шагов. По другую сторону речки, в некотором отдалении, на крутой горе, стояла деревня – крытые соломой белые хатки. На спуске от слободы в долину росли кусты краснотала. Осенью, когда облетали листья и наступали холода, становилась особенно заметной красота гибких ветвей, глянцево-блестящих, цветом от красно-бурого до темно-зеленого. Зимой с этого спуска мы катались на санках, а кто постарше – на лыжах.
В марте, при оттепели, мать ходила со мной на вал, откуда горожане наблюдали кулачные бои, проходившие на заснеженном лугу.
Деревня шла против города и побеждала, так как собирала больше бойцов. После сражения на снегу оставались лежать тела поверженных ратоборцев, силившихся подняться, а иногда не подававших признаков жизни.
В городе не было машин, и только изредка можно было встретить коляску извозчика. По слободе проезжал лишь водовоз. Солнечным утром с улицы доносился его зазывный крик «Кому воды!», и, когда он вынимал из бочки деревянную пробку, в подставленное ведро ударяла, сверкая и брызгая, хрустальная струя.
Тишину безмятежных дней беспокоила Пискуниха. Возвращаясь на костылях после очередных свадьбы или поминок, которые она никогда не пропускала, затягивала она свое неизменное: «Сирота я, сирота…», послушать которое, конечно, стоило.
Останавливаясь посреди улицы, она поправляла на голове платок, обтирала ладонью рот, после этого звучали дерганые всхлипы, потом судорожные «тю-тю-тю…» при попытке набрать побольше воздуха, и уж затем резкое, визгливое, на всю округу: «…никто замуж не берет девушку за это…». «Девушке» было за шестьдесят…
Родители мои дружили с доктором Щуко, с Людмилой Ивановной, его женой. Иногда мы посещали этот дом; мать брала меня с собой, и всегда это было особенное событие, желанное, как праздник.
В образе Людмилы Ивановны, милой женщины с певучим, ласковым голосом, я узнал ту женственность, возле которой невозможны грубость и пошлость. Людмила Ивановна угощала меня пирожными и конфетами и однажды подарила «Русские народные сказки» – большую и толстую книгу с великолепными картинками.
У Людмилы Ивановны я нашел навсегда поразившую воображение обстановку, праздничную, волшебную, невозможную в обыкновенной жизни, и, пока мать и Людмила Ивановна обсуждали свои дела, я погружался в переживание о чудесном этого дома, о тайнах, которые, конечно, скрывались где-то здесь.
Прекрасные картины в дорогих рамах; часы музейного вида, будто из золота, отзванивавшие время мелодическим колокольчиком; кабинетный стол с оскаленными львиными мордами на верхних выдвижных ящиках; настольная лампа, бюст какого-нибудь римлянина или грека, письменный прибор, иллюстрированный перекидной календарь; в шкафу множество книг; кожаные диван и кресла; драпировки, обои – все обладало очарованием достатка, довольства, вкуса, долгих прожитых здесь лет уюта и тишины. И тех самых тайн, жгучее присутствие которых ощущалось за каждым раритетом.
В простенках висели фотографии тоже каких-то особенных мужчин и женщин, непохожих на тех, которых приходилось видеть на улице. Были еще: на отдельной подставке граммофон с блестящим раструбом, пианино и подобные деревьям комнатные растения. И среди этих чудес опять-таки какой-то необычной породы, пушистый, черный, с белыми грудкой и лапками кот – важный, внушительный, сытый, с зелеными глазами, презрительно-равнодушный к гостям, конечно же, причастный, может быть, даже хранивший те тайны.
За окнами, под набегавшим ветром, гнулись и волновались деревья, а в комнату в задумчивой тишине из сада скользили бесшумные отсветы, соединяясь в гармонии с ласковой улыбкой красивой женщины, чьи нежность и доброта жили и сохранялись здесь подобно бесценным сокровищам мира.
«Русские народные сказки» были первой моей настоящей книжкой, по которой я потом выучился читать. Перечитав и пересмотрев ее картинки множество раз, я знал всю ее едва ли не наизусть. Догадывалась ли Людмила Ивановна, какое это было счастье? Догадывалась ли, что я был влюблен в нее, такую красивую, ласковую, тонко благоухавшую своей парфюмерией, заглядывавшую ясными, как небо, глазами, гладившую мне волосы рукой, легкой, словно ангельское крыло? Она сама была частью и лучшим украшением этого дома. Его обстановка, как я понял потом, была далеко не новой, не такой уж роскошной: позолота – стершейся, потускневшей, мебель – состарившейся. Может быть, одна из причин очарования в том и состояла, что она была старой, обжитой, хранившей следы прошедших времен, и, возможно, тогда во мне зародилось желание, чтобы подобная красота была и в моей жизни. И те представления о женщине и женской красоте, которые составились во мне, они образовались не без влияния Людмилы Ивановны – прекрасной женщины с трагической судьбой.
Замечательная эта красота продолжалась и во дворе, и в саду. Они представляли собой маленький рай с беседкой, увитой диким виноградом, с дорожками, посыпанными ярко-желтым песком. От цветка к цветку перепархивал ветерок. Конечно, не помню, да и просто не знаю, что это были за цветы – алые, темно-бордовые, лазоревые, золотистые. Все вместе они производили такое впечатление, что от них невозможно было отвести глаз, хотелось снова и снова возвращаться к ним, смотреть и смотреть на них без конца. Под солнцем, под сияющим небом они околдовывали, как дивная музыка, вызывали изумление, восторг, чувство, оставшееся в душе, как воспоминание обетованной земли. Детей у Людмилы Ивановны не было, может быть, еще и поэтому она была так добра ко мне.
Доктора я видел чаще всего только мельком, в амбулатории, когда бывал там с матерью, иногда дома, в саду, где он увлеченно работал – лопатой, пилой, граблями, – засучив рукава выше локтя, в жилетке и фартуке, в перчатках. Широкоплечий, плотный, с проседью, с аккуратно подстриженными усами и бородкой, добрый, несмотря на строгий голос. Он брал меня за подбородок, заглядывал в глаза, оттягивал веки, внимательно осматривал, трепал легонько по щеке, уверенно говорил матери: «Нормальный ребенок».
Доктора арестовали, видимо, в тридцать седьмом году. Непрактичная, неприспособленная жить в жестоком мире Людмила Ивановна вскоре после этого умерла. Но это было уже потом…
Мой отец был путейским инженером. Рано утром он выезжал на линию, возвращался поздно, часто не ночевал дома.
Утром мать кормила меня, убиралась на кухне и в комнате, после чего надолго уходила в город, на рынок.
Оставаясь взаперти в пустой квартире, я брал свои любимые «Русские народные сказки», забирался с ними в кухне на стол, усаживался на нем прямо с ногами, потому что боялся крыс, которыми пугали меня, и принимался за чтение. Солнце в это время заливало кухню горячими лучами.
Чтением это можно было назвать только условно. Просто все сказки я знал уже на память, но каждый раз проговаривал громко, на всю квартиру, весь текст, водя пальцем по каждой строке, и без конца рассматривал картинки, подолгу вникая в них, представляя в своем воображении волшебный мир, который они открывали мне.
Но ведь и самая интересная сказка не может заменить собой многообразие жизни, всего, чем она заманивает к себе. Тишина, одиночество навевали тоску. Большая синяя муха ползала по стеклу, жужжала и билась об него. В окно гляделись пустой двор и скучный сарай. Ничто там не оживляло души.
Можно было перейти в комнату и оттуда смотреть на улицу, где играли дети, на долину и на деревню. Но в комнате было сумрачно, скучно, не было солнца, а главное, не было стола, на котором можно было спасаться от крыс. Стол стоял посреди комнаты, далеко от окна.
Но вот из-за двери, перекрывавшей проход на другую половину дома, слышался голос. Это хозяйские сыновья, Мишка и Колька, большие мальчишки и отчаянные озорники. Отца у них не было, а мать не могла с ними сладить. Часто они доводили ее до того, что она гонялась за ними вокруг дома ни много ни мало с топором в руках. Нервная, несчастная, замученная женщина, бегая за своими неуправляемыми чадами с ругательствами, с растрепанными волосами и с этим топором, была похожа на Бабу-Ягу. Для сынков же все это было очередным развлечением.
Дверь, отделявшая нашу половину от хозяйской, была закрыта на ключ, однако имелось отверстие, через которое братишки подзывали меня к себе.
– Сахару хочешь? – спрашивали они.
Да, сахару я хотел.
– На, – просовывали они через дыру кусочек, предварительно пописав на него.
У меня все же хватало ума отказаться от такого угощения, после чего братья теряли ко мне интерес и быстро исчезали. Я опять забирался на стол, и чтение продолжалось.
Наконец перед моим окном появлялась Галка, которую я уже давно и с нетерпением ждал. У нее пухлые, румяные щеки, черные глаза, черные волосы, челка. В руке большой ломоть белого хлеба, намазанный медом. Она с аппетитом, старательно откусывает от него, набивая полный рот, так что ей тяжело дышать и трудно говорить. Она зовет меня гулять, но как я могу выйти, если дверь заперта? Чтобы вызволить меня из заточения, она находит тут же большой ржавый гвоздь, положив свой хлеб на крыльцо, долго и упорно ковыряется им в замочной скважине. За этим занятием ее застает мать, вернувшаяся с базара. Галка просит отпустить меня гулять.
У братьев-разбойников был трюк получше того, который они пытались проделать с сахаром. Когда мы с Галкой выходим на улицу, они делают мне новое предложение:
– Закрой глаза, открой рот.
Я выполняю такую просьбу. Почему не уважить, если просят о таком пустяке? И тотчас во рту у меня оказывается яблоко конского навоза. От смеха братишки хватаются за животики, но, увидев, что у меня выступили слезы, успокаивают примирительно, дружелюбно:
– Ладно, не реви, – и дают печенье.
Доедая свой хлеб, пыхтя от этого трудного дела, Галка выказывает мне немногословное, но искреннее сочувствие.
С базара мать приносила что-нибудь интересное: огромную шляпу подсолнуха с крупными семечками, длинную конфету, раскрашенную в синий, красный, желтый цвета; пропеллер на палочке, который на ветру вертится и весело жужжит. Часто покупала какую-нибудь книжечку: «Три поросенка» или про кота и грачей. Кот, разумеется, был разбойник, потому что хотел разграбить грачиное гнездо и съесть птенцов, но мое сочувствие было на его стороне. Мне жалко было котика, которого клевала целая стая черных грачей, и он падал с дерева на землю.
Однажды мать купила мне детские лопатку и ведерко. Кроме деревянной ручки лопатки, они были красиво покрашены в черный цвет. Ведерко украшали еще и нарисованные на нем цветочки. Новенькие лопатка и ведерко имели очень привлекательный вид. Я вышел на улицу со своими игрушками, обдумывая, как их употребить. В это время большой мальчик вел по улице девочку лет трех-четырех. Мальчик держал девочку за руку, а она вырывалась, кричала, плакала, была вся в слезах. Мальчик не мог сладить с ней. Она упиралась, не хотела идти. Вдруг она увидела мои ведерко и лопатку. Истерика на минуту прекратилась, но тут же возобновилась, с еще большим криком: девочка требовала себе ведерко и лопатку. Никакие увещевания не действовали. Она отказывалась идти. Тогда мальчик попросил мои ведерко и лопатку, и я отдал их. Девочка тут же успокоилась, они ушли, а мать поругала меня за то, что я так глуп.
Время это было интересное. Замечательно прекрасна была природа. С первой зеленью начинали летать во множестве майские жуки. Были у меня еще огромный жук-олень и жук-носорог. Тополя усыпали дорогу сережками, похожими на красивых мохнатых гусениц. Только что раскрывшиеся их листочки были липкими, имели ярко-зеленый цвет и острый запах, щекочущий ноздри.
На Пасху на лугу дети играли крашеными яйцами.
Женщина, которая каждое утро приносила нам из деревни свежее молоко, позвала меня к себе. Мы прошли через луг, прошли по мостику через речку, извилистой тропинкой поднялись на гору. В деревне, на улице и возле дома все было устлано золотистой соломой, бродили куры и очень строгий ярко-пестрый петух. Добрая женщина угостила меня куличом, дала два красивых яичка. Было солнечно, тепло, особенно живописно золотилась разбросанная по земле солома. Но, когда меня повели домой, на горе я споткнулся, упал, яички, которыми хотелось еще поиграть, разбились, конечно, от этого были слезы.
Было много интересного и всякого. Однажды я наелся белены. Я уже терял сознание, пускал пену, но меня как-то откачали. Мать спасла меня, как спасала она не один раз и потом. Мы ходили с нею в кино. В кинотеатре было приятно возбуждающее скопление народа. Там я узнал Чарли Чаплина и там же в кинохронике видел, как нескончаемая вереница людей – старики, дети – с велосипедами и тележками, с каким-то своим скарбом, торопясь, порой бегом, покидали Мадрид, который бомбили фашистские самолеты. Позже, уже во время другой войны, подобные картины пришлось увидеть и здесь, в России.
Галка была настоящий друг. Мы рвали цветы, гонялись за бабочками, собирали на берегу камешки, кидали их в воду, наблюдая, как они булькают и от них расходятся круги. Мы показывали друг другу то, что есть у мальчиков и чего нет у девочек и что есть у девочек, а нет у мальчиков, потому что интересно. А когда нужно было сделать необходимое отправление, мы делали это обязательно вместе, рядом. По берегам росли ивовые кусты. На некоторых листочках были такие, как мы их звали, бубочки, подобные ягодкам с румяным бочком. Взрослые говорили, что их нельзя есть, потому что там живет червяк, но мы все равно ели, потому что вкусно…
Давно нет Людмилы Ивановны, доктора. Многих не стало. Миновали за годами годы. Но помню детское счастье, с которым я приходил в этот дом. Я постоянно думал о том, когда мы снова придем сюда, и чувства нетерпеливого ожидания, с которым я жил и которое может быть сравнимо только с ожиданием любовной встречи, – подобного ему я больше никогда не пережил. На всем пространстве своего прошлого я не нахожу другой такой Людмилы Ивановны, ласковой, доброй, красивой, такого чудесного дома, его обстановки, уюта. И ту колдовскую зачарованность цветочным раем под небом и солнцем, тоже совсем другими – ее я потом уже нигде не нашел…
Вот мы подходим к нему, уже издалека среди волнующихся тополей видна зеленая крыша, душу затопляет чувство…
Нет слов, которые раскрыли бы то состояние. Оно навсегда осталось там… В жизни было совсем немного мест, куда хотелось приходить снова и снова…
А Галка? Нам было хорошо вместе, вдвоем… Где теперь она – подруга тех дней? Что с нею сталось? Жива ли? И что было бы, если бы мы встретились сейчас, когда прошло столько лет?..
Ледя
Ледя был странный мальчик: делая что-нибудь руками в наших играх, казалось, он в это время думал о чем-то другом. Нам было шесть лет, долгие дни мы проводили вместе.
Улица наша заканчивалась через два дома. В неглубоком овражке, где из родника вытекал ручеек, мы уединялись, придумывая себе какие-то занятия.
По склону оврага росли березы, ивы. Дно его устилали мягкие травы, было много цветов, порхали бабочки, летали пчелы.
Опуская в ручей щепочку, Ледя долго смотрел потом, как она уплывает все дальше и дальше, цепляясь то за один берег, то за другой, удаляясь, наконец, настолько, что ее становилось невидно. Он подолгу наблюдал ползавших и скакавших в траве насекомых, следил проходившие над нами облака. Он был моим кумиром, я подражал ему, делая все то, что хотелось делать ему. Желания же его были очень просты, он никогда ни на чем не настаивал, ничего не требовал.
Пани Ковалик зарабатывала на жизнь шитьем. Она снимала комнату с кухонькой. У нее был еще и больший мальчик, Броня, пропадавший на улице в играх с ребятами того же возраста. Наша мать иногда шила что-то у нее. Откуда она пришла и куда потом подевалась? Это осталось неизвестно.
При нашем появлении у пани Ковалик происходил приступ гостеприимства. Вскакивая от машинки, она бросалась освобождать стул, угол стола, заваленного кусками материи, портновскими принадлежностями. Бледная и худая, у которой и при оживлении не исчезала печать каждодневных забот и пережитых страданий, проявлявшая бестолковую суетливость, как люди, которых жизнь бьет постоянно и жестоко, она притягивала непритворной добротой, хрупкостью слабой и чистой души, печальной красотой лица и глаз. Много лет спустя я понял, что отец Леди был осужден как враг народа.
Мне нравилось бывать в хаотическом беспорядке тесной комнатки, нравились игрушки Леди, книжки и он сам – тихий, серьезный мальчик с большими глазами на бледном лице. Мать оставляла меня поиграть с Ледей. Пани Ковалик говорила что-то восторженно и торопливо, но всегда с грустью в голосе и во взгляде. К матери обращалась по фамилии, непременно присовокупляя слово «пани», мне гладила голову легкой рукой.
После ухода матери пани Ковалик тотчас углублялась в свое шитье до такой степени, что, кажется, от этого зависело не просто благополучие семьи, но и сама их жизнь. Уже не замечая ничего вокруг, строча на машинке или работая иглой, часто пела она одно и то же по-польски. Запомнившийся мотив позволил впоследствии узнать слова и думу, день и ночь, роившиеся в душе бедной женщины: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?..».
Я любил этого мальчика, тонкую его красоту, голубые, никогда не улыбавшиеся глаза. Он постоянно, но лишь обиняком показывал, что ему хочется быть со мной, спрашивал, будто думая о чем-то другом, когда я приду еще. В памяти наши нешумные игры у ручья остаются как светлый, никогда не повторившийся сон.
Особенный оттенок в эту дружбу вносили принадлежавшие ему книжки, которые он охотно и щедро давал мне, сам никогда не требовал, чтобы я вернул их. Книги эти были замечательны их содержанием, картинками, внешним видом и оформлением. В них было что-то общее с ним – Маленький Мук, Дюймовочка, Гадкий Утенок…
Он был одержим идеей, что каждому живому существу, каждой бабочке или божьей коровке может быть больно, потому обращаться с ними надо бережно и лучше не трогать руками. И он мог подолгу наблюдать их, не прикасаясь к ним…
Однажды он спросил, есть ли у меня папа, долго молчал после этого, будто думая что-то, потом сказал:
– Мой папа уехал, но он скоро вернется.
Последний раз я видел Ледю в постели безнадежно больным. Ослабевший, беспомощный, он полусидел, прислонившись спиной к подушке. Перед ним лежала книжка, в которую он не глядел. Из рубашечки выглядывало прозрачное тельце, пронзительно тонкие руки. Под кожей сквозили голубые жилки. Он был строг, молчалив.
– Хочешь, я дам тебе эту книгу? – сказал он вдруг про ту, которая лежала перед ним.
В комнате стоял запах лекарств. Отворачиваясь, пряча лицо, пани Ковалик плакала…
Он умер в разгар листопада…
В белом гробике, поставленном на двух табуретках, лежал странный мальчик – в черном костюмчике, в кипенно-белой рубашечке, с черной бабочкой, со сложенными на груди красивыми маленькими руками. Белое, без единой кровинки лицо было безмятежно спокойно. Красиво причесанные волосы обрамляли гладкий, выпуклый лоб. Он крепко спал. То, как он был одет, и белые кружева смертного ложа напоминали сказки, которые он давал мне читать.
В комнате были опущены шторы, завешены зеркала. В головах покойного горели свечи, между ними стояло небольшое бронзовое распятие. Цветы, их траурный запах усиливали чувство, что это все и уже навсегда. Стоя у гроба в черной кружевной накидке, пани Ковалик срывалась в рыдание. Непохожий на брата Броня, рыжеватый, коротко стриженный, с чем-то, однако, общим в светлых глазах, оцепенело молчал…
Стояла осень. Над березами и тополями цвело счастливое небо. Вечером оно пылало закатом. Ночью в постели я думал о бедном моем товарище и плакал…
Первое горе
Утром в кухне бабушка гремит посудой, у нее много дел. Другие взрослые на работе. Братишка возится со своими игрушками. Костя стоит у стола, глотает слезы, перебирая теперь уже ненужные тетради, учебники, палочки для счета, карандаши.
На улице октябрь. Небо обложили темные тучи, в окна стучится дождь. Ветер срывает с деревьев желтые листья, гонит их по дороге, швыряет в лужи, в грязь. Редкие прохожие, пытаясь укрыться под зонтом, спешат по своим делам.
Еще недавно с таким волнением Костя готовился к этому великому дню – первого сентября. Разглядывал любовно купленные ему учебники, пенал, ручку, перья, как будто золотые – называются номер восемьдесят шесть. И какой это был день! Толпы нарядных детей, цветы, родители, учителя. И так много солнца!
Теперь на улице дождь, все дети в школе, и один только он дома…
Учительница пишет на доске прописи, цифры, учит читать по слогам. Люда внимательно слушает, старательно делает все, что велит учительница. Она пишет чисто, аккуратно и очень красиво. Она хорошо читает. А главное – она сама очень красивая. У нее белое лицо, золотистые волосы заплетены в косички с бантами, платьице, туфельки. А еще у нее голубые глаза, нежный румянец и очень красивый рот. Когда она смеется, становится видно, какие у нее ровные, белые-белые зубы. И у нее красивая фамилия – немецкая, потому что она немка. Но она русская немка и ничем не отличается от других учеников.
Да, он баловался, постоянно что-нибудь придумывал, а все для того, чтобы понравилось ей. И когда она смеялась его дурачествам, ему это было очень приятно. Она веселая хохотушка. Накалывая на перо своей ручки промокашку, он говорил: «Это король». И устраивал целое представление – наверное, интересное, потому что она безудержно хохотала. Все было так замечательно!
Но тут возникала учительница – сердитая старуха в очках. Что она могла понимать?! Зато ругала его, заставляла сидеть тихо, слушать урок. Но ведь Люда – он не мог, чтобы не сделать что-нибудь интересное и веселое для нее…
Наконец, учительница велела ему прийти с матерью. Матери она сказала, что он еще мал и лучше ему посидеть годик дома.
И его исключили из школы.
Но ведь он давно умеет читать, знает все цифры. Просто ему неинтересно, когда говорят про то, что он уже знает. А главное – она, такая красивая, ему так хочется постоянно видеть ее, делать такое, чтобы ей всегда было весело… А теперь он должен сидеть дома, один…
За окном становится все темнее, дождь усиливается. В комнате сумрачно, скучно…
Слезы… слезы…
Он понимает, что уже не увидит ее, может быть, никогда. Взрослые думают, что это глупости, а это правда больно и очень тяжело.
Бабушка приносит большую сладкую грушу:
– Покушай, – говорит она.
Но Костя отодвигает грушу.
– Ты что же, и на меня сердишься? – спрашивает бабушка.
– Потому что все взрослые такие…
Он вспомнил, что дядя Коля прошлым вечером сказал: «Ну и что? Посидит дома – ничего страшного. Школа еще надоест».
– Все?.. – спрашивает добрая бабушка. – Ладно, а вот грушу покушай, станет легче.
Костя все равно отказывается.
Слезы льются сильнее еще и потому, что он любит бабушку, ему не хочется говорить ей такие слова, но они произносятся сами, против воли.
К вечеру слезы высыхают, но чувство остается.
Приходят с работы мать, отец, дедушка, дядя Коля. Костя скрывается от всех в темной спальне. Дядя Коля заходит к нему:
– Идем, будем печатать фотографии, – зовет он Костю.
Костя любит дядю Колю, любит наблюдать, как дядя при свете красного фонаря печатает, проявляет, ретуширует снимки, но теперь отказывается и от этого.
Все-таки он поужинал и, когда лег спать, отвернулся к стенке…
Ночью на улице не было ни дождя, ни ветра. Утро выдалось яркое, солнечное, было даже тепло.
Костя позавтракал, бабушка помогла ему одеться, он вышел в сад. В саду деревья еще не осыпались, но уже приготовились к зиме. Было тихо, пусто, печально. Тяжелые думы не отпускали. Один… Как это тяжело – быть одному…
Если бы кто-нибудь внимательный и добрый в эту минуту мог незаметно подсмотреть, он увидел бы здесь настоящее горе. Сквозь слезы, щурясь на солнце, Костя глядел в небо. Болела душа, горестно страдала она о непоправимом. А жизнь только начиналась…
Последний помещик
Ты жила в тишине и покое.
По старинке желтели обои,
Мелом низкий белел потолок,
И глядело окно на восток.
Зимним утром, лишь солнце всходило,
У тебя уже весело было:
Свет горячий слепит на полу,
Печка жарко пылает в углу.
Книги в шкапе стояли, в порядке
На конторке лежали тетрадки,
На столе сладко пахли цветы…
«Счастье жалкое!» – думала ты.
И. Бунин
Жактовский дом, в одной половине которого жили дедушка с бабушкой, дядя Коля и наша семья, был старый, удобный, строенный на старинный лад, с затейливым посередине фасада парадным крыльцом, которым, однако, уже не пользовались. Дом был обшит тесом и выкрашен в желтый цвет. Вторую половину его занимали другие жильцы, у которых были свои двор и все остальное, отдельное от нас.
До революции дом принадлежал тем, от кого не осталось ни следа, ни названия. Кто были они? Куда подевались в те страшные годы? Бог весть. Конечно, были это достаточные люди, имевшие в губернском городе, в удобном месте, такую усадьбу – вместительный дом, сад, огород, широкий двор. Был еще большой рубленый сарай, построенный буквой «г», короткую часть которого занимали бабушкины подопечные: корова, поросенок, куры. На длинной половине сарая, большой и просторной, с широкими воротами, постоянно раскрытыми настежь, прежние владельцы, должно быть, держали лошадь, выезд, все необходимое для этого. Теперь в этой части хранились дрова, уголь, какие-нибудь старые вещи. Обширный двор между домом, сараем и садом густо зарастал темно зеленевшим спорышом. Возле сарая, по длинной его стороне, справа и слева от ворот росли два больших куста черной смородины, а в конце его, где начинался огород, – деревце вишни. Короткой стороной сарай был обращен к саду, длинной – на входную аллею парка, примыкавшего к усадьбе. Участки от сарая к улице и от дома к саду были заняты огородом.
Перед домом, по его фасаду, был разведен цветник, где особенно выделялись самых разных сортов и вида георгины, росшие сплошной стеной сразу под окнами. Росли здесь также ирисы, пионы, гладиолусы, цветы табака, садовая спаржа, настурции, лилии, петуньи, ноготки, астры. От цветника двор несколько понижался и до самого забора густо зарастал простой травой. С улицы его ограждал невысокий штакетник. Здесь были калитка и ворота.
За садом ухаживал дедушка. На попечении бабушки были огород и цветы. Двор и сад вместе с сараем и домом представляли маленькое поместье, островок уединения, отделенный от жизни, протекавшей за его пределами. Дом, как и вся усадьба, молчаливо и кротко хранил в себе приметы и память прошлого – неизвестной, но, наверное, доброй старинной жизни.
Квартира, предоставленная дедушке, тогда еще машинисту, состояла из двух больших комнат, изолированных, однако имевших между собой сообщение, большой кухни с плитой и русской печью и темной спальни, устроенной в широком коридоре, выход из которого на парадное крыльцо был наглухо заколочен. Вход в квартиру был со двора – через крыльцо, сени и кухню.
Большой и просторный сад, состоявший из яблонь и груш, примыкал к парку, при котором имелось футбольное поле, окруженное треком. Сад был слишком велик, и, так как начальство, выделившее дедушке квартиру, считало такой довесок к ней чрезмерной роскошью в социалистическом государстве, имелось постоянное стремление отобрать его, но, что тогда делать с ним, не было ясно, потому он оставался на дедушкином попечении. Он был старый, в момент, когда дедушка получил квартиру, находился в запущенном состоянии, почти не плодоносил. И дедушка, умевший делать все, привел его в такой порядок, что он ожил, стал цвести, давать обильные урожаи.
Дедушка имел небольшое брюшко, лысину, носил темную или белую косоворотку, подпоясанную по-солдатски широким ремнем с простой пряжкой, был крепкий старик. В гражданской войне с оружием в руках дедушка не участвовал ни на чьей стороне, однако как машиниста его мобилизовывали, то есть приходили вооруженные люди и уводили с собой. Кто были они: белые, красные, какие-то еще? Он по полгода пропадал где-то, и семья не чаяла, что вернется домой. Последнее время он уже не был машинистом, но продолжал работать на железной дороге. Испытывая сочинительскую страсть, по вечерам он что-то писал за большим письменным столом. Сохранилась фотография, где он, освещенный настольной лампой в темной комнате, сосредоточен над своим писанием. Он обратился с письмом к Горькому и получил ответ великого писателя, смысл которого состоял в том, что дедушке необходимо повышать образовательный уровень.
Один рассказ дедушки все-таки был напечатан, видимо, в каком-то журнале. В рассказе он вывел «коренастого, кареглазого» машиниста. Во время гражданской войны, зимой, когда поезд остановился на перегоне из-за отсутствия топлива для паровоза, чтобы не замерзнуть, машинист забрался в теплую топку и там уснул. Помощник, не зная о том, закрыл топку на щеколду, замуровав таким образом своего товарища.
За гонораром дедушка ездил в Минск, домой вернулся в крепком подпитии, чего вообще с ним не бывало – спиртного он не употреблял, – и в этом случае, думаю, не много привез от заработанного творческим трудом. А писательская бацилла, которая беспокоит меня всю жизнь, попала ко мне, конечно, от него.
Был дедушка круглым сиротой. Всего, что он имел и чему научился, он добился собственными трудом и упорством, которые были чертой его характера. Он был деятельный, интересующийся, энергичный, кроме того, обладал недюжинной силой, был решительный и неробкого десятка.
Во время гражданской войны местность, где они тогда жили, занимали белогвардейские части. И так как дедушка с семьей имел, видимо, достаточную квартиру, на постой к ним были определены офицеры. Однажды они играли в карты, и один из них проигрался в пух. Тогда, чтобы продолжить игру и сделать очередную ставку, проигравший ничтоже сумняшеся достал из гардероба дедушкин выходной и, может быть, единственный, костюм. Недолго думая, дедушка взял офицерика за грудки и как следует тряхнул. Произошел переполох. Дедушку объявили «красной сволочью», тут же скрутили, выволокли во двор, поставили к стенке. Жить ему оставалась одна минута. Тогда, собрав пятерых своих детей, бабушка бросилась в ноги начальнику, и дедушка был помилован.
Слабостью дедушки, выдававшей возраст, было то, что после обеда, взявши в руки газету, он тут же над ней засыпал. Он участвовал в клубной самодеятельности и однажды провел меня и Эмму на постановку украинского спектакля «Наталка-Полтавка», где он исполнял роль свата. Загримированный, в рыжем парике, изображавший состояние своего героя во хмелю, он был совершенно неузнаваем и здорово сыграл свою роль. На сцене был поставлен домик, куда для переговоров зашли сваты, их было двое, и так как они были в хорошем градусе, там поднялся настоящий гвалт. Домик трясло, как при землетрясении, и было просто чудо, что он не развалился. Спектакль был поставлен для красноармейцев, заполнивших зал в длинных шинелях и островерхих шлемах того времени. Других зрителей не было. Мы с Эммой, как почетные гости, сидели в первом ряду.
Бабушка имела свой круг интересов и занятий. На ее попечении находились: корова Сондра, поросенок Юзик, несколько кур с петухом, а также белый с желтинкой пес Томик и кот Минька. Дела у бабушки не кончались никогда. Только вечером она позволяла себе отдохнуть, читая у остывающего самовара старый, с пожелтевшими страницами журнал. В этом журнале, из которого она читала и мне, рассказывалось о поисках затонувших сокровищ и погибших искателях. Там была и страшная картинка: скелет в остатках одежды и крабы с огромными клешнями, которые, видимо, съели того, от кого остался лишь скелет.
В огороде у бабушки рос всякий овощ. Росли там и тыквы, из которых бабушка варила вкусную кашу. Главное же употребление тыквы было в корм корове и поросенку. Тыквенные семечки бабушка поджаривала на противне. Вечерами, когда приходили тетя Варя и дядя Гена с Эммой, семечками лакомились за долгими разговорами на этих посиделках.
У бабушки было простое лицо, всегда спокойное и серьезное. Была она помещичьего рода, скорее всего небогатого, так как не отличалась большой грамотностью и замуж вышла за пролетария, хотя дедушка был квалифицированным рабочим. О помещичьем происхождении бабушки осталось лишь одно свидетельство матери, которая в возрасте семи или восьми лет, видимо перед самой революцией, была в гостях у своих дедушки и бабушки и видела там висевший на стене «План земельных угодий помещика такого-то». Кто он был, этот мой предок? Был ли он дворянин? Этого я уже не узнаю. Бабушка ничем не отличалась от старых женщин из народа, одета была всегда в простые, темные одежды, соответствовавшие возрасту и положению – других у нее просто не было. В кухне, в сарае, во дворе она была в фартуке, в платочке, повязанном на затылке. Она любила своих родных, свое хозяйство – огород, скотину, – старательно готовила корм корове и поросенку, в больших чугунах варила для них картошку в кожуре, тщательно разминала ее потом толкушкой и руками, подмешивала рубленую траву, посыпала отрубями, добавляла к этому остатки еды со стола. Можно сказать, что корова и поросенок имели отличное питание, потому и продукты, получаемые от них, были наилучшего качества.
Во время прошедших войн, в годы разрухи и голода, бабушка подбирала на улице несчастных людей, больных и вшивых, приводила домой, кормила, обстирывала, лечила, давала кров, несмотря на то что имела пятерых детей и не бог весть какие достатки. Однажды, во время гражданской войны, она спустилась в погреб, где у нее оставалась кое-какая огороднина, и неожиданно столкнулась там с грабителем, здоровенным солдатом, который при виде хозяйки бросился наутек. Оправившись от испуга, бабушка сообразила, что солдат голоден. Кинувшись за ним, она остановила его, привела домой, накормила чем бог послал, сделала другое, в чем он нуждался. Часто за это ей платили черной неблагодарностью. В те же годы был случай, когда неожиданно ночью, у себя в комнате, в темноте, бабушка столкнулась с грабителем. Это так потрясло ее, что она слегла и долгое время находилась на грани жизни и смерти, и уже не думали, что останется в живых.
Особые отношения были у бабушки с разбойником Минькой, упитанным серо-белым котом, не упускавшим случая изловить мышку или воробья, постоянно вертевшимся возле нее, когда она готовила обед. Улучив минуту, Минька вспрыгивал на стол, хватал кусок мяса и бросался прочь от разгневанной бабушки. Несколько дней потом его нигде не было видно. Наконец он возникал в открытом люке чердака и начинал орать, вымаливая прощение. Бабушка не обращала на это внимания, занимаясь своими чугунами и ухватами. Минька спускался на одну перекладину лестницы, продолжая истошно вопить, стараясь показать этим, как он несчастен и как страдает. Бабушка по-прежнему не замечала его. Он спускался еще на одну перекладину и, когда добирался до последней, улавливал, что наказания не будет, бросался к ногам бабушки, начинал тереться об них, задравши хвост, громко мурлыкать, убеждая, что произошедшее – просто досадная случайность, что на самом деле он совсем не такой, как можно было подумать, и больше такого никогда не будет. Бабушка все понимала, но не могла не простить хитреца. В знак прощения он получал вкусный кусочек. Съев угощение, облизавшись старательно, Минька возвращался к обычному своему состоянию уверенности и полного довольства собой. Однако преодолеть или смирить воровскую наклонность Минька не мог, и в следующий раз все в точности повторялось.
Мать много читала, была занимательной рассказчицей и часто, чаще всего перед сном, когда я уже лежал в постели, рассказывала мне что-нибудь из прочитанного, содержание интересного кинофильма, а иногда и читала вслух, в том числе стихи любимого ею Некрасова. Я с нетерпением ожидал ее прихода с работы или возвращения из кино. К Новому году она покупала разноцветной бумаги, блестки, доставала сбереженную фольгу от шоколадных конфет, вату, заваривала крахмальный клейстер, и несколько вечеров мы предавались интереснейшему занятию: изготовлению елочных украшений. Клеили цепи, флажки, делали фигурки из ваты, разное другое.
Как-то, накануне Нового Года, придя вечером с работы, мать позвала меня ехать в город покупать елочные игрушки. Ехали от вокзальной площади промерзлым автобусом в центр, где были лучшие магазины. Вечер был морозный, звездный. В стылом воздухе ярко сверкали уличные фонари, мягко светились окна многоэтажных домов, все было бело, под ногами звонко скрипел снег.
На площади стояла огромная елка, украшенная игрушками и фонариками. Возле елки на снегу ее окружали: Дед Мороз и Снегурочка, Волк и Три поросенка, Красная Шапочка, Доктор Айболит. В магазине тоже все сияло разноцветными огоньками. Улыбающаяся продавщица сделала большой кулек из плотной бумаги, и нам наполнили его чудесными игрушками, сверкающими золотом, серебром и всеми возможными цветами. Дома потом все игрушки разложили, внимательно рассмотрели, и теперь оставалось ждать, когда придет елка и мы будем ее украшать.
Мы часто бывали у Эммы, в поселке Карабановка, расположенном по другую сторону станции, в домике с парадным крылечком. Почему-то простая его обстановка, обычные вещи пленяли, вызывали желание оставаться среди них, приходить сюда снова и снова. Стол, стулья, диван, комнатные растения были, конечно, самыми обыкновенными. Комод украшали фарфоровые фигурки, высокая, тонкая ваза с метелками засушенных луговых трав, куклы, красивая морская раковина, из которой, если приложить ее к уху, можно было услышать шум далекого моря. Вряд ли все это было каким-то особенным, но здесь я казался себе в мире почти волшебном.
Эмма имела богатый набор цветных карандашей, альбомы, книжечки и блокнотики для рисования, куклы, набор кукольной посуды и мебели, уголок, где они были красиво расставлены и бережно хранились, но, главное, у нее были любимые мной книжки. Нет нужды говорить о платьицах, туфельках, ботиках, в которых она сама становилась похожей на куколку.
К дому примыкал огород, между грядками которого росли фруктовые деревья, кусты крыжовника и смородины. За домом, возле разведенного цветника, мы расстилали на травке рядно, читали здесь книжки или говорили такое, о чем говорят дети, когда им столько же лет. Вся Карабановка, застроенная такими же домиками, казалось, грезила летними днями под солнцем и ветром, тихим и радостным, утопая в зелени садов и пестроцветье палисадников.
Мой отец был неплохой рисовальщик, художник-копиист. В то время он выполнял на заказ две картины. Первая из них, большого формата, скопированная с открытки, представляла двух борзых и перед ними на белом снегу затравленную ярко-рыжую лису. Другая была копией газетного снимка, запечатлевшего лейтенанта Пожарского, готовившегося совершить прославивший его подвиг в бою с японцами. Копировал он и другое, для себя: Маковского – девочки, бегущие от грозы; олени, пришедшие зимой к стогу сена. Стоя в углу комнаты – ближе мне не разрешалось подходить, – как завороженный, боясь пошевелиться или издать звук, я наблюдал колдовство рождения ярких образов на полотне. Мне хотелось самому творить это чудо, но все, что было доступно мне, – это рисовать простым или несколькими цветными карандашами на куске серой оберточной бумаги, которую приносила для меня бабушка из какого-нибудь магазина.
Через дыру в заборе я проник в парк, где в это время для детей разыгрывались призы. На бечевке, протянутой между двумя березами, были развешены карандаши, ученические ручки, блокноты, разная другая мелочь, в том числе акварельные краски в виде пуговиц, наклеенных на картонное подобие палитры. Чего бы я ни дал, чтобы эти краски стали моими! Перед бечевкой выстроилась очередь, во главе которой стали большие мальчишки, за ними хвост из таких же, как я, мальцов. Тому, чья была очередь, завязывали глаза, давали в руки ножницы, он подходил к бечевке и пытался срезать что-нибудь, но чаще всего это не удавалось. Тогда большие мальчишки, которым надоела такая канитель, ринулись к бечевке все сразу и стали срывать призы. Произошла свалка. Младшие последовали за старшими. Распорядительница растерялась, не умея навести порядок, стала быстро сворачивать свой аттракцион. Поняв, что вожделенных красок мне не получить, я устремился вслед за всеми и, изловчившись, сорвал-таки их с бечевки. Наконец я заполучил настоящие краски! О том, что способ, которым были добыты они, был не совсем приличным, я, конечно, не думал.
Дома я срезал с головы клок волос, сделал из них кисточку, но, когда стал рисовать, стараясь взять на кисточку как можно больше сочной краски, и увидел, что, высыхая, цвет делался жухлым и тусклым, был разочарован.
Вечерами приходила Эмма с родителями. Тетя Варя была домохозяйка, дядя Гена, как и дедушка, – машинист. Высокий, заметно лысеющий, добрый и сильный, он здорово подбрасывал нас к потолку – сначала Эмму, потом меня. Мы просили: еще и еще! Взрослые были недовольны: это было развлечением для нас, а не для дяди Гены, который, конечно, никогда не отказывал нам.
В то время как взрослые беседовали на кухне, мы уединялись в комнате дяди Коли, которого чаще всего в это время не было дома, и там, расположившись на участке стола, свободном от дядиных принадлежностей, занимались рисованием. В хорошеньком чемоданчике Эмма приносила с собой все необходимое для этого: альбом, цветные карандаши, другие принадлежности. Лампа под зеленым абажуром освещала стол, где мы располагались, погружая остальную комнату в полумрак. У Эммы все было нарисовано аккуратно, правильно: девочки, цветочки, домики, деревья. Я рисовал самолеты, танки, военные действия.
К концу вечера бабушка ставила самовар, разговоры продолжались, все пили чай с вишневым или крыжовенным вареньем.
Нам с Эммой, конечно, было интересно послушать, о чем говорят взрослые. Часто это были поражающие и даже пугающие рассказы. Вот, будто мужчина в театре среди публики увидел на женщине платье, в котором он только что похоронил свою жену. Или слух о том, что парикмахер (видимо, враг народа) перерезал бритвой горло клиенту. Или случай, когда после грозы над землей повис электрический провод. Кто-то хотел перешагнуть через него и замкнулся на нем. Другой, поспешив на помощь, схватил этого человека, чтобы оторвать от провода, но сам замкнулся. Потом в этой цепи оказался третий, четвертый, пятый… Наконец, кто-то догадался галошей выбить провод из рук первого, взявшегося за него…
Обсуждали крушение на железной дороге, рассказывали про знакомого железнодорожника, который попал под поезд. Или о летчиках, когда они выбросились с парашютами из загоревшегося во время учений самолета, и у одного из них парашют не раскрылся.
Или вот еще – мальчишки. Чего только с ними не происходило! В нашем парке, в березовой роще, селились вороны. В то время некоторые мальчишки собирали коллекцию птичьих яиц. Один из таких коллекционеров решил добыть вороньих яиц. Вороньи гнезда располагались на большой высоте, и незадачливый охотник за яйцами сорвался оттуда. Шансов у него не было – он погиб на месте… Другой «везунчик» из числа наших знакомых попал под автомобиль. Это было просто невероятно. Автомобилей на улице в то время было раз-два и обчелся. Как его угораздило?.. Колесо проехало по тому месту, где у человека находится мочевой пузырь. К несчастью, в этот момент он был переполнен и лопнул… Еще один искатель приключений забрался в бочку из-под бензина, оставленную без присмотра. Находясь в бочке, любознательный естествоиспытатель зажег спичку. Произошли вспышка и взрыв. Счастьем было то, что остаточное количество бензина и пары при вспышке мгновенно выгорели. Герой остался жив, но долго ходил с головой и лицом, залепленными марлей. Оставлены были только щелочки для глаз, которые чудесным образом не пострадали… По нашей улице, недалеко от нашего дома, по другую сторону парка, находился одноэтажный восьмиквартирный дом, в котором жили знакомые железнодорожники. При доме был большой общий сарай, во дворе было много детей. Компания друзей, четверо или пять мальцов, старшему из которых было не более семи лет, ни много ни мало решили поджечь сарай. На задней стороне сарая прямо к стене сложили каких-то веток, щепок, газету, подожгли. Кусок газеты сгорел, и пламя потухло. Что в таком случае делают взрослые? Правильно! Материал, который не хочет возгораться, поливают бензином. Где взять бензин? Да проще простого! Достать пипку и побрызгать, что и сделали всей компанией. Горючим веществом обработали весь материал, даже стену сарая, но они почему-то не воспламенились. А в это время за сарай заглянул кто-то из взрослых.
Говорили еще о разных домашних делах. Говорили и такое, что нам, детям, нельзя было знать. Тогда разговор шел с намеками, с употреблением непонятных слов. Но мы-то знали, что если говорили о ком-то, что его отправили на луну, это значило, что его расстреляли. Когда говорили про другого человека, что его отправили в Крым, это означало, что его отправили в какое-то особенное место.
Так много интересного, о чем говорят взрослые, мы слушаем, стараясь не пропустить ни одного слова. Но главное в этих беседах – спокойная и добрая сердечность течения вечерних часов, она передается и нам, и мы хотим, чтобы вечер длился как можно дольше.
Но вот заканчивалось чаепитие, заканчивались разговоры, заканчивался и вечер.
В поздний час мы провожали гостей через площадь, мимо вокзала, к переходному мосту. Небо в это время усыпано яркими звездами, в парке сверкали огни, играл духовой оркестр, гулянье было в разгаре. И всякий раз было жалко, что вечер прошел и надо расставаться.
Дядя Коля, брат матери, работал мастером на машиностроительном заводе. Он имел гриву золотисто-рыжих волос и наклонность к саркастической шутке. Как и дедушка, владея талантом делать все своими руками, паял, точил, клеил, пилил, немного рисовал, фотографировал, ретушировал снимки, собрал радиоприемник. Для этого у него были все необходимые принадлежности, различные инструменты и приспособления. Был у него также и велосипед, на котором он ездил на работу и много с ним возился, что-то в нем ремонтируя, усовершенствуя. Комната его была настоящей мастерской. Два больших письменных стола, придвинутых возле окна один к другому, образовывали обширную поверхность, заставленную разного рода деталями, железками, приспособлениями, препаратами, реагентами. Как-то, войдя к нему, я увидел среди прочих предметов коробочку с насыпанным в нее горкой белым порошком. Подумав, что это, может быть, что-нибудь сладкое, я лизнул порошок: оказалась противная гадость. Вошедший как раз в эту минуту дядя Коля, заметив, что я сделал, спросил насмешливо: «Что, вкусно?». Он был шутник и насмешник.
Обстановку комнаты дяди Коли составляли: никелированная кровать с шишечками, обитый голубым дерматином диван с валиками, платяной шкаф. Низкая лежанка, облицованная белым кафелем, была слишком жаркой, потому на ней лежали только во время болезни, если нужно было согреться.
У дяди Коли можно было увидеть диковинные вещи, например электрическую лампочку величиной с большую тыкву. Однажды ему доставили целую гору хоккейных коньков с ботинками, видимо, это был заказ наточить их.
Радиоприемник, собранный им, звучал сквозь волшебное потрескивание таинственными голосами далеких миров, музыкой, прорывавшейся оттуда волнами, вызывая фантазии о неведомых странах, о чудесном, недостижимом, волнующем смутными мечтами. Слушать это доставляло ни с чем не сравнимое переживание. Я весь растворялся в этих звуках, переносясь в пределы, откуда приходили они. Казалось, они так далеко, как звезды на небе, и оттого навсегда пребудут недостижимой и недоступной тайной, и никогда не придется узнать о том непостижимом, далеком. Душа наполнялась страстным желанием узнать, увидеть, которое оставалось без исхода и без ответа.
Однажды, когда я был прикован к постели в гипсовой своей коробке, дядя Коля, придя с работы, с порога нашей комнаты бросил мне огромный душистый ярко-оранжевый апельсин. Апельсин был из Испании, где в это время шла гражданская война. Кажется, он был первый в моей жизни. Я долго играл с ним, прежде чем съесть его.
Дядя Коля был еще и шалун. Как-то на Пасху он выкрасил Миньке в красный цвет мужские его принадлежности, которые называл «ириниты» и которыми Минька потом красовался, разгуливая с задранным хвостом.
Был случай, когда дядя Коля предотвратил большое несчастье, уготованное кем-то для нас. Домой он приходил поздно, часто засиживался у себя за полночь и однажды, выйдя в такое время во двор, увидел, что под стеной дома со стороны огорода возгорается пламя. Кто-то сложил там сухих веток, прочего горючего материала и сделал поджог. Пламя только что начинало разгораться, и дядя быстро загасил его.
Дядя Коля много фотографировал, проявлял, печатал снимки при свете красного фонаря, ретушировал, используя специальное приспособление, разрешал мне наблюдать за его работой. Кое-что из этих снимков сохранилось. Они напоминают о том, что было и так давно прошло.
В те годы в городах, даже больших, особенно по окраинам, люди держали домашнее хозяйство, подобное тому, какое было у бабушки, и в котором обязательно была корова. И, так как коров надо было пасти, ближайшие соседи собирали стадо и нанимали пастуха, которого по очереди каждый из общинников брал к себе на неделю на полный стол и ночлег. Бабушка участвовала в общине, и таким пастухом одно лето был Василь – деревенский парнишка с выгоревшими на солнце соломенными волосами, – серьезный, самостоятельный, знавший и умевший много такого, чего не умели те, кто жили в городе. Он покорил меня дружеским отношением, хотя был намного старше, тем еще, что умел делать ореховые тросточки с красивым черно-белым орнаментом, а также дудки, свистки и однажды сделал самопал, из которого подстрелил ворону. Он имел длинный бич, с помощью которого управлял стадом, ловко щелкал им, давал попробовать и мне, но у меня не получалось: не хватало сил. Спал Василь в кухне на бабушкином сундуке, вставал на рассвете. Бабушка кормила его завтраком, собирала для него в холщовую торбу еду, и он на целый день уходил со стадом. Вечером, пригнав стадо, ужинал, и остальное время мы проводили вместе. В воскресенье, в свой выходной, который ему полагался, он что-нибудь мастерил для меня – конечно, сделал свисток и тросточку, человечка-физкультурника, а когда приходила Эмма, тоже участвовал в занятиях рисованием. Неделя кончалась быстро, Василь переходил к другим хозяевам, а я с нетерпением ждал, когда он снова придет к нам.
В повседневной жизни происходили разные события – большие и маленькие, имевшие какое-либо значение или интересные только для меня.
В десять часов утра по радио шла детская передача. Репродуктор висел в нашей комнате возле окна, представлял собой прямоугольный, плоский ящик, на лицевой стороне которого дядей Колей было изображено озеро с лебедями, с берегами, поросшими лесом, и розовым рассветным небом. Взобравшись на подоконник, затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово, я слушал интереснейшие инсценировки: «Пятнадцатилетний капитан», «Али-Баба и сорок разбойников», «Аладдин и волшебная лампа». Длинные инсценировки транслировались в течение нескольких дней, и все это время я находился в горячечном возбуждении и нетерпеливом ожидании продолжения передачи, захватившей воображение, взволновавшей видениями чудесных стран и опасных приключений.
Внезапно по улице с грохотом на булыжной мостовой мчалась танкетка. Я не успевал добежать к забору, чтобы поближе ее рассмотреть, как она, развернувшись, с лязгом уносилась обратно.
Вдруг улица преображалась: двигался шумный и пестрый цыганский табор. Ехали повозки, шли цыганки в своих невероятных платьях и юбках, увешанные серьгами и монисто, возле них скакали и прыгали разного возраста цыганята. Долго потом ходили рассказы о хитрых цыганках и обманутых обывателях.
Зимой дядя Коля принес и положил во дворе, недалеко от калитки, раздобытую где-то длинную, метра четыре, железную полосу. С улицы она хорошо была видна на снегу. Однажды, когда я гулял во дворе, по улице проезжал на санях крестьянин. Увидев полосу, он остановился и стал спрашивать моего согласия взять ее себе, за это предлагал прокатить меня на санях. Я, конечно, согласился. Хитрый колхозник быстро положил полосу в сани, посадил меня, и я проехал с ним метров триста. Он прокатил бы меня сколько угодно еще, но я сам не решился ехать дальше. Дома пропажа полосы быстро обнаружилась, и меня ругали за то, что я так глуп: из этой полосы дядя Гена собирался заказать у кузнеца хорошие санки.
Летом из Москвы приехал старший брат матери дядя Вася с сыном Вадимом, моим двоюродным братом. Вадик был старше на четыре года, настоящий москвич – шустрый и быстро соображавший. Мы увидели из окна бредущую по дороге без кучера извозчичью лошадь с коляской. У Вадика тут же сработала смекалка. «Бежим!» – скомандовал он. В одно мгновение мы оказались возле лошади. Я запрыгнул на сиденье, Вадик – на облучок, взял вожжи, и мы поехали. Это был настоящий угон транспортного средства.
Вдруг сзади послышался крик: размахивая кнутом, за нами бежал извозчик. Вадик остановил лошадь. Извозчик подбежал и… стал благодарить нас за то, что мы сберегли коляску и лошадь, еще и прокатил нас. И, нужно сказать, это несравненное удовольствие. Кто сейчас может понять такое? Рессорная коляска на шинах, кожаные сиденья, прорезиненный, со специфическим запахом, откидной верх, сверкающие лаком и никелем детали, конь-красавец, отличная сбруя. Катишься, будто плывешь, и по мостовой цокают подковы.
В Москву попеременно ездили дедушка, бабушка навестить дядю Васю, дядю Федю с их семьями, ездил отец. Каждый раз я с нетерпением ждал их возвращения: они должны были привезти новую книжку. Из этих книжек запомнилась большого формата с приятной желтенькой обложкой – стихи Михалкова. Стихи мне понравились, как и сама книжка, хорошо оформленная, с интересными картинками. Стихи были про дядю Степу, про туриста и самое интересное про упрямого Фому.
Иногда случалось мне заболеть. Тогда приходил доктор, добродушный человек – кругленький, с животиком, с головой, лишенной малейших признаков растительности, имевший при себе в саквояже докторские принадлежности. Входя с мороза, он раздевался с помощью бабушки, умывал руки нагретой для него водой, спрашивал, что случилось, доставал из саквояжа докторский халат, облачался в него, подходил ко мне, лежавшему в постели, давал измерить температуру, выслушивал с помощью трубочки, выстукивал, спрашивал, просил чайную ложечку, пользуясь которой осматривал горло, требовал сказать «а-а-а». Наконец, выписывал «микстурку», «порошочки», рекомендовал горчичники, грелку, компресс или банки, говорил что-нибудь подбадривающее, а выполнив все что нужно, снимал халат, укладывал его и прочее в саквояж и уходил. Позже я узнал, что доктор был всего лишь фельдшером.
Однажды у меня заболело ухо. Было назначено лечение. Ночью боль в ухе усилилась. Я решил, никого не беспокоя, полечиться самому. Днем мне закапывали что-то, и на тумбочке, возле постели, стояло много разных пузырьков. Я выбрал наиболее полный, лег на здоровое ухо, а больное до краев наполнил из этого пузырька. Жидкость была прохладная, стало легче, и я уснул. Утром, подойдя ко мне, мать и бабушка всплеснули руками. Оказалось, я влил себе скипидар, который к тому же разлился по щеке, образовав ожог.
В то время всем детям в обязательном порядке делали прививку против дифтерита. Делали три очень болезненных укола с перерывом между ними в несколько дней.
Мы с Эммой обедаем в кухне. Во дворе мелькает фигура, мы сразу узнаем: это укольщик. Эмма начинает громко кричать. Бабушка уговаривает, утешает ее. Я, как мужчина, креплюсь.
Укольщик раскладывает сверкающие никелем страшные свои приспособления. Он рыжий, говорит что-то успокаивающее, но мы-то знаем, как больно будет несколько дней после укола.
В разное время у меня были ворона, воробей, белочка. Ворону подстрелил из самопала Василь. Она была ранена в крыло и не могла летать. Я ухаживал за нею, но она умерла. Я устроил ей настоящие похороны в гробике, для чего использовал подходящую коробочку. За сараем вырыл ямку, сделал надгробный бугорок, соорудил памятник из какой-то палочки.
Воробья, замерзавшего на снегу, принес дядя Коля. Он отогрелся, ожил и стал перелетать из комнаты в комнату, возбудив алчное внимание Миньки. Я гнал Миньку, защищая воробья, но все было напрасно. Глаза у Миньки разгорались, он прыгал за воробьем на шкаф, на печку, и однажды я нашел под кроватью маленькую кучку перышек – все, что осталось от бедного воробья.
Белочка была симпатичным забавным зверьком. Мне подарили ее крохотным бельчонком, рыженьким и пушистым. Выросши, она сделалась ручной, забиралась в кухне на стол, подскакивала к сахарнице, хватала лапками кусочек сахару, тут же грызла его. Она жила свободно, не в клетке, любила, свернувшись калачиком, поспать на постели в темной спальне дедушки и бабушки. Придя с работы, дедушка решил отдохнуть и, не заметив, лег прямо на белочку. Несколько дней после этого она проболела и умерла.
Как у всех маленьких детей, у меня были любимые и нелюбимые кушанья. Нелюбимыми были фасолевый суп и суп с сушеными грибами. А самое любимое кушанье – черный хлеб, накрошенный в кружку и залитый молоком. Я появился на свет в голодное время, и мать рассказывала, как однажды ехала она со мной в поезде и стала кормить меня этим крошевом. Я был еще совсем мал, а рядом ехал военный, который проникся к младенцу сочувствием и дал матери батон прекрасного белого хлеба. Младенец же поразил доброго человека тем, что отказался есть белый хлеб, а продолжал употреблять свой черный с молоком. Конечно, были и любимые лакомства: заварное пирожное, мороженое. Мороженое продавалось на улице из бидона. Мороженщица черпала ложкой некоторое количество, закладывала в форму и выдавливала порцию в виде бочонка, заключенного между двумя вафельками. Оно имело приятный желтоватый цвет, было очень вкусно и стоило копейки. Около мороженщицы постоянно толпились дети.
Дядя Коля и дедушка ходили по грибы, приносили полные корзины боровиков, подосиновиков, маслят, испускавших особенный грибной аромат. Ходили и по орехи. А однажды дядя Коля принес целую корзину живых черных раков. Бабушка потом бросала их в кипяток. Они становились красными, и белое мясо их было очень вкусно.
В весеннем саду цвели деревья. Мириады пчел наполняли его дремотным гуденьем, погружая в состояние, будто это успокаивающий, сладкий сон. Ярко потом желтели одуванчики, свежо зеленела нежная травка. Славно было сидеть или лежать на ней, глядя в небо, где высоко-высоко летел самолет с прицепленной к нему «колбасой». Другой самолет стрелял в нее из пулемета. Иногда пролетавший на небольшой высоте самолет выбрасывал листовки, засыпая ими улицу, двор, сад. Я собирал их потом – все, сколько мог найти. Текст листовок, конечно, никого не интересовал, но зрелище, когда они падали с неба, вызывало восторг. Видел я и дирижабль, летевший медленно и высоко.
В саду был шалаш, но гулять по саду не разрешалось до тех пор, пока дедушка не скосит траву для коровы. А когда сушилось сено, по саду распространялся чудесный запах его, смешанный с запахом зреющих яблок.
В саду, за сараем, я нашел неизвестно как и откуда попавшую туда книгу для чтения, наверное, в четвертом классе, с оторванной обложкой. Там я прочел запомнившееся с тех пор:
- Уж небо осенью дышало,
- Уж реже солнышко блистало…
Это была дорогая находка. Я не расставался с книжкой до тех пор, пока не прочел всю – рассказы, сказки, стихи.
Книги были моей страстью, но, может быть, потому, что во мне жил также художник, я любил книги с хорошими картинками, которые рассматривал подолгу и помногу раз. Я не мог заставить себя читать книгу, лишенную иллюстраций. Они возбуждали во мне интерес к содержанию, разжигали воображение. Такие книги оставили незабываемую память не только из-за содержания, но и по воспоминаниям общения с ними. Вначале это были «Русские народные сказки», «Конек-Горбунок», сказки Пушкина, Чуковского, потом сказки Андерсена, «Тысячи и одной ночи». Прелестная книжка-малышка величиной с ладонь содержала всего два стихотворения и была замечательно украшена цветными рисунками. Одно было стихотворение Жуковского про котика и козлика, другое – Пушкина: «Румяной зарею покрылся восток…».
Волшебство этих слов было восхитительно тонко повторено в рисунке и цвете: заря, село за рекой, стадо на зеленом лугу…
Любимой игрой стало самому делать книжки. Я нарезал одноформатные кусочки бумаги, сшивал их нитками в виде тетрадки, придумывал содержание, которое начиналось словами «жили-были», записывал его печатными буквами на каждой нижней половине страницы, а верхнюю украшал своими рисунками.
Мать отвела меня в клубную библиотеку. Меня записали, выдали книги, и это было величайшее событие. Библиотека произвела неизгладимое впечатление. Книги там громоздились на полках до самого потолка. Многие были потрепанные, старые, с замусоленными и лохматыми страницами, они-то привлекали в первую очередь. От них исходил волшебный книжный дух. Я не любил совсем новых, нетронутых книг, если они были к тому же без картинок. Пользуясь предоставленной мне возможностью, я прочел много интересных книг. Но вот однажды мне дали «Гуттаперчевого мальчика», я почему-то никак не мог приняться за его чтение – должно быть, рисунки в книжке были неинтересны, – и мой братишка, которому исполнилось тогда столько, что он сумел взять ножницы, порезал ее. Это был страшный удар. Я не мог вернуть испорченную книгу и перестал ходить в библиотеку. Так продолжалось долго. Наконец через мать я получил требование явиться в библиотеку. Страшась наказания, чувствуя себя преступником, я понес изуродованную книгу. Но странно: меня не ругали и, к еще большему удивлению, без малейшего упрека оставили право пользоваться книгами. Повесть о гуттаперчевом мальчике я прочел значительно позже. Я оценил ее и навсегда запомнил слова эпиграфа: «Когда я родился, я заплакал. С тех пор каждый прожитый мною день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился…».
Из разговоров взрослых было известно, что на чердаке нашего дома свалены в кучу какие-то старые, наверняка интереснейшие книги. Я сгорал нетерпеливой мечтой о времени, когда смогу забраться туда, увидеть все своими глазами, разобрать этот клад и, конечно, найти там такое, что окажется интересней всего, что я знал до этих пор. Из этих сокровищ кто-то достал однажды «Войну миров» – жуткое и захватывающее чтение о нападении на землю марсиан, с выразительными, надолго врезавшимися в память иллюстрациями.
Как новое счастье, приходила весна. Звенели капели, сверкали сосульки, таял, сокращался в своих наметах снег. Суетились, поднимали гвалт воробьи. Небо становилось нежной, чистейшей голубизны, ярко и горячо сверкало солнце. На улице перед домом шумливые ватаги мальчишек пускали кораблики, делали запруды, строили мельницы.
В саду на лоне прошлогодней травы прозрачными струями изливались хрустальные ручьи. Переливаясь, вспыхивая отраженными лучами, они журчали ласково, грустно, навевая чувства неизъяснимые, томительные мечты о неведомом, потаенном, которое где-то существует и мучительно желанно. Какие они могли быть в том, младенческом бытии? Под ярким небом и слепящим солнцем детское воображение было не в силах представить отчетливое их видение. И не было никого, кто пришел бы сюда, и здесь, в сверкающей тишине весеннего сада, при сладостных звуках торопливых струй обрисовал их образы, назвал ускользающие их имена…
Иногда, промочив ноги и простудившись, я должен был сидеть дома, и тогда было непереносимой мукой наблюдать из окна ликование весны, оставаясь запертым в четырех стенах, в то время как на улице другие дети предавались шумным своим забавам.
Но вот становилось сухо, все начинало зеленеть и цвести, принося с каждым днем новые впечатления и новую радость: первая травка, первая бабочка, первый листок на дереве, майские жуки, ласточки. Наступало лето со своими теплом и зноем, с грозами и бурными ливнями, с лепечущей листвой, с плодами, зреющими в саду, с долгими мечтательными вечерами.
Какое это было блаженство – первый раз после холодов выйти из дома только в рубашечке и с непокрытой головой! И каждый день находить в природе все новые, всегда как чудо, ее превращения: белое и розовое буйство цветущего сада, усыпляющее гуденье пчел, а по другую сторону забора, в березовой роще, мелкая, яркая вначале зелень листочков с каждым днем становилась гуще, темней, и вот она наполнялась протяжным шепотом, шумом. Там, в саду, глаза невольно устремлялись в небо, где проходили медленные облака. Они, пустынная и бескрайняя голубизна над ними, легкий и ласковый этот шум завораживали, заставляли долго смотреть и слушать, и от этого, как от доброй улыбки, становилось так радостно и так хорошо.
Жаркие полдни, задумчивые облака, пылающие закаты тихих и теплых вечеров… Знойным дням, казалось, не будет конца… Но лето заканчивалось. Дедушка начинал убирать яблоки и груши с помощью длиннейшего шеста, расщепленного на конце, осторожно снимая с дерева каждый плод, бережно укладывая их горкой на траве. Сад наполнял запах антоновских яблок.
Шла осень. Дни становились короче, солнце больше не жгло, отдавая земле последнее свое тепло. На деревьях желтели и краснели листья. Дедушка сгребал их в большие кучи – они были ярких и разных расцветок. И было особенным удовольствием лежать на них и смотреть в небо. Оно было синее, но не такое, как весной, – остывающее, прохладней и как будто темней.
После солнечных дней сентября начинали идти дожди. Листья все падали, устилая землю ярким и пестрым ковром. Холодный ветер гнал их, разбрасывал по дороге. Дни наступали мрачные, темные. Тяжелые тучи укрывали небо. Голые деревья мокли под ледяным дождем. Начинался ноябрь.
В такие дни в комнатах было сумрачно, скучно. Бабушка, как всегда, хлопотала на кухне, уходила надолго в сарай к своим подопечным. Я слушал радио, читал, рисовал, смотрел в окно, наверное, о чем-то думал…
Вечером в спальне бабушка топила печку – круглую, в железном панцире, у нас она называлась голландкой. Если приходила Эмма, мы подступали к бабушке с двух сторон, упрашивая ее рассказывать сказки. Она сидела на низенькой скамеечке, подбрасывала в топку поленья, ворошила их кочергой. Спальню окутывал мрак, на стенах, оклеенных старинными обоями, плясали отсветы пламени. От печки вместе с ее жаром, от самой бабушки шла волна домашнего уюта, и казалось, что волшебное, чудесное – оно уже здесь, рядом, сейчас.
Темная спальня была нашим любимым местом. Здесь мы никому не мешали и нас никто не видел. Мы как-то играли, рассказывали что-то, наверное, хвастались друг перед другом чем-нибудь. В спальне стоял большой мешок с сушеными яблоками и грушами, из которых бабушка варила компот. Мы выискивали там сладкие груши и лакомились ими.
Между нами завязывался ученый диспут о происхождении человека. Я утверждал, что человек произошел от обезьяны.
– А вот и нет, – возражала Эмма, – человек произошел из живота!
Как можно было поверить в такую глупость?! Как это человек может произойти из живота?! От обезьяны – это понято, но из живота?! Но Эмма стояла на своем. И было странно, что когда мы обращались за разрешением спора к взрослым, то ответ был какой-то неопределенный. Мне говорили:
– Да, человек произошел от обезьяны.
Но как будто были согласны и с Эммой, и она торжествовала надо мной:
– А вот и нет! А вот и нет!..