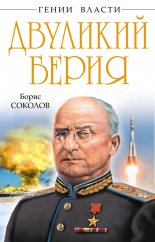Мантисса Фаулз Джон
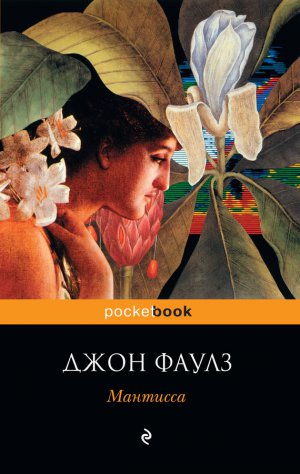
– Думаю, вы это осознали бы гораздо успешнее, если бы открыли глаза и более эффективно воспользовались руками. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели и почувствовали мою беззащитность. Увидели, как я мала и слаба по сравнению с вами… иначе говоря, как легко меня изнасиловать. – Он не поддается. – Мистер Грин, я не хочу показаться тщеславной, не хочу хвастаться своим профессионализмом, но я достаточно долго проработала в этом отделении, чтобы понимать, что ваше нежелание дать волю совершенно естественным инстинктам абсолютно необычно. Одна из причин, которую я уже теперь могу определить, заключается в том, что вы отдаете предпочтение вербализации чувства вместо прямого осуществления этого чувства на практике, что, в свою очередь, означает…
– О господи! Да кто же тут больше всех говорит-то?!
Теперь ее голос обретает невыносимо чопорный, строго научный – если бы только этот эпитет не противоречил физическим обстоятельствам дела – тон:
– Я говорю, чтобы объяснить. И выяснить, подтверждает ли эрекция словесно выраженную враждебность. Рада отметить, что не подтверждает.
– Подтверждала бы, если бы я мог хоть как-то повлиять на эту чертову штуку.
Она улыбается:
– Ну вы и правда уникум, мистер Грин. Вначале – боязнь кастрации. Теперь – боязнь наслаждения. Боюсь, нам придется сделать из вас чучело и экспонировать в музее.
– Могу сообщить вам, что теперь единственное наслаждение, о каком я мечтаю, – это не оплатить представленный вами счет.
– Мистер Грин, в этом нет никакой необходимости, если только ваши угрозы не возбуждают вас еще больше: в этом случае, прошу вас, продолжайте. Мы здесь прекрасно знаем, что для некоторых мужчин понятие совокупления неотделимо от понятия осквернения, профанации, связанного с неразрешенной…
– Я могу сообщить вам и еще кое-что. Эта ваша сестра разбирается в том, как надо обращаться с пациентами, в тыщу раз лучше, чем вы. Она по крайней мере делала свое дело с увлечением. Это вам надо у нее поучиться, а не наоборот.
– Я уже объяснила, почему не могу проявить к вам никаких чувств, мистер Грин. Боюсь, вам придется к этому привыкнуть. Как, кстати говоря, и сестре Кори. Потому я и отчитала ее. Наша единственная функция – обеспечить вам источник эротического возбуждения. В этой области, в области различных методик совокупления – разумеется, в разумных пределах и в зависимости от состава сотрудников, – вам следует только попросить, и мы сделаем все, что в наших силах. Если вы предпочитаете иные позы, мы можем предложить вам почти все имеющиеся в «Камасутре»{10}, в «Хокуата Моносаки», у Аретино{11}, Кинси{12}, Сьестрема – исключая, разумеется, бразильскую вилку, о чем я вас уже предупреждала, – Мастерса{13} и…
– А знаете, что я вам еще скажу? В вас самой эротики – как в том гребаном айсберге!
– Спасибо, что упомянули об этом, мистер Грин. Я глубоко верю в успех нашей терапии, особенно в тех случаях, когда достигается полное сотрудничество с пациентом. И вижу, что в данном случае показано балансирующее применение оральных процедур.
Прежде чем он мог произнести хотя бы слово в ответ, руки ее подогнулись и она упала ему на грудь. Он было попытался в последний момент ее оттолкнуть, но было слишком поздно. Несколько мгновений спустя она приподнялась на локтях, теперь лицо ее нависало прямо над его лицом. Он вглядывался в ее глаза ошеломленно и озадаченно, пытаясь понять, что же кроется в их глубине, за темно-карими радужками, но безуспешно.
– Ну вот, мистер Грин. Надеюсь, это убедит вас, что методика нашей клиники не исключает некоторых взаимных уступок эрогенным реалиям. – Она бросила взгляд на его губы, наклонилась и легко поцеловала их напоследок. – Чувствую, вы станете одним из моих лучших пациентов. – Она снова поднялась на руках. – Посмотрим, сумеем ли мы довести вас до соответствующей кульминации. Сестра! Вы готовы?
– Да, доктор.
Он глянул в сторону и увидел, как сестра, теперь уже полностью облаченная в униформу, поднялась со стула у углового столика, где до сих пор сидела, и подошла к ним. Тут он почувствовал, как напряглись вагинальные мускулы доктора Дельфи.
– Прекрасно, мистер Грин. Отличная работа. Теперь несколько ускорим темп. Не могли бы вы положить руки мне на бедра? Сожмите их покрепче. Я хочу, чтобы вы сами задавали ритм. – Процедура возобновляется в убыстренном темпе. – Не переусердствуйте, мистер Грин. Просто равномерно распределяйте толчки. Держитесь как можно дольше. – Она еще ниже наклоняет голову, вглядываясь туда, где соединяются их тела. – Замечательно. Отдых… Толчок! Еще раз. Вот и все, что вам нужно делать, мистер Грин. Отдых – толчок. И снова. Уверенный ритм, без перебоев, вот и весь секрет. Блеск! Еще раз. Со всего размаха. Прекрасно. Всем телом, пожалуйста. Держите ритм. Так полезнее для вас, полезнее и для вашего новорожденного.
– Для моего новорожденного?!
Однако доктор Дельфи слишком занята своим терапевтическим курсом, чтобы откликнуться. Он бросает отчаянный взгляд на сестру Кори, стоящую у изголовья кровати:
– О чем это она? Какой еще новорожденный?
Сестра прикладывает палец к губам:
– Вы просто сконцентрируйтесь, мистер Грин. Теперь уже недолго.
– Но я же мужчина, в конце-то концов!
– Вот и наслаждайтесь! – И сестра подмигивает ему.
– Но…
Тут резко вмешивается доктор Дельфи:
– Мистер Грин, прекратите вербализацию! – Дыхание ее стало прерывистым, ей приходится умолкать после каждой фразы. – Так. Последнее усилие. Я чувствую его приближение. Хорошо. Хорошо. Прекрасно. От бедер. Изо всех сил. – Голова ее по-прежнему низко наклонена, видимо, доктор Дельфи наблюдает за все усиливающимися, убыстряющимися движениями их слившихся чресел. – Ну вот… вот мы какие… великолепно. Великолепно. Теперь все в порядке. Продолжайте. Не останавливайтесь. Вплоть до последнего слога! Сестра!
Он смутно отмечает, что сестра Кори прошла к изножью кровати и исчезла из виду, так как энергично работающая доктор Дельфи, все еще опираясь на вытянутые руки, загораживает обзор.
– Ну, последний толчок. Еще один. Еще. Самый последний!
Она коротко вскрикивает, будто и вправду разрешилась от бремени, и движение прекращается. Молчание. Он сознает, что сестра Кори опять отошла к столу в углу комнаты. Доктор Дельфи не поднимает головы, концы ее шарфика спустились совсем низко. Она пытается отдышаться, делая частые вдохи, будто только что ныряла на большую глубину. Потом без сил опускается ему на грудь. Кожа ее стала влажной от пота, и он слышит, как колотится у нее в груди сердце. Но ее изнеможение – совершенно явно – результат физических усилий, а вовсе не бурных эмоций, так как лицо она от него отвернула.
Примерно полминуты или около того он взирает на потолок в состоянии запоздалого шока. Под конец ему все же не удалось настолько полно сохранить объективность, насколько хотелось бы, но он и не настолько увлекся, чтобы не отметить некоторые странные слова и неверные концепции… им овладевает ужасное подозрение: что, если, несмотря на ее утверждение обратного, он все же оказался в сумасшедшем доме, учреждении для умалишенных, и каким-то образом попал в руки двух других пациентов… пациенток… по недосмотру настоящих сестер и врачей? Но с какой стати мог он очутиться в подобном учреждении? И с какой стати мог подобный недосмотр иметь место?
Он незаметно глянул через всю комнату в сторону сестры Кори. Она сидела к нему спиной – не совсем, вполоборота, склонившись над бумагами, лежавшими на столе, – видимо, над историей его болезни. Ничто в ней не говорило о сумасшествии; наоборот, она так усердно вчитывалась в текст, останавливаясь то на одном, то на другом параграфе, что в ней приоткрылась теперь иная черта – старательность усердной ученицы. Да и тело той, что всей своей тяжестью лежала теперь на нем, выглядело не иначе как абсолютно нормальным. Ни рыданий, ни кудахтающего довольного смеха. Как ни странно, он находил молчание доктора Дельфи, ее очевидное изнеможение довольно трогательными; ему хотелось утешить ее, как хотелось бы утешить бегунью, выбившуюся из сил на дистанции, но так и не добившуюся победы (поскольку память о чем-либо ином, кроме его профессии – да даже и это, как он подозревал, представлялось хоть и вполне возможным, но все-таки недостаточно точным, – оставалась по-прежнему мучительно вне пределов досягаемости); так что он с некоторым опозданием позволил себе приобнять доктора Дельфи и легонько прижать к себе.
Теперь, в состоянии относительного покоя, в размеренно тикающей тишине, он принялся размышлять. Может быть, за этим фрейдистским жаргоном, в том, что говорила доктор Дельфи, все-таки кроется зернышко истины, какая-то строго клиническая правда? Если дать себе время подумать, может, лучше ему подождать с обличительно-разоблачительной речью в парламенте? Необходимо продолжить изучение вопроса. В конце концов, первейший долг каждого честного политика сегодня не столько разоблачать дурное, сколько не быть втянутым в это дурное – ни за что, ни при каких обстоятельствах.
Его взгляд снова устремляется в угол комнаты – туда, где виднеется затянутая в аккуратную униформу фигура сестры Кори, по-прежнему погруженной в изучение истории болезни. Изящные смуглые руки, стройные щиколотки и лодыжки под краем крахмальной голубой юбки… Если его болезнь действительно настолько тяжела – а именно такое предчувствие у него теперь возникло, – тогда ему придется смириться с тем, что лечение может оказаться весьма долгим, и принять эту неизбежность, как подобает мужчине. Он вдруг испытывает необычайно сильное желание прошептать несколько слов в этом смысле, зарывшись лицом в темные волосы у самой своей щеки, но удерживается – это было бы самую малость преждевременно. Надо прежде всего подумать о том, как это повлияет на дальнейшее. Тем не менее он осторожно гладит влажную спину доктора Дельфи, по-доброму, по-братски, как бы молчаливо кое за что извиняясь, просто чтобы дать понять: он признает – она сделала все, что в ее силах, хоть и не добилась успеха.
Доктор Дельфи не откликалась. Он заподозрил, что она на миг задремала. Что ж, он не против; наоборот, хоть и невольно, это его еще больше растрогало. Это доказывало, что ничто человеческое ей не чуждо. Вес ее стройного, изящного тела вовсе не был ему неприятен, формы у нее были почти столь же хороши, что и у сестры Кори. Вряд ли можно было при данных обстоятельствах считать, что, словно кошка, он сумел упасть на все лапы; но что-то подсказывало ему, что все могло бы быть гораздо хуже. Если подумать, он и сам ощущал приятную усталость во всем теле и потеря памяти тревожила его гораздо меньше, чем раньше.
Он закрыл глаза, но какой-то звук заставил его снова раскрыть их. Сестра Кори поднялась от стола и шуршала бумагами, постукивала ими по столу, складывая их вместе, выравнивая края. Она обернулась к нему, весело и живо, вполне оправившаяся от выволочки, и вернулась к кровати; глаза ее были устремлены на него, небольшая стопка листков прижата к груди.
– Ну, мистер Грин, ну молодец мальчик! И кому это тут удача привалила?
– Какая удача?
Она подошла на шаг ближе, встала совсем рядом и бросила взгляд на листки, перегнувшиеся через прижатую к груди правую руку; потом кокетливо и лукаво улыбнулась ему:
– Какой рассказ написал! И совсем один, без чужой помощи.
Ничего не понимая, он смотрел на ее глупо-сентиментальную улыбку. Сомнения, которые он так успешно отверг, охватили его с новой силой. Он в психиатрической больнице, девушка безумна, обе они безумны. Они наверняка знают, что он – значительная персона, почти наверняка член парламента. А теперь она пытается намекнуть, что он какой-то писака, жалкий новеллист или что-то вроде того. Это же абсурдно! Но дальше все стало еще абсурднее, так как сестра, явно пользуясь кажущимся забытьем доктора Дельфи и снова нарушив все правила поведения медперсонала, уселась на край кровати.
– Вот постойте-ка, мистер Грин. Послушайте. – Она склонила хорошенькую головку, увенчанную белой шапочкой, и принялась читать верхнюю страницу, осторожно ведя пальцем по словам, словно касалась носика новорожденного или его крохотных сморщенных губ: – «ОНО сознавало, что погружено в пронизанную светом бесконечную дымку, как бы парит в ней, словно божество, альфа и о-ме-га…» – Она живо сверкнула улыбкой в его сторону. – Вы это так произносите, мистер Грин? Это греческое слово, да? – Не ожидая ответа, она продолжала читать: – «…сущего, над океаном легких облаков, и смотрит…»
ТР-РАХ!
II
Мнемозина – дочь Урана и Геи{14}, мать девяти муз, рожденных от Зевса, который принял образ пастуха, чтобы насладиться сообществом; имя ее по-гречески означает «память». Мнемозине приписывается искусство рассуждения и наречения соответствующими именами всех вещей, с тем чтобы мы могли их описывать и беседовать о них, их не видя.
Lemprire. Under «Mnemosine»{15}
Эрато – покровительствовала лирике, нежной и любовной поэзии; изображалась в венце из роз и цветов мирта, с лирой в руке, с видом задумчивым, но иногда и весело оживленным; к ней обычно взывали влюбленные, особенно в апреле.
Lemprire. Under «Erato»{16}
Дверь палаты распахивается от яростного пинка ногой. В проеме возникает невообразимо злобное привидение, прямиком из ночного кошмара… или, точнее, прямо с рок-фестиваля панков… Черные сапоги, черные джинсы, черная кожаная куртка. Пол привидения не сразу становится очевиден: более всего оно наводит на мысль о гермафродитизме. Единственное, что можно сказать совершенно определенно, – это что оно в ужасающем гневе. Под черной курткой, увешанной невероятного размера английскими булавками (еще одна такая булавка свисает с мочки левого уха) и значками с изображением свастики, виднеется белая футболка с намалеванным на груди пистолетом. Торчащие иглами во все стороны волосы на голове тоже белые, абсолютно белые, как у альбиноса, невозможно понять, от чего – от краски, от перекиси или от ужаса при виде лица, над которым растут.
Глаза пугающе обведены внушительными кругами черной туши, заставляя думать не столько о косметике, сколько о недавно проигранной кулачной схватке; это вполне сочетается с тем, как выглядит рот: губы, по всей видимости, начищены той же ваксой, что и сапоги на ногах, только что пинком распахнувших дверь. Левая рука с тесно сжатыми в кулак пальцами покоится на бедре, в то время как правая стиснула шею почти бестелесной электрогитары. За гитарой тянется недлинный хвост – обрывок разлохмаченного на конце шнура, выдранного из звукоусилителя с такой яростью, что шнур оборвался посредине.
Но запредельный ужас оставлен напоследок. Как ни трудно поверить, и в позе, и в строении лица кошмарного привидения, несмотря на отвратительную маскировку, видится что-то явно знакомое. Постепенно становится ясно, что это вовсе не гермафродит, не оно, а она, и не просто она, а абсолютный двойник доктора Дельфи, лежащей на кровати. Это можно определить по обведенным черными кругами глазам. А еще – по реакции того, на кого направлен злобный и обвиняющий взгляд этого жуткого клона. По некоторым признакам предполагаемый член парламента, хоть и явно потрясенный, не так уж удивлен. Высвободившись – с быстротой и энергией, до тех пор вовсе не характерных для его поведения, – он садится, опираясь на одну руку, бросает мимолетный взгляд на все еще лежащую ничком партнершу и снова всматривается в невероятную фигуру, торчащую в дверях; потом решается заговорить с ней:
– Вы… – Он сглатывает комок в горле. – Я… – Он снова сглатывает.
Единственная реакция дьявольского двойника заключается в том, чтобы прошагать на середину комнаты и резко там остановиться, широко расставив ноги. Гриф гитары теперь угрожающе выставлен вперед, словно дуло пулемета, и нацелен на бедную беззащитную докторицу. Рука с грязными ногтями поднимается и резко ударяет по струнам – так мог быкакой-нибудь головорез в Глазго полоснуть бритвой по лицу. В палате раздается неописуемо громкий звон истерзанного арпеджио. Миг – и на кровати уже нет доктора Дельфи, лишь чуть заметная вмятина на подушке, где покоилась ее голова.
Сестра Кори, в испуге вскочившая на ноги, открывает рот, пытаясь закричать, но безжалостная гитара уже рывком направлена в ее сторону, и грязные пальцы успевают злобно полоснуть по стальным струнам. И вот сестра – изящные смуглые руки, бело-голубая униформа, испуганные глаза – мгновенно, как не бывало, растворяется в воздухе, оставив за собой лишь трепетание рассыпающихся машинописных листков. Бам-трам-блям – гремит кошмарная гитара… в ничто бесследно уходит каждый листок.
Завершив безжалостную и молниеносную бойню в честь Дня святого Валентина, Немезида{17} устремляет взор пылающих гневом глаз на пациента: словно менада{18}, она все еще пребывает во власти испепеляющей ярости. Она говорит, и речь ее звучит словно взрыв:
– Ах ты, ублюдок!
Майлз Грин выбирается из постели, торопливо стягивая за собой резиновую подстилку и используя ее как импровизированный передник.
– Минуточку! Вы, кажется, перепутали палату. Забыли, куда шли. И что хотели сказать.
– Женофоб гребаный! Шовинист!
– Спокойно, спокойно!
– Вот я покажу тебе «спокойно»! Дерьмец занюханный!
– Но не можете же вы…
– Чего это я не могу?
– Как вы выражаетесь?!
Ее черные как смоль губы искривляются в яростной издевательской ухмылке.
– Я, блин, могу выражопываться как захочу. И буду, будь спок.
Он отступает, плотно прижимая к животу резиновую подстилку.
– И этот наряд. Вы же на себя не похожи.
Она угрожающе наступает – один шаг, другой…
– Но нам ведь удалось как-то распознать, кто я. – Губы снова презрительно искривляются. – Несмотря на наряд. Не так, что ли?
Он отступил бы еще дальше, но обнаруживает, что стоит у обитой мягкой тканью стены.
– Просто мне пришла в голову эта мысль.
– Ни хрена тебе не пришло. Нечего лапшу на уши вешать.
– Маленький тест. Первые наметки.
– Катись в зад.
– Я думал, больше никогда вас не увижу.
– Ну вот, блин, ты меня опять, блин, видишь. Усек, нет?
Он пытается ускользнуть вбок, вдоль стены, но обнаруживает, что загнан в угол и стоит, прижавшись спиной к девичьим грудкам обивки, лицом к грозному гитарному грифу. Его награждают кислотно-щелочным взглядом, потом возмущенно трясут пальцем перед самым его носом.
– Ты хоть понимаешь, чего натворил, блин? Испортил мне самое клевое из выступлений за много лет. Мне стоило только один гребаный аккорд взять, и шестнадцать тыщ ребят тащились как бешеные.
– Легко могу поверить.
– Думаешь, у меня получше дела не найдется, чем тут, как дерьмо в проруби, болтаться да порнуху разводить? У тебя что, совсем мозга за мозгу зацепилась?
– У меня создается впечатление, что уровни дискурса у нас с вами не вполне совпадают.
Она оглядывает его с ног до головы: во взгляде – тотальное презрение; потом лицо ее складывается в насмешливую гримасу.
– А как же! Совсем из памяти вон. Плюс обычные детали. – Углы ее губ саркастически ползут вниз. – Более глубокие уровни смыслов. Ха! – Она смотрит так, будто вот-вот плюнет ему в лицо. – Жалкий притворщик. Ты же, блин, теперь даже не представляешь, где они и что.
– Если вы не против, я бы осмелился заметить, что вы несколько переигрываете с «блином» и прочими вещами в избранной вами стихомитии{19}.
– Да пошел ты знаешь куда с твоими стебаными замечаниями! – Она снова бросает на него испепеляющий взгляд. – Чесслово, блин, от тебя уже рвать тянет. Доктор А. Дельфи — ни хрена себе! Это что, по-твоему, каламбур?{20} Дерьмо собачье! А сестра Кори?{21} Господи помилуй! Вонючее снобистское хлебово. Ты что, решил, весь долбаный мир до сих пор по-грецки разговаривает?
Он бросает на нее взгляд искоса, в котором сомнение и вопрос:
– Не в политику ли вы вдруг ударились?
Она трясет головой, снова впадая в ярость:
– Которые произведенья честные, то есть немещанские, всегда политические. Если их пишут не буржуйские зомби вроде тебя.
– Но вы же раньше…
– Не смей мне в нос тыкать тем, что я раньше. Не моя, блин, вина, если я оказалась жертвой исторического заговора фашиствующих мужиков.
– Но в последний раз, когда мы…
– Хватит заливать!
Он опускает глаза. Потом делает новую попытку:
– Очень многим и в голову бы никогда не пришло.
– Да пошли они все! – Она сердито тычет большим пальцем себе в грудь, туда, где на футболке намалеван пистолет. – Учти – сестричку охмурить не так-то легко. Не надейся и не жди. Кто ты есть-то? Типичный капиталистический сексуальный паразит. Только горя с тобой и нахлебалась, идиотка такая, с тех пор как решила время на тебя потратить. – Он и рта не успевает раскрыть – она продолжает: – Трюки всякие. Игрушечки. Только и пытается эксплатнуть, и в хвост и в гриву. Но так и знай – это в последний раз тебе со мной удается, ты, подонок! – Она лягает пяткой кровать. – Что ты из моего лица-то сделал? Из моего тела? Вырезалку картонную?
– Но я же дал всего лишь общее описание.
– Дерьмо!
– Мы же когда-то были такими друзьями!
Она передразнивает его тон:
– «Мы же когда-то были такими друзьями!» – и снова трясет головой в его сторону. – Я тебя с незапамятных времен насквозь вижу. Все, чего тебе надо, – это разложить меня по-быстрому.
– По-моему, вы меня с кем-то путаете. С Вальтером Скоттом. А может, с Джеймсом Хоггом.{22}
Она прикрывает веки, будто считает до пяти, потом снова впивается в него уничтожающим взглядом:
– Господи, вот если бы ты тоже был персонажем! И я могла бы просто стереть тебя со всеми твоими бездушными, бесполыми, бумажными марионетками.
Она отирает рот тыльной стороной ладони. Он предпочитает немного помолчать.
– Вы сознаете, что ведете себя скорее как мужчина?
– Эт ты что хочешь этим сказать?
– Моментальные оценочные суждения. Интенсивное сексуальное предубеждение. Не говоря уже о попытке укрыться за ролью и языком, свойственными среде, к которой вы вовсе не принадлежите.