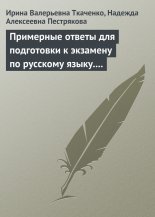Свечка. Том 2 Залотуха Валерий
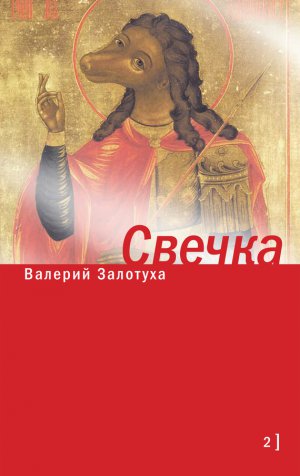
Страх Божий, это обязательное чувство православного христианина, которое многим приходится в себе культивировать, было всегдашним и всамделишным чувством семьи Твороговых.
Да и как не бояться Бога, который попускал им такие испытания?
Твороговы боялись фининспектора Зильбермана, обкладывавшего их таким налогом, что иной раз матушка Неонила не могла найти лоскутка ткани, чтобы починить прохудившиеся детские штанишки. Боялись начальника милиции Угловатого, готового из любой детской шалости состряпать дело и отправить «попят» в колонию для малолетних преступников, потому мальчики Твороговы по улице по одному не ходили, чтобы кто безнаказанно не задрался, девочки же не ходили без братьев, чтобы кто, не боясь наказания, зажав в уголок, их не пощупал. Боялись завотделом пропаганды райкома партии Поломошнову, которая ходила на Пасху вокруг их дома и высматривала, не валяется ли где крашеная яичная скорлупа, и если ее находила, врывалась к Твороговым в пресветлый день и, брызгая слюной, кричала: «Дома красьте и жрите свои яйца, а на Советской улице не сметь!» (Твороговы жили на Советской.) Боялись известного местного сексота Крайко, и хотя почетный стукач находился на заслуженном отдыхе, он частенько простаивал во дворе напротив твороговских окон, поглядывая на них и делая какие-то записи в блокноте, боялись соседа по уплотнению по прозвищу Четвертинка, у которого, как все говорили, была «справка» и который кричал, напившись: «Я вашу чертову церковь сожгу к чертовой матери, и мне ни черта не будет!»
Соседей по уплотнению было несколько семей, они занимали большую часть бывшего твороговского дома, когда-то красивого и ухоженного, а теперь серого, убогого, с множеством выгородок и пристроек, и не надо здесь объяснять, как «уплотнители» относились к бывшим хозяевам дома, ютящимся в двух последних комнатках.
Все эти страхи были, так сказать, очевидные, но существовали и другие, недоступные и непонятные непосвященным.
Девицы Твороговы, например, страшно боялись, что не выйдут замуж, так как выйти они могли только за своих, православных, поповских, а ближайший приход находился в трехстах километрах отсюда, и у тамошних батюшки и матушки было шестеро детей, но все девицы.
Как кукушки, эти таинственные птицы, в поисках своей половины в одиночку прилетающие из Африки в Европу, как еще более таинственная рыба-угорь, собирающаяся со всех морей и океанов в единственное Саргассово море, чтобы там найти своих и продолжить род, так и поповские семьи, рассеянные на одной шестой части суши, прореженные советской властью до предела – выведывали, списывались, съезжались, чтобы узнать: а нет ли у вас жениха? а нет ли у вас невесты? И если был (была) – не выбирали и не раздумывали, скоренько благословлялись у родителей, стоя перед ними на коленях с образами Спасителя и Богородицы, венчались тихо и жили мирно, рожая чуть не каждый год по ребеночку.
Были ли они счастливы?
В сладких тяготах служения, в бесчисленных и бесконечных бытовых заботах праздный этот вопрос никем не ставился, может, потому и разводов не отмечалось.
Так и вели они свою полузаметную, полузапретную, полусекретную жизнь – сумеречные люди, не признающие красных дней календаря, напрочь отрицающие праздников праздник всех советских людей – Новый год.
О, этот Новый год, когда в Новоленинском на площади Ленина стояла огромная нарядно украшенная елка с разноцветными гирляндами лампочек, из динамиков звучала эстрадная музыка, а по улицам расхаживала веселая молодежь, – Твороговы же в это время постились Рождественским постом, зябли в плохо протопленных комнатках, утомленно молились, стараясь не видеть, не слышать, не замечать царящего вокруг веселья.
Малые и большие страхи каждого сливались в общий твороговский страх, когда в новогоднюю ночь по радио передавали поздравление Советского правительства и в нем каждый раз звучали слова: «мир и безопасность»[1].
Тогда о. Серапион бледнел, матушка Неонила плакала, а дети бухались на колени перед иконами и испуганно напоминали Богу:
– Господи, нам же школу нужно закончить!
Страхи маленького Серафима равнялись всем твороговским страхам, помноженным на десять. Когда он пошел в школу, из старших братьев там уже никто не учился и некому было защищать толстого попенка со всеми его странностями. Например, он не выходил к доске, не перекрестившись, и как ни боролись учителя и ученики, ничего с этим поделать не могли. А если прибавить к этому оставшийся на всю жизнь животный страх перед зверем по имени коза, то остается только удивляться, как о. Мардарий в свои детские годы не разучился смеяться, а делал это часто и охотно.
Почти всё для детей Твороговых было в их семье проблемой, почти на всякое их действие требовалось родительское благословение. Даже чтобы рассказать братьям и сестрам случившуюся в классе забавную историю или невинный детский анекдот, прежде должно было получить высокое разрешение, и вот как это происходило.
Приходит, допустим, кто из школы домой и его буквально распирает сегодняшнее происшествие в классе, история рвется наружу так, что он места себе не находит. (Происходило это еще и потому, что в посты и постные дни рассказывать подобные истории запрещалось категорически, а не стоит забывать, что таких дней в православном календаре больше двухсот сорока.) И вот он, бедняга, подходит к своему родному отцу и одновременно к отцу духовному – о. Серапиону и просит дрожащим от волнения голосом:
– Благословите, батюшка, веселую историю рассказать.
До последнего дня твороговские дети были с родителями на «вы», а слово «анекдот» в числе многих других находилось под запретом, вместо него применялось понятное и безвинное словосочетание – веселая история.
– Выдуманная или невыдуманная? – хмуро спрашивал о. Серапион, который в принципе не любил подобные обращения, не находя во всех этих историях благочестивого смысла.
– Невыдуманная! – всегда обещал проситель, так как невыдуманная, быль, имела больше шансов пройти родительскую цензуру – все выдуманное изначально вызывало подозрения.
О. Серапион недовольно хмыкал и молча тыкал указательным пальцем в свое большое войлочное ухо. От волнения рассказчик хватал ртом воздух, вставлял мордочку в родительскую ушную раковину и, морщась от щекочущих волос, рассказывал свою невыдуманную историю. В это время на почтительном, чтобы ненароком не услышать, расстоянии стояли в ожидании остальные маленькие Твороговы, напряженно вглядываясь в батюшкино лицо, считывая его сдержанные эмоции и слабо надеясь на положительное решение. Они знали: если левая батюшкина бровь, а затем и правая начинают подламываться, как перегруженный мосток, – надежды нет, последует запрет, и запрет непременно следовал. Если же правая, а затем левая брови начинают громоздиться вверх домиком, то надежда есть, и чем острее у домика крыша, тем надежда больше. (Наверное, со стороны это забавно выглядело: восемь отроков и отроковиц не сводят глаз со своего отца, невольно повторяя его мимику: у батюшки бровь провалилась – и у них у всех проваливается, у батюшки бровь взгромоздилась – и у них точь-в-точь то же самое.)
Да, надо все-таки назвать всех твороговских детей по именам в том порядке, в каком они на свет появились: Василий, Аграфена, Николай летний, Савва, зимний Николай, Вера, Надежда, Фекла и, наконец, Серафим. И если разрешение было получено, и рассказчика благословляли на его рассказ все, включая матушку Неонилу, обращали на него свой нетерпеливый голодный до веселого взор. Смеяться начинали, когда еще не было произнесено первое слово, но как же смеялись по окончании любой веселой истории, и всё смеялись и смеялись, как бы не желая ее от себя отпускать.
В защиту о. Серапиона надо сказать, что он не был ни букой, ни злюкой, сам любил посмеяться, а о матушке Неониле и говорить нечего – первая была в Новоленинском хохотушка, но – память о расстрелянной и изведенной в ГУЛАГе твороговской родне, как о. Серапион считал, не давала им права бездумно веселиться. Именно поэтому по детской беспристрастной статистике на одно батюшкино благословение приходилось два – два с половиной запрета. А после запрета наблюдалась совсем другая картина. Надежда услышать веселую невыдуманную историю сгорала, опаляя холодным огнем лица и остужая души, и все молча расходились по своим углам.
Это – слушатели.
Но каково же было несостоявшемуся рассказчику!
Веселая невыдуманная история билась в нем, как бьется в силках яркая голосистая птица, стремясь вырваться на волю, чтобы радовать мир своим пением и оперением, – несчастный выбегал во двор, где в сараюшке жил твороговский гончий пес, и, обхватив руками его каменную, пахнущую псиной башку, рассказывал, рассказывал, рассказывал ему свою веселую историю, не надеясь уже услышать в конце счастливый благодарный смех.
Это что касается отроков Твороговых, что же до отроковиц, то их положение было еще более непростым, ведь перед отцовской мужской цензурой им приходилось пройти цензуру материнскую, женскую – матушка Неонила решала, какие слова могут вылететь из девичьих уст и какие вправе влететь в юношеские уши. Впрочем, матушкина цензура всегда оказывалась значительно мягче батюшкиной, нередко разрешение следовало после первых слов истории или после перечисления ее героев. Поэтому тут нередко возникали спорные ситуации: матушка разрешала, а батюшка нет, но последнее слово, конечно, оставалось за о. Серапионом.
Как уже говорилось, Серафим оказался оторванным от старших годами, что также несло в себе холодность отношения к нему братьев и сестер, не говоря уже о том влиянии, которое имел на всех отец. Исключением была лишь Фекла, самая близкая Серафиму не только по возрасту, но и по характеру, и как только у матушки Неонилы случалась нужда спустить любимца со своих коленей, он тут же оказывался на коленях этой своей сестрички. И с веселыми невыдуманными историями у Серафима складывалось все гораздо хуже, чем у братьев и сестер.
Придя в первом классе из школы, он пожелал таковую историю всем рассказать, а так как до четвертого класса мальчик в семье Твороговых приравнивался к девочкам и даже ходил вместе с матерью и сестрами в баню, то первой услышала ее матушка Неонила. История была очень короткая, всего-то в три слова, но, услышав ее, матушка бухнулась на пол без чувств. О. Серапион побрызгал на супругу святой водой, дал валерьяновых капель и сурово обратился к начинающему рассказчику веселых невыдуманных историй с предложением повторить ему то, что вызвало у матушки обморок. Ничтоже сумняшеся, Серафим повторил три тех самых слова батюшке, после чего о. Серапион развернул рассказчика к себе спиной и решительно приложился родительской коленкой к мягкому месту пониже спины бедного Серафимушки, так что тот полетел, будто хорошо накачанный футбольный мяч, к счастью, вылетев не в аут, а угодив в несмотря ни на что любящую свою мамочку, которая его удержала, как вратарь, и прижала к себе.
После этого случая последовал строжайший запрет, касающийся исключительно Серафима, – в ближайшие три года он не имел права рассказывать в семье свои истории, буде они невыдуманные, а тем паче – выдуманные.
Но что же такое сказал безвинный Серафим, что лишило матушку чувств и заставило батюшку нанести ребенку безжалостный удар?
Пересказать это решительно невозможно, а вот в записи история просто-таки невинна, и не расскажи он ее тогда родителям, а подай записочкой, пожалуй, и не поняли бы ничего батюшка с матушкой. Фраза делается похабной в устной речи, на это и рассчитывал твороговский идейный враг – учитель физкультуры Врагов, намеренно научая несмышленыша.
Итак:
Под столом трусы и бутсы.
Прочтите эти слова вслух, и вы всё поймете.
Поняли?
Ну вот…
И в дальнейшем у Серафима было все не так, как у его братьев. Если бы на кого из них подобный запрет был наложен, то, без сомнения, никто не решился бы его нарушать. Но, мятежная душа, будущий о. Мардарий был не таков. Вынужденное свое молчание он хранил не три, а всего лишь два года. Молчание то было воистину мученическим. Сколько раз он сиживал у собачьей конуры, рассказывая свои веселые выдуманные и невыдуманные истории Заливаю, а тот махал приветливо хвостом, радуясь общению и думая при этом: «Было бы совсем хорошо, если бы ты мне еще пожрать принес».
Но, учась уже в третьем классе, рано повзрослевший от невзгод Серафим пришел однажды из школы и с очень серьезным, трагическим даже видом предъявил родителям ультиматум:
– Матушка-нат и батюшка-нат, если вы-нат и все здесь-нат сейчас-нат не выслушаете-нат мою веселую историю-нат, то я-нат умру-нат, но не понарошку-нат, а по-настоящему-нат и буду-нат потом-нат в маленьком гробике-нат среди бумажных цветочков лежать-нат, а вы, батюшка-нат, будете меня отпевать-нат, а вы, матушка-нат, горько плакать-нат!
Слова эти были настолько неожиданными, что о. Серапион, глянув на побледневшую супругу, тут же дал свое разрешение безо всякой предварительной цензуры, не поинтересовавшись даже, выдуманная та история или невыдуманная.
– Ну что ж, Серафим, рассказывай, – глухо проговорил он, напрягаясь вместе с остальными слушателями.
И Серафим стал рассказывать.
– Стоит на полянке ежик-нат, стоит и прыгает-нат, и смеется-нат, – волнуясь до видимой телесной дрожи, заговорил мальчик. – Прыгает и смеется-нат, прыгает и смеется-нат, прыгает и смеется-нат… – В этом месте Серафима заело, и он повторил «прыгает и смеется» еще раз пять, пока самый старший брат его не прервал.
– Ну всё уже, напрыгался…
– Нет, не всё-нат, не напрыгался-нат! – упрямо не согласился младшенький и заставил бедного ежика еще немного попрыгать и посмеяться, после чего перешел к новому персонажу своей истории.
– А навстречу ему лось-нат.
– Кто? – не понял о. Серапион.
– Лось-нат, – наморщил лоб Серафим, недовольный тем, что его перебивают.
– Кто-кто? – все еще не понимал батюшка.
– Да лось же, господи! – воскликнула в сердцах матушка Неонила и даже махнула рукой на хозяина своей жизни.
– А, лось! – поняв наконец, кивнул о. Серапион, ввиду важности момента не обратив внимания на недопустимое поведение своей супруги.
– Лось спрашивает ежика-нат: «Ты чего смеешься-нат?» А ежик отвечает-нат: «Ты попрыгай, как я-нат, тоже будешь смеяться-нат».
В этом месте матушка прыснула в кулак и все, даже батюшка, заулыбались.
– Лось-нат прыгает-нат, прыгает-нат, прыгает-нат и все не смеется-нат. Остановился-нат, смотрит на ежика-нат… А ежик на него-нат… И молчат-нат. – В этом месте последовала пауза, во время которой Серафим удивительным образом преобразился в ежика – он смотрел по-ежиному на представляемого огромного сохатого и заговорил по-ежиному – бодро, но с какой-то печальной хрипотцой: – А тебе разве-нат травка брюшко не щекочет-нат?
Вот тут Твороговы душу отвели, вот тут повеселились! О. Серапион грохотал раскатисто и басовито, матушка заливалась, запрокинувшись назад и повизгивая, а один из братьев, то ли первый Николай, то ли второй, повалился на пол и дрыгал от смеха ногами, и отовсюду слышалось:
– Травка!
– Брюшко!
– Щекочет!
– Ой, не могу!
Не смеялся лишь один Серафим. Во-первых, потому что отсмеялся в классе на уроке, когда услышал историю от соседа, и выпал из-за парты, о чем имелась соответствующая запись учителя в дневнике, и, хотя ему очень хотелось теперь вместе во всеми своими свободно и безнаказанно посмеяться, он не мог себе этого позволить, потому что ощущал себя героем. Да он и был героем, героем этого дня, а где это вы видели, чтобы, совершая свои подвиги, герои смеялись? Слезы Серафим в тот момент глотал, это правда, но то были героические слезы.
Рассказывая детский анекдот, Серафим невольно пророчествовал о себе и своей судьбе. Ведь это он был тем самым ежиком, которому травка всегда щекочет брюшко, а единственный его, самый лучший, самый надежный, самый сильный друг и брат во Христе о. Мартирий был конечно же лосем.
Маленькая, но очень важная деталь: ежиком о. Мардарий был необычным, он был ежиком с мягкими иголками. Известно, что все ежи такими рождаются, а спустя какое-то время твердеют до строгих своих колючек. Но по какой-то причине, быть может, из-за необычности своего рождения, воспитания или еще чего, иголки ежика Серафима остались мягкими. Что тут говорить, незавидна судьба такого совершенно не колючего ежа – скушает его первая встречная лиса, проглотит волчица, раздавит присевший отдохнуть медведь, но с лосем, этим, по сути своей мирным, но сильным, могучим животным, ему никто не страшен в сумрачном лесу жизни.
О встрече этих двух внутренне и внешне похожих на лося и ежа людей нам, видимо, придется особо рассказать, но пока мы говорим не о двоих, а об одном…
…и его мятежная юность
Телевизора у Твороговых не было не только по бедности, но и из принципиальных соображений – а ну как покажут что-нибудь не то? А с точки зрения православного христианина там все время показывали не то. Дети, несомненно, страдали, завидовали соседям с телевизором и иногда – нет, не смотрели, конечно, но – подсматривали – с улицы, через окно.
Увиденное впервые фигурное катание маленьких Твороговых настолько потрясло, что было тут же замечено родителями, за чем последовало суровое наказание. Оно заключалось в запрете на какой-то срок на причастие святых Христовых тайн, и более страшной кары Твороговы дети себе не представляли. Первенец Василий сказал однажды по этому поводу: «Лучше мне голым задом на горящую плиту сесть и ждать, пока вода во рту закипит, чем без причастия жить», – эта его фраза стала в семье крылатой и повторялась всеми, вплоть до Серафима. Имея в родительском арсенале подобное мощное воспитательное средство, о. Серапион легко добивался послушания от непокорной по своей природе детворы.
Подрастая, взрослея, внутренне обогащаясь, твороговские дети все прохладнее относились к телевидению, говоря: «Да там нечего смотреть». А вот радио слушали, и не только в новогоднюю ночь, правда, не всё, а только радиоспектакли и музыку – классическую и народную. Любимую передачу всех советских людей «С добрым утром!» Твороговы не слышали ни разу, потому что воскресным утром всегда пребывали в храме на службе, и, это может показаться невероятным, не знали, кто такой Аркадий Райкин…
Нет, это надо повторить: не знали, кто такой Аркадий Райкин!
Вслух читали много – по вечерам, всем семейством, и не только Четьи минеи, но и русскую классику. Пушкина любили, Достоевского остерегались, Толстого боялись, с Лесковым спорили.
Но и здесь были запреты.
У любимого Пушкина «Сказка о попе и работнике его балде» не читалась никогда, и не только из-за неверного, на взгляд о. Серапиона, «образа православного священнослужителя», но и из-за того, что слишком много места там уделяется существу для кого-то сказочному, а в твороговской семье вполне реальному, обозначаемому буквой «ч».
Твороговы никогда не произносили слово «чёрт» вслух, а если без него нельзя было обойтись, употребляли только первую букву, причем понизив голос до шепота:
– Ч.
Так называемую советскую классику не читали, хотя, конечно, и «Как закалялась сталь», и «Повесть о настоящем человеке», и «Молодую гвардию» дети в школе «проходили», за что получали мальчики тройки, девочки – четверки, но в семье об этом не говорилось, как о чем-то неизбежном, стыдном.
В течение многих лет почтальон приносил Твороговым одну газету и один журнал. Газетой была «Правда», и читал ее исключительно глава семьи – не только чтобы «быть в курсе», но и «для отвода глаз».
Надев очки, о. Серапион садился у окна, разворачивал газету, чтобы видел сосед-сексот, и прочитывал ее от начала до конца, после чего складывал, поднимался и сообщал семье громким шепотом:
– Всё – неправда!
Опасения и даже страх перед стукачом имели под собой основания: о. Серапион отсидел пять лет за то, что на проповеди назвал Александра Невского святым благоверным князем, а у матушки Неонилы был точно такой же срок за то, что на комсомольском собрании назвала Ленина антихристом.
Батюшка и матушка познакомились в Камышлаге и иногда шутливо говорили своим детям: «Все своих деток в капусте находят, а мы вас в камышах». Впрочем, с рождением Серафима эта семейная шутка уже не повторялась.
Ежемесячно приносимый почтальоном журнал назывался «Охота и охотничье хозяйство». О. Серапион ждал каждый новый номер с нетерпением и прочитывал от корки до корки с карандашом, делая пометки и выписки. В молодости, еще до рукоположения, он успел немного поохотиться с гончими, глотнуть сладкой отравы этой древнейшей мужской страсти. Как священник о. Серапион не имел права стрелять и убивать и никогда этого не делал, но чтобы страсть утолить, ясным зимним деньком становился на широкие лыжи, затягивал свой старый латанный кожух самодельным патронташем, закидывал за спину одноствольную тулку со спиленным бойком, отстегивал от цепи гончака, которые у Твороговых никогда, даже в самые голодные времена не переводились, – Заливая или Догоняя, – других кличек о. Серапион как будто не ведал, и отправлялся в лес.
Пес знал свое дело – быстро находил косого и начинал гонять его по кругу с голосом. А православный охотник присаживался на поваленное дерево и слушал, наслаждаясь торжественным и страстным звуком гона, как наслаждается оперный фанат голосом любимого тенора – иной раз даже до слез. Где-то на четвертом круге о. Серапион выбирал позицию и снимал с плеча ружье. Притомленный бегом заяц останавливался на полянке, присаживался, озираясь, и в это время охотник тщательно выцеливал его, нажимал на спусковой крючок, после чего громко изображал выстрел: «Пу!!!» И еще раз: «Пу!!!» – ружье было одноствольным, но о. Серапион всегда мечтал о двустволке.
– Сегодня трех штук взял, – важно сообщал он матушке Неониле, когда после охоты та отпаивала его чаем с сушеной малиной.
– И не жалко, тебе, батюшка, зайчиков?! – недоумевала и сочувствовала даже неубитым зверюшкам матушка Неонила. – Прыгают себе, скачут, а ты…
– Как не жалко? Жалко, – соглашался о. Серапион, вытирая полотенцем пот со лба. – Но тут уж, матушка, ничего не поделаешь. Охота – это такая вещь…
Меж тем наступила перестройка, и, прочитав в «Правде» очередное бесконечно-длинное и путаное выступление Горбачева, о. Серапион не говорил уже, что все неправда, а тянул в задумчивости:
– Да-а-а…
Помнится, одно из первых произнесенных маленьким Серафимом слов было слово «революция» – оно неожиданно аукнулось спустя много лет, когда в семье Твороговых появился свой революционер. Не только матушке, сестрам и братьям, но и самому батюшке юный Серафим бросал в лицо известный лозунг той поры:
– Перестройку начни с себя!
– Отойди, сатана! А то я тебе сейчас такое ускорение сделаю, что и матушка не удержит! – свирепел о. Серапион.
Братья применяли верное средство против распространяемой в семье революционной заразы – показывали Серафиму козу, и он тут же бледнел и замолкал, а если прибавляли грозно: «Идет коза рогатая!» – горе-революционер в ужасе убегал. Матушка на братьев ругалась, просила не применять этот запрещенный прием, но что им, пребывающим в растерянности, озадаченным новыми временами, было делать?
В о. Серапионе перестройка вызвала смятение. С одной стороны, власть стала относиться к церкви мягче, чем в прежние времена, но это-то и пугало. Нет, не готов он был к новой жизни, и ушел из нее с убеждением, что хуже, чем было, быть не может, но лучше тоже не нужно, потому что потом может стать совсем плохо. Простудившись однажды на охоте, о. Серапион решил выбить клин клином и, несмотря на уговоры матушки, снова на охоту отправился, выбив таким образом клин собственной жизни – слег и уже не поднялся.
Завещание о. Серапиона было устным, но тщательно выверенным: кто получил кожух, кто лыжи, кто ружье без бойка, один последыш остался без наследства.
– Бог попустил тебе родиться, Бог тебя и не оставит, – пообещал батюшка и, обратившись к братьям, прибавил, имея в виду Серафима: – Захочет уйти – не удерживайте.
После смерти отца главой рода и настоятелем храма стал о. Василий с раздобытой аж в Сибири дылдистой и косоглазой женой. О. Василий старался сохранить все, как было при отце, но, по правде сказать, мира в семье Твороговых не стало, всем сделалось в доме не только тесно, но и неуютно.
Серафим едва пережил смерть отца – его откачивали, отпаивали, хлестали, приводя в чувство, по толстым щекам. А когда на похоронах сын обхватил руками гроб отца, желая вместе с ним быть погребенным, четверо здоровых братьев с трудом смогли его от отцовской домовины оторвать… Да что там – упал ведь, в могилу вслед за гробом свалился, не желая расставаться с отцом, веревками ведь вязали и тащили наверх!
Ругались на Серафима после, стыдили, но и сами устыдились, увидев, кто из них больше всех батюшку любил.
– А я всегда это знала, – сказала матушка Неонила, когда пришла в себя.
Спустя год после смерти о. Серапиона ей потребовалась какая-то несложная, но обязательная операция, однако матушка наотрез отказалась ее делать и не ушла, а, можно сказать, убежала вслед за супругом, оглядываясь на детей с виноватой улыбкой.
– Зато без меня ты начнешь жить взрослой жизнью, – пыталась она объяснить любимцу выгоду его будущего сиротства, перештопала свое старенькое бельишко, чтобы оставить его дочерям, и умерла.
Смерть любящей и любимой мамочки юноша перенес легче и над могилой почти не плакал, чем вновь удивил братьев и сестер.
Свежий ветер перемен разгонял скорбь, не давая думать о вечном. Серафим читал газеты, дискутировал с соседом-сексотом, призывая его к покаянию, по поводу и без повода цитировал Горбачева, а по ночам у соседа со справкой смотрел по телевизору программу «Взгляд».
Особенно его поразил сюжет, посвященный проституткам. Серафим заговорил о свободе плоти и о том, что должен поехать в Москву, где он эту свободу обретет. Пребывавшие в тесноте и обиде братья и сестры его уже не слушали, одна лишь Фекла относилась к заявлениям младшенького со всей ответственностью старшей сестры, частенько разговаривая с ним, пытаясь по привычке усадить к себе на колени.
– А ты не боишься, братец? – спрашивала она, а у самой от страха округлялись глаза.
– Чего бояться-то-нат? – храбрился Серафим.
– Ивашка, Ванька, Иван… – напоминала Феклуша.
– Ха-ха! Ты еще Ираиду вспомни! – насмешничал в ответ юноша.
– А епископ Иоанн, – напоминала Фекла о дальнем московском родственнике. – Встретит тебя там и посадит в свой департамент!
(Две вещи по-настоящему пугали Серафима в его воображаемом путешествии в Москву: пребывающий где-то там епископ Иоанн (Недотрогов) и козы, которые могут встретиться по пути, – в столице быть их уже не должно.)
Серафим нервно глотал ртом воздух, набираясь мужества для продолжения разговора.
– Преподобный Паисий Величковский-нат говорил-нат: «Страх будущих скорбей-нат рождает слабость-нат и малодушие-нат», – объяснял брат сестре.
– Говорил, – скорбно соглашалась Феклуша. – Только преподобный совсем другое имел в виду.
Серафим отмахивался.
– Как наш батюшка-нат, царствие ему небесное-нат, говорил-нат: «Волков бояться-нат – в лес не ходить-нат». И ходил-нат!
– Говорил, ходил! – в голосе Феклы появлялись слезы. – А матушка, упокой, Господи, ее душу, все это время на коленях стояла – молитвы от волков читала. Ружье-то у батюшки не стреляло!
«Мое выстрелит!» – так образно и вольно хотелось крикнуть Серафиму, чтобы не только Фекла, но и весь мир услышал, но не делал этого – жалел, не мир – любимую сестренку.
(Забегая вперед, скажем, что Серафимушкино «ружье» так и не выстрелило, и решающую роль в этом сыграл о. Мартирий, впрочем, это другая история, которую непременно придется рассказать, озаглавив ее, ну, скажем, «Битва в пути»).
Революционные события в семье Твороговых развивались стремительно: двадцать первого августа 1991 года, когда революционно настроенные москвичи защитили демократию и самозваное ГКЧП пало, настоятель храма Успения Богородицы в поселке Новоленинское о. Василий со своим многочисленным семейством возвращался домой после отслуженной литургии по поводу великого праздника Преображения Господня и первым увидел, что над их домом развевается трехцветный флаг, а рядом, держась за древко, стоит мятежный Серафим.
Внизу уже собрались довольные зрелищем соседи, заливался лаем Заливай, бегал в исподнем пьяный участковый, а бывший сексот фотографировал происходящее фотоаппаратом «Смена». Чинное православное семейство кинулось туда со всех ног. Растолкав собравшихся и уронив сексота, братья тут же полезли на крышу, а сестры побежали к себе в дом и стали вытаскивать на улицу матрасы и подушки, призванные смягчить возможное падение на землю родного человеческого тела, при этом Фекла надувала на бегу резиновый матрас, на котором спала сама.
Воздух свободы пьянил в тот момент не только счастливых защитников Белого дома в Москве – он долетал и в далекое Новоленинское, где стоял на крыше дома пьяный от революционного восторга Серафим.
Ветер перемен трепал полотнище флага, наскоро сшитого из половинки белой наволочки, красного платка Феклы и синих ненадеванных трусов Серафима, ерошил жидкие волосенки на голове розовощекого толстяка, придавая определенный романтизм всему его весьма не романтическому облику.
Серафим видел карабкающихся к нему по крыше братьев и, вскинув вверх кулак, прокричал в сторону невидимой, но, несомненно, существующей Москвы:
– Да здравствует свободная Россия-нат! Да здравствует демократия-нат! Да здравствует…
Братья неотвратимо приближались, и от здравиц надо было срочно переходить к политическим требованиям:
– Свободу совести и плоти-нат! Свободу Серафиму Творогову!
Последнее Серафим прокричал, подняв свой самодельный флаг над головой, но, махнув им всего раз, не удержал равновесие и под общее с земли «а-ах!» – кубарем полетел вниз.
Серафим не выцеливал Феклин матрас, но упал именно на него, и, возможно, это спасло ему жизнь, сломанными оказались всего одна нога, две руки и три ребра. Почти два года ушло на выздоровление, но ни больничная койка, ни эмалированная утка, ни костыли – ничто уже не могло охладить его революционный пыл.
Но ведь то же было и с нашей страной: свобода разгоралась, как пожар в брошенном доме – тушить не нужно, потому смотреть интересно.
Загипсованный, забинтованный, с исколотой попой Серафим все больше утверждался в необходимости освобождения своей плоти, для чего должен был сделать первый непростой шаг – покончить раз и навсегда с постыдной и несовременной девственностью.
Вообще-то, девственность была нормальным состоянием всех твороговских детей до законного освобождения от этого нелегкого бремени. Не только девушки, но и юноши, а точнее будет сказать – мужчины, так как отслужили уже в армии, рослые, плечистые, бородатые, все они познавали плотскую близость в свою первую брачную ночь, и остается только догадываться, чего это стоило здоровым парням, для которых грех рукоблудия приравнивался к скотоложству.
Серафим этих проблем, наверное, не имел – в двадцать один год он еще не брился (в армию его не взяли из-за плоскостопия, перешедшего после перелома ноги в косолапие) и на женщин смотрел без намека на вожделение, глядя не на ноги или грудь, а исключительно в глаза. Для него это был не вопрос пола, а вопрос принципа, разрешить который представлялось возможным только в Москве.
Как все новое и прогрессивное, проститутки находились там.
«В Москву-нат! В Москву-нат! В Москву-нат!» – упрямо заладил наш герой, не слыша ничего супротивного в ответ, не видя сердитых братских взглядов и горестных глаз сестер.
Выполнив все пункты отцовского завещания, поделив между собой кожух, лыжи, патронташ и ружье, братья нарушили его в одном пункте – чтобы Серафим не погиб окончательно, решили никуда младшего не отпускать.
И наверняка никуда бы не отпустили, если бы Серафим не перестал ходить в храм, и даже запрет на причастие его уже не пугал.
– Между городом «Да»-нат, и городом «Нет»-нат есть огромная страна-нат, в которой живут свободные и порядочные люди-нат. Она называется-нат «Ни да, ни нет»-нат. Я отправляюсь туда-нат и буду там жить-нат, – так неожиданно витиевато объяснил однажды свою новую религиозную позицию Серафим, но братья его поняли.
«Пошел вон, щенок!» – вот что хотели они на это ответить, но, превозмогая себя, ответил за всех старший Василий:
– Что ж, вольному воля…
И Серафим покинул свой род и отправился в Москву, и та полная опасностей и приключений поездка требует уже совершенно отдельной главы, которую, как обещано, мы называем «Битва в пути».
Глава двадцатая. Битва в пути
Воистину судьбоносная встреча Сергея Николаевича Коромыслова и Серафима Серапионовича Творогова, более известных нам как о. Мартирий и о. Мардарий, случилась 21 ноября 1993 года, когда русская церковь праздновала Собор Архангела Михаила и прочих Сил Бесплотных. (Как все религиозные люди, не допускающие случайностей, годы спустя вспоминая произошедшее в тот день, наши герои находили в этом глубокий смысл.)
Объединившая две судьбы в одну встреча произошла там, где очень часто у нас в России встречаются и знакомятся совершенно незнакомые люди, разговаривают на все без исключения темы, выпивают, закусывают, пьют чай, спят, перекусывают, пьют и снова разговаривают на все без исключения темы, где рвутся старые связи и завязываются новые, где делаются неслыханные признания и совершаются невиданные поступки, где русский человек не только с горечью поминает свое прошлое, но и с надеждой думает о будущем, – вы, конечно, уже поняли: встреча эта произошла в дороге.
Дорога в России больше, чем дорога, при условии, что она железная.
Без сомнения, самолет – изобретение дьявольское, направленное, в первую очередь, против русского человека. Европейцы ничего не потеряли, пересев из кресел узкоколейных своих вагончиков в самолетные кресла, мы же потеряли очень многое, если не всё.
В самолете не поваляешься на верхней полке, не покуришь в холодном тамбуре, не посидишь в вагоне-ресторане за солянкой в судке и графинчиком водки, а главное, не поговоришь – не поговоришь по душам с совершенно незнакомым тебе человеком, не выложишь ему всю подноготную своей непутевой жизни, а он – своей.
Дорога для русского человека – очередной последний шанс стать лучше, и слава тебе, Господи, что наши герои встретились не в самолете – в поезде.
Пассажирский поезд «Караганда – Москва» с гремящими облезлыми вагонами и грязными битыми стеклами напоминал поезда известной нам по советским фильмам гражданской войны, с той лишь разницей, что на крыше не сидели мешочники, а сам поезд был заполнен едва ли на четверть. В те уже далекие, но все еще памятные годы даже самый доступный вид общественного транспорта – железнодорожный – подавляющему большинству населения огромной страны был малодоступен.
Ехать было не на что, некуда, да и незачем.
С так называемым общественным питанием дела обстояли еще хуже.
Не считая новоявленных бандитских шалманов, из всего советского общепита остались лишь вагоны-рестораны, и на их немногочисленных посетителей прохожие смотрели сквозь окна с завистью и презрением.
Но может, напрасно мы им завидовали и зря презирали, верно, встречались среди любителей попировать во время общественно-политической чумы приличные люди, какими, несомненно, были те, о ком в данной главе идет речь.
Итак, как мы уже сказали, 21 ноября 1993 года в вагоне-ресторане пассажирского поезда «Караганда – Москва» встретились два хорошо знакомых нам человека, которые выглядели совсем не такими, какими мы привыкли их видеть.
Совсем непросто в том Коромыслове узнать будущего о. Мартирия.
«За» говорили богатырские плечи, бычья шея и, конечно, ручищи с пунцовыми шрамами, происхождение которых нам теперь доподлинно известно, «против» – отсутствие бороды и усов. Сергей Николаевич был гладко, до синевы, выбрит, вместо длинных священнических влас на его голове топорщился короткий ежик, и, наконец, одежда – ни подрясника, ни наперсного креста на нем, разумеется, не было, вместо этого наличествовал не лишенный форса черный френч с воротником-стоечкой и синие с красными лампасами суконные штаны, заправленные в высокие хорошо начищенные хромовые сапоги. Погоны отсутствовали, но, судя по более темным прямоугольникам ткани на плечах и едва заметным торчащим кое-где ниткам, еще недавно они там были. На накладном кармане на правой стороне груди был прикручен крупный и затейливый значок: верховой казак с пикой на фоне синей эмали с красной каймой, на которой золотой вязью шла надпись: «Яицкое казачье войско».
Из всего этого мы можем сделать вывод, что наш герой недавно был казаком, а теперь перестал им быть.
Бывший яицкий казак заказал себе все имеющиеся в меню блюда, а именно: «салат овощ., бульон с яйц., антрекот мяс. с картоф. жар.», а также «компот из сх/ф».
Салат представлял собой крупно изрубленный верхний капустный лист, сбрызнутый столовым уксусом; бульоном с яйцом именовалось налитая в тарелку едва теплая вода, в которой болталось очищенное куриное яйцо, напоминающее синеватый с темным зрачком бычий глаз; антрекот назывался в меню мясным, видимо, для того, чтобы на этот счет не возникало сомнений, но сомнения не могли не возникнуть, так как внешним видом, жесткостью и явной несъедобностью он являлся скорее хорошо прожаренной подошвой старого солдатского башмака, на которой были видны поперечные насечки, происхождение которых легко объяснимо – кто-то уже безуспешно пытался употребить данный предмет в пищу, а вот «картоф. жар.» был самой настоящей жареной картошкой, правда синей, холодной и от недостатка масла сухой. И наконец, о компоте, об этой забытой в череде обрушившихся на страну перемен усладе пионерского детства, отраде больничных обедов, украшении санаторных будней. Всяк, кто провел часть своей жизни в стране под названием Советский Союз, скажет: компот из сухофруктов лишь тогда чего-нибудь стоит, если в нем присутствуют сушеные груши, изюм и хорошо бы курага, если же в нем одни только яблоки, да к тому же урожая позапрошлого года, то тогда уж лучше другой популярный продукт той великой эпохи – кофе бочковое, когда стакан заполнен отдающей махоркой коричневой бурдой, сверху которой плавает непонятного происхождения желтоватая слизь, лучше – чай за две копейки, внешним своим видом напоминающий то, что не хочется за обедом называть!
Однако, как и все блюда в меню вагона-ресторана, компот был безальтернативным, и официантка принесла именно его – мутноватую жидкость в захватанном граненом стакане, на дне которого лежали две черные дольки яблока, внешне напоминающие (придется все же назвать вещи своими именами) кошачьи какашки.
И страшно сказать, сколько все это безобразие стоило! Сейчас уже не вспомнить, какие в девяносто третьем году ходили деньги, но за поданный обед должно было выложить в прямом смысле этого слова кругленькую сумму, если не миллионы – тысячи, многие тысячи, округленные при подсчете до трех нулей.
Чтобы более ни к неприятному обеду, ни к обескураживающей его стоимости не возвращаться, а сосредоточиться, наконец, на знакомстве наших героев, переросшем в беспримерную по нынешним временам дружбу, скажем сразу, что бывший яицкий казак безропотно все съел, выпил и за все заплатил по счету, причем последнее сделал прежде первого, так как официантка сразу предупредила, что обед с предоплатой.
И тут же объясним, зачем Коромыслов все это сделал.
Был голоден?
Наверное, но, чтобы утолить голод, он мог не рисковать своим здоровьем, а выйти на большой станции на перрон и купить у крикливых заполошных теток вареной картошки и соленых огурцов за вдесятеро меньшую сумму и налопаться в своем купе от пуза, он что, этого не знал?
Знал, конечно!
Сергей Николаевич пошел в вагон-ресторан осознанно и целенаправленно, чтобы последний раз в жизни посидеть в ресторанчике, и с подошвой-антрекотом сражался, чтобы последний раз в жизни поесть мяса.
Но вам, конечно, понятно: наш герой собирался уходить не из жизни – из мира, направляясь навсегда туда, где в ресторанах не сидят и мяса не едят.
Покинув в октябре девяносто третьего Москву, сразу после так называемого расстрела Белого дома, пообещав тогда же посвятить свою жизнь Богу, уже в ноябре того же года свое обещание Коромыслов исполнял.
Съездив в Южноуральск, где ему принадлежала квартира-однушка, мотоцикл «Днепр» и гараж-ракушка, Сергей Николаевич побывал в Оренбуржье, где тепло простился с боевыми товарищами казаками и, вскочив под их прощальное «Любо!» на ходу на подножку карагандинского поезда направился в сторону К-ска, где, по слухам, должен был открыться монастырь, в котором он собирался провести остаток своей земной жизни, чтобы уйти оттуда в жизнь вечную.
Любопытная и важная деталь: во все время того последнего обеда на ресторанном столике находился предмет, которому было бы уместнее лежать на полу задвинутым под стул – то был просоленный потом спины и подкопченный дымом костров, продырявленный и подштопанный, видавший виды брезентовый солдатский сидор, крепко схваченный узлом и заполненный под самую завязку чем-то, что топорщило старый брезент углами. Кстати, подошедшая официантка первым делом спросила не «Что будете есть?» – а, указывая на сидор, презрительным взглядом: «Это никак нельзя убрать?»
– Никак, – ответил Сергей Николаевич и, видимо, убедительно ответил, если к этому вопросу видавшая виды женщина по имени Ольга больше не возвращалась и тут же задала вопрос, какой не задала сразу:
– Что будете есть?
– Всё, – ответил Сергей Николаевич, глядя в серый листок немногословного меню.
– А пить?
– Ничего, кроме компота, – ответил как отрезал Сергей Николаевич.
– У нас предоплата, – предупредила официантка, испытывающе глядя на клиента, и назвала баснословную стоимость заказа.
Коромыслов не выразил удивления, но деньги отсчитывал тщательно, не прибавив на чай ни копейки.
Сунув тысячные банкноты в просторный карман фартука, официантка удалилась, даже спиной выражая презрение к тому, кого вынуждена здесь обслуживать. Знай Ольга, что в сидоре лежит, небось постояла бы еще пяток минут рядом, похихикала бы, построила бы глазки, покрутила бы бедрами, пытаясь если не понравиться, то хотя бы произвести впечатление. В сидоре лежали деньги, по тем временам и в тех местах большие, вырученные Коромысловым от продажи принадлежавших ему квартиры-однушки, мотоцикла «Днепр» и гаража-ракушки, которые он собирался пожертвовать на восстановление православной обители, призванной стать его последним жизненным пристанищем.
Кроме стянутых бечевой кирпичей из банкнот на дне сидора лежали два настоящих силикатных кирпича. Они находились там, во-первых, потому, что Сергей Николаевич любил ощущать в руке тяжесть, а во-вторых, на случай, если кто вдруг вздумает посягнуть на монастырские капиталы – с кирпичами сидор превращался в действенное оружие ближнего боя.
Однако перейдем к следующему фигуранту чуть было не заведенного в тот день уголовного дела. Если в теперешнем о. Мартирии присутствует несомненное сходство с тогдашним Сергеем Николаевичем, то в вошедшем в вагон-ресторан немного позднее молодом человеке очень полной комплекции вы ни за что не узнали бы нашего о. Мардария, хотя, как известно, за свою жизнь толстяки внешне мало меняются, если, конечно, не похудеют. Но этот так был одет и так себя вел, что, сравнивая о. Мардария, которого знаем, с тем, еще нам неизвестным, девяносто девять из ста наверняка сказали бы: «Это два совершенно разных человека».
Хорошо, но как же он был одет?
Как?.. С чего начать?..
Начнем, пожалуй, с того, с чего все в человеке начинается – с головы. На его плохо укрытой жидкими волосенками, напоминающими приклеенные перышки, маленькой, как у всех толстяков, головке злобно красовалась ядовито-зеленая бейсболка с крылатой эмблемой мотоцикла «Харлей-Дэвидсон», и похоже, данная деталь гардероба Серафиму очень нравилась, иначе зачем бы он то и дело ее трогал, поворачивая козырек то влево, то вправо.
Ниже знакомой нам словно циркулем нарисованной круглой физиономии с глазками-пуговками и носиком-пимпочкой, ввиду отсутствия шеи сразу шел желтый в крупную клетку пиджак, наверняка самый большой из имевшихся в продаже, но все равно меньше того, какой был нужен нашему герою. Обильное тело не удерживало в своих объемах вспученную душу Серафима, она рвалась наружу, отчего квадраты на пиджачной ткани силились стать окружностями. Тонкой прослойкой между душой толстяка и пиджаком толстяка являлась футболка, скорее даже тельняшка – с широкими продольными полосами и большим золотым якорем, загнутые концы которого прятались в джинсах, застегнутых на неохватном животе юноши аккурат под самой грудью.
Джинсы были красные.
Вздернутые значительно выше положенного, эти новейшие революционные штаны кончались на середине голени, обнажая два белых, как ошкуренные кленовые поленца, безволосых столбушка Серафимушкиных ног.
Обут он был в адидасовские кроссовки, на одной из которых имелись почему-то лишь две фирменные полоски, зато на другой их было четыре.
И всё, как говорится, с иголочки, ни разу не надеванное: младший Творогов прибарахлился накануне в привокзальном ларьке, а переоделся уже в поезде, безжалостно выбросив одежду своего презренного прошлого на ходу в окно.
…Оторвав напряженный взгляд от тарелки с бульоном, Коромыслов коротко и бесстрастно взглянул на этого бесплатного клоуна и тут же вновь опустил глаза: готовясь к будущему иноческому служению, Сергей Николаевич поставил себе ничему мирскому не удивляться и, по возможности, на него не реагировать.
– О’кей! – воскликнул толстяк, высоко оценив убогий интерьер эмпээсовского кабака, и хотел развить свою мысль, но вагон вдруг сильно дернуло, и, согласно законам физики, тот, кто больше весит, больше подвержен силе инерции – толстяк пролетел полвагона, зацепился за столик руками и плюхнулся на диванчик, делая вид, что именно это место он и облюбовал.
Повернув бейсболку козырьком назад и вытерев со лба ладонью выступивший пот, Серафим дерзновенно глянул вверх, потом по сторонам, вперед и, наткнувшись взглядом на сидящего через два ряда на другой стороне вагона Коромыслова, приветливо воскликнул и даже сделал ручкой.
– О, казак! О’кей, казак!
Казак на приветствие никак не отреагировал, он был целиком занят поединком с яйцом из бульона, которое оказалось резиновой плотности и металось во рту, как теннисный мяч на корте.
А рвущаяся на волю душа Серафима все больше не давала покоя его телу: он ерзал на стульях, откидываясь на спинки и забрасывая ногу на ногу, вынимал из вазочки пыльный пластмассовый цветок, вертел его в руках и даже понюхал, после чего стал смотреть в окно – любоваться пейзажами за треснутым грязным стеклом, но там тянулась бесконечная и унылая, испоганенная русским человеком и прихваченная русским морозом русская земля конца двадцатого столетия: брошенные карьеры, изъезженные неродящие поля, мертвые заводы, дохлые колхозы и бесконечные свалки и помойки, а на проплывшей вдруг за окном станции присутствовало то, что и на всех остальных таких же железнодорожных станциях присутствует – желтый дом вокзала, желтый дом сортира, на одном конце пустого перрона тоскливый мент, на другом тоскливый бомж.
Все это вряд ли могло понравиться новому русскому путешественнику, он протестующе потянул вниз клеенчатую шторку, чтобы окно закрыть и всего этого безобразия не видеть, но шторка вырвалась и спряталась в металлическом тубусе, предлагая: смотри! Серафим с таким предложением не согласился и вновь попытался закрыть окно, но шторка снова взметнулась вверх, настаивая на своем: нет, смотри! Тогда Серафим протестующе отвернулся от окна и воззрился на Коромыслова – в тот самый момент, когда Сергей Николаевич замер в раздумье: выплюнуть резиновое яйцо обратно в тарелку или целиком его проглотить.
– Эй, казак, как здесь кормят? – с видом и интонацией завсегдатая ресторанов поинтересовался Серафим.
От такой фамильярности Сергей Николаевич возмущенно вскинулся, выпрямился, и ситуация с яйцом разрешилась сама собой. Негромко кашлянув в кулак, Коромыслов внимательно посмотрел на наглеца, и в глазах его в тот момент явственно прочитывалось желание подняться, подойти и опустить свой железный кулак на мягкое темя Серафима, но, вовремя вспомнив, куда едет и зачем, он усилием воли подавил в себе греховное желание и сдержанно ответил:
– Никак.
В этот момент из своего укрытия в конце вагона появилась знакомая нам официантка.
– О’кей! – закричал Серафим и махнул ей рукой, подзывая.