Три власти (сборник) Сычева Лидия
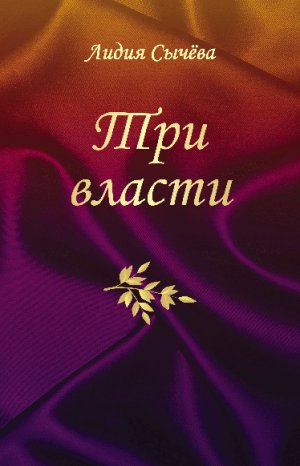
И стала я плакать. Потому что, куда ни кинусь – одна, как перст. (Коля – это ж декорация супружества, видимость.) Плачу, вою, слёзы ручьём. Во-первых, страшно – что ни говори, а смерть рядом; во-вторых, устала я жутко; в-третьих, себя жалко и жизнь свою, в общем, пропащую; в-четвёртых, как подумала я, что мне предстоит… Похороны, поминки, девять дней, сорок дней, родственники, обряды, огород сажать надо и на работе дожидают. И это ещё не весь список! Я, грешница, в тот момент даже покойнице позавидовала. Лежишь себе, никаких хлопот. Все жалеют и добром вспоминают.
Коля в те дни куда-то забурился, запил – он человек тонкой душевной организации, сказал, что не может смотреть на мучения матери. У него, мол, сердце разрывается. Нежный сын! И оставил меня наедине с пеленками, тазиками, памперсами и проч. В общем, одна я, одна.
Ну, повыла я, поплакала и стала успокаиваться. Усопшая-то на кровати лежит. Стала звонить Сане (муж двоюродной сестры, из родни наиболее адекватный). «Сань, говорю, приедь хоть ты, помоги!» И он был выходной, быстро примчал. Между прочим, на новом «Форде». Питерской сборки. Только что купил. Я его поздравила от души. Он даже смутился – у меня горе такое, а он – на новой машине. Вместе с ним мы все присутственные места объехали, всё, что нужно купили. Саня и с читакой, женщиной во всех отношениях положительной, хорошо знаком. Завернули к ней. А сестра говорит: «Ой, а Марию увезли, она сегодня у прихожанки знакомой читает!» Что делать? Пришлось ехать за Риммой.
Я вечером еле-еле ногами передвигаю, почти падаю (хорошо, хоть Коля объявился, вышел из тени; поди-подай – и то от него польза!), ночь перед этим не спала, давление – 200 на 110. (Мне врач, несмотря на показания тонометра, говорит: что-то вы слишком хорошо выглядите для больной. Я прямо разозлилась: что ж мне, морду навозом вымазать, что ли?!) В общем, я – никакая, без сил, а Римме – хоть бы хны. Покойники для неё – народ привычный. И, опять же, на новой работе она окружена благоговением и трепетом. Деньги, харчи первые. Это не с невесткой дома собачиться! На лицо Римма с тех пор, как подрядилась по домам читать, стала гладкой, морщины разошлись, вид довольный. В общем, встретил человек свой призвание. И она мне говорит: «Буду читать всю ночь». Ну, думаю, нет, это мы тут с тобой сдуреем до утра, а завтра ещё день какой! Кое-как я её выпихнула в первом часу, Коля отвёз.
Но это потом. А вечером покойная в гробу лежит, Римма Псалтирь читает, перемежая церковнославянским с просторечным русским (обличение невестки), а у меня межгород звонит. У Коли есть братец единокровный, Родя, и я его давно предупреждала: мать плохая! Намекала: не тяни резину, если хочешь живой увидеть. Ну, они ж стоумовые, только себя слушают, «внутренний голос». Мать померла, я этого Родю начинаю искать – никакого отклика, сотовый недоступен. И тут супруга его звонит. Я ей про мать, она – в слёзы. Во, думаю, как свекровь жалко, что значит невестка ласковая (не то, что я!), ишь, как убивается! А она мне: у меня страшное горе, перезвони срочно!
Набираю номер. Оказывается (и это впрямь – сенсация!), горе состоит в том, что Родя её на днях бросил, ушел из семьи. Все концы обрубил. Нашел свою юношескую вдовую любовь и соединился с ней в блудной связи. Сказал – это у меня навеки, наконец-то я счастлив. Невестка кричит: звони, стыди, убеждай эту сволочь Родю, чтобы он ко мне вернулся! Я говорю: подожди, тут же похороны, то, сё… А она мне душу изливать в подробностях (а почему бы и нет – за мой-то счёт!). Еле-еле я от неё отбилась.
Тут и Родя на связь выходит. Я ему про мать. Он: да-да… Говорит: ты уже знаешь, мегера моя рассказала? И тоже – о личном. Но – больше со знаком плюс («ты мою Кирочку сразу полюбишь…»). Я говорю: «Родя, что ты думаешь? Похороны завтра. Приедешь иль нет?» А он: «А как я доберусь? Змеища арестовала машину, ключи от гаража забрала. А на перекладных – не успею. Мы уж с Кирочкой на девять дней приедем, тогда мамашу и помянем». И снова – про мегеру, про распри и про романтическое исполнение юношеской мечты.
Только я Римму вытолкала, невестка опять звонит – её обида распирает, надо с кем-то поделиться… В общем, и в эту ночь я не заснула, слушала их попеременно. Как с ума не сошла, сама до сих пор не пойму.
Свекровь решили хоронить в деревне, Саня, молодец, утром привез батюшку с дьячком, ну, Римма уже тут как тут. Отслужили панихидку, всё чин чином, машину подогнали, надо покойницу выносить. Духовные лица отбыли, а Римма опять лезет Псалтирь читать: мол, так надо (у неё на всё свои правила). Да бросай ты, там могила ждёт, дождь находит, люди разойдутся, и что ж мы, ночью что ли, хоронить будем?! «Ну, тогда я тоже на кладбище поеду!» И – нырь в машину! Повёз её Коля, не будешь же у гроба ругаться. По дороге наслушался много интересного… А Римме что, новая деревня, свежие впечатления. И вроде при деле – «служебная командировка»!
Могилу копал профессионал, Арсюша Кирюшин (сын Мани Кирюшиной, которую собутыльники убили по пьянке). У Мани был родной брат по прозвищу Конь – здоровый, белокурый мужик. И Арсюша – тоже под два метра ростом, волосы русые, нос прямой, глаза голубые. Истинный ариец. Живёт в шалашике без отопления (в сарае), поскольку хату, опять же, по пьянке сожгли – была у них там «малина». Арсюша живёт тем, что копает могилы – деревня вымирающая, каждую неделю кто-то на покой отходит. Было две тысячи человек, осталось пятьсот; живут кто чем, преимущественно, растительным существованием. Ну и понятно, что Арсюша в ремесле поднаторел, достиг мастерства, «класса», он вроде как «бригадир», руководит командой более спитых и малосильных товарищей. Так что к могиле у нас претензий не было – сухая, в меру глубокая, аккуратная, опрятная, я бы даже сказала.
А уж хор местный – это вообще достопримечательность. Зря Римма лезла – тут её быстро оттерли. Певчие в деревне – главная самодеятельность. Бригада из девяти человек, дирижирует ансамблем бывшая учительница (она и Колю учила) Селиверстова. А главные голоса – Нюшка и Харитишка. Нюша – женщина симпатичная, в молодости красоты необыкновенной. А пела как?! В те времена, конечно, не псалмы, а «Я назову тебя зоренькой…», «Оренбургский пуховый платок», «Деревня моя, деревенька-колхозница…» и прочее, из лирического репертуара. Кадышева ей в подметки не годится. Была Нюша замужем за Лёней Цареградским. Мужчина видный, породистый, похож на Сергея Бондарчука. Гулял с Харитишкой (тоже симпатичная женщина, но другого типа – золотоволосая, бойкая). На этой почве затеялась между соперницами громкая распря – с битьём окон, обливанием помоями, публичными проклятиями.
Лёни давно нету (и Бондарчука тоже), и Харитишка мужа похоронила, и теперь они с Нюшей первые подруги и христопевцы. И так выдали на кладбище, что опять же, рабе Божией Аглае только позавидовать можно – какая там консерватория! С душой пели, со слезой. А голоса!.. Под такие псалмы земля, конечно, пухом будет. Слава Богу, и жизнь прошла путём, и померла на родных руках, и похоронили по высшему разряду.
Назад возвращались мы втроём: я, Коля и Римма (куда ж её деть!). Римма впереди сидит, проповедует Коле высокие материи, он поддакивает по привычке: «Да, да…» А я чего-то разволновалась от впечатлений дня, и про сон забыла. Тут этой жизни – пять минут (если вдуматься), а сколько всего в ней было! Помню, подвыпившая Маня Кирюшина учила в детстве меня и Райку (подружку) похабным частушкам:
Мой папаша дорогой,
Не ходи ты до другой,
У её сисичеки, как ниточки,
И пупочек вот такой!
При исполнении последней фразы следовало свернуть дулю. Но нету теперь ни Мани, ни брата её, Коня, ни многих других. Осталась одна дуля… За неё-то мы и держимся, дурочки… А что делать, если другого богатства не нажили?!
Обед в Совете Федерации
Сенатор Буркин был мужчиной ещё советского времени, и, видимо, не самым глупым из номенклатуры, если до сих пор сидел в сановном кресле. Муромова избегала встречаться с ним глазами – во взгляде его, весьма доброжелательном, всё же было нечто стеклянное. Потому Муромова якобы в смущении притупляла взор и смотрела на холеные сенаторские пальчики; весь он просвечивался, будто кукольный. Чуть поодаль сидел помощник – в пиджаке и галстуке; руки его подрагивали, когда он тасовал папки «Входящие» – «Исходящие».
Буркин рассказывал свой план спасения России. Муромова профессионально кивала, поощряя его к откровенности, диктофон был включен, и мысли её ушли далеко. Она думала о своей, зашедшей в тупик, жизни; и ей мнилось, что оттого и вся Москва, всё видимое ею пространство стало разрушаться. Сенатор говорил о НАТО, о ВТО, о Китае и геополитике, доверительно называя членов правительства «Мишка», «Валька», «Гришка», а Муромова с тоской вспоминала страшные обрубки деревьев на бульварах и обрубки ног и рук у молодых инвалидов, которые побирались в метро; растянутый через улицу транспарант с призывом «Съешь, сколько сможешь! Всего 8 долларов» и эти же слова, как заклинание, неслись из динамика ресторана, а рядом, в пешеходном переходе, стоял такой концентрированный запах мочи и бомжей, что Муромова старалась не вдыхать, когда ей нужно было здесь идти. И вообще, с недавнего времени, куда бы она не пошла, везде ей в глаза бросалась Москва униженная, с кричащими ужасом вывесками кинотеатров, с похотливой рекламой; она старалась притупить свой слух, чтобы укрыться от рева машин, сирен, сигнализации; обмануть обаяние, чтобы не чувствовать тошнотворного, сигаретно-пивного дыхания горожан – с ними она тряслась в автобусах, давилась в толкучках метро, толпилась на рынках… Она переставала любить людей, которые всё больше превращались в эластичную массу, в пластилиновых человечков, послушных воле цивилизации – не думать, не чувствовать, не хотеть. Это был грех – так видеть жизнь, но она ничего не могла поделать с собой. Муромова с отвращением думала, что и в ней скоро появятся «пластилиновые части» – но ни воли, ни силы, чтоб изменить устоявшуюся жизнь, у неё не было.
Буркин, наконец, закончил. В нём была горбачевская беглость речи и с тех ещё времен, наверное, сохранился перестроечный демократизм, понимание «маленьких нужд маленького человека».
– Я вам отмечу пропуск с запасом времени, пообедаете у нас, – в стеклянных глазах сенатора замерцал живой огонек.
Муромова про себя хмыкнула, а вслух вежливо сказала, что у нее нынче много дел и ей надо спешить.
Но когда она, насколько могла, любезно, попрощалась с сенатором и вышла, унося с собой план спасения России (который теперь надо доводить до ума – расшифровывать, «причесывать», дописывать человеческими словами и от которого – она почему-то была уверена – не будет никакого толка), её охватила такая тоска, что она решила: да, пожалуй, надо «заесть» тяжелые впечатления сегодняшнего трудового дня.
Действительно, в просторной столовой стояла совсем другая «аура», как сказали бы модные телеведущие. Муромова подивилась приветливости хозяйки зала, которая улыбнулась ей без всякой фальши и ласково пригласила к одной из стоек; поражала вежливость поваров, с полуслова угадывающих желания клиентов; а главное чудо – это очередь, быстро двигающаяся и легко оперирующая диковинными названиями блюд. Во всем поведении «здешних» чувствовались свобода, великодушие, щепетильная вежливость людей из другого «круга», общества. А между тем, столовая эта была для челяди – помощников, «слуг», аппаратчиков, пришлых, вроде Муромовой. О том, что такое сенаторская столовая, где сновали проворные, ладные официантки, можно было лишь догадываться, но и здесь Муромова увидела отголоски коммунистического рая – в центре зала стояло несколько огромных чаш, почти тазиков, наполненных овощными салатами, которые обедающие брали совершенно бесплатно. И челядь важно подходила, раздумчиво накладывала экологически чистый продукт, полезную пишу с тщательно сбереженными витаминами, и всё это огромное – двухсот или трехсотголовое чудовище ело, жевало, улыбалось, кивало знакомым, желало приятного аппетита…
И вдруг Муромова вспомнила свою первую поездку, первую в жизни командировку в Ивановскую область, где уже три дня держали голодовку местные учителя. Это было в 1995-м году, осенью, в октябре, – услужливо подсказала память; она вспомнила, как ехала на попутном газике по расхлябанной грязной дороге, как кропил дождь и как у каждого деревенского дома она видела поленницу березовых дров; они ещё не успели потемнеть, и её пронзительно поразила белизна и этих дров, и берез за околицами безвестных, намокших под осенним ненастьем деревень; и ещё она вспомнила детский утренник в сельском клубе, где ребятишки, в сбереженной от старших братьев и сестер парадной форме советских времен читали стихи о величии России; увидела желтого цыплёнка на подоконнике в «живом уголке» одной из голодающих школ; цыплёнок, трогательно-пушистый, неспешно ходил и склевывал пшено… А жалко принаряженные к её приезду учительницы делились с Муромовой рецептами выживания – одна, например, рассказывала, что всё мучное она печет на воде и получается очень даже неплохо… Она вспомнила серьёзные, хмурые лица старшеклассников и директора школы, бывшего комсомольского работника, который горячо объяснял ей:
– Понимаете, я не могу голодать, я – один мужчина в школе, я – директор, я за всё отвечаю: за учеников, за учителей, за здание… Но вы не думайте, я их не осуждаю, наоборот, поддерживаю. У нас и минеральная вода есть, и «скорая» готова приехать…
А потом снова была дорога, грязь, печальные березы по обочинам; какие они были красивые в своей печали, словно жалующиеся, что никуда они отсюда не уйдут, не денутся, и участь их решенная – рано или поздно – на дрова…
Муромова смотрела на деловую челядь, важно шагающую с подносами к месту комфортного насыщения. Смотрела и думала: насколько счастливее она была тогда, на расхлябанной дороге, где навстречу их газику баба гнала хворостиной пьяного, черноусого мужика, а тот, с неимоверным трудом выдергивал из грязи резиновые, похожие на бутылки, сапоги. В просвете расстегнутой фуфайки у мужика мелькнула десантная тельняшка… И ей вдруг показалось, что не только она, но и голодающие учителя, и баба с хворостиной, и трудно выходящий на светлую дорогу мужик в тельняшке, и цыпленок, и берёзы, и всё-всё – тоже были, может быть, не понимая этого, по-настоящему счастливы тогда! Но в чём было это счастье? Почему его нет здесь, среди щедрых тазиков с едой, и никогда не будет? Неужели люди, которые здесь едят и пьют, рождают слова, бумаги и «планы спасения России», совсем этого не понимают, не чувствуют?!
…Муромова тихо плакала, слёзы её капали в остывший суп и растворялись в нём без следа…
Два гусара
– А давай споем эту: «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг…»
– «…Необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг…»
Поют. Здорово поют. Слаженно. Видно, что спеты давно. Голоса – чудесные. К нам в купе – дверь открыта – начинают заглядывать пассажиры.
– Мадам, надеюсь, вы не против высокого искусства? – это ко мне.
– Ну ЧТОБЫ…
– Сразу видно человека европейской культуры.
– Вы мне льстите.
– Ничуть. Располагайтесь поудобнее. Вина, виски, а может быть ликёра? Крем-брюле (он выговаривает «бруле», чуть в нос, пародируя французов).
– Нет, не беспокойтесь, ничего не нужно.
– Юра, к нам попала госпожа по имени «Нет». Не правда ли, вас зовут «Нет»?
– Правда.
– О, моё сердце, – он прижимает руку к груди, встает. – Позвольте представиться, Владимир Стогов, – сдвигает пятки, и его комнатные шлепанцы щелкают почти как строевые ботинки.
У Стогова карие глаза, яркие румяные щеки и пухлые губы, щегольские чёрные усики, сложение оперного певца (с животиком). Товарищ его, Юрий, напротив, худощав и поджар, и, улыбаясь, любит показывать свои прекрасные, сахарные зубы – лицо его хорошо сформировано, вылеплено природой. У Юрия высокий лоб, плавно переходящий в основательную лысину, мускулистые руки, длинные пальцы пианиста.
Товарищи пьют сорокоградусный бальзам на травах («о, этот напиток богов»!), тягучая коричневая жидкость понемногу разливается в стаканы, а после «полируется» минеральной водой. Пьют и поют. Романсы, французский шансон, ретро, патриотические песни и «композиции» на немецком языке. К нам в купе то и дело подсаживается народ. Непременное условие – участие в выпивке. («Заглянул сюда – не манкируй, брат!»)
Поклонники певческого искусства после одного-двух тостов ретируются.
– Юра, дорогой, ты видишь, как измельчал народ?!
Юра скорбной мимикой изображает согласие.
Один из гостей просит спеть гимн России. Стогов ласково ему отказывает: «Мы не прошли лицензирование». В дверях появляется длинноволосый, хиппообразного вида типаж, в руке у него целлофановый пакетик со снедью. Стёртое лицо, плавные движения. Похож на вошь. Говорит, вроде как заискивает.
– Ребята, хотите оладушек печёночных?
– Откуда дровишки, Бася? (Они знакомы друг с другом). Когда напёк?
– Взял с банкета.
– Кушай сам.
– Много взял, пропадут…
– Бася, иди с Богом. Мы этот лот снимаем.
Мне:
– Пришлось обидеть Басю. Ворованную пищу никогда не кушаем… А может быть, бальзамчику, госпожа «Нет»? Юра, прочти аннотацию!
Юра, закатив глаза долу, декламирует торжественным баритоном: «Три гран-при, 22 медали, холодильник и путёвка в Сибирь!»
Оба хохочут. Звонкий, заразительный смех. «Канапе, мадам?», – Володя протягивает печенюшку с крохотным кусочком колбасы. «Не правда ли, чудесный канапе? Примите, от всего сердца!»
Стогов доверительно рассказывает мне:
– Пошли мы напоследок в ресторан. Отметить командировку как положено. Сидим, выпиваем. А за соседним столиком – бобёр со страховым агентом (блондинкой).
– А как вы узнали, что она – страховой агент?
– Боже мой, мадам, вы поразительно наивны для своих лет! Она страхует его от главных мужских неудач! А между столиками ходит хлюпик, рядом с ним – мужичонка со скрипочкой. Бобёр подозвал хлюпика: «Спой!» Ну, тот и завёл. А голосишка слабенький, не тянет. Мы с Юрой не смогли стерпеть надругательства над искусством. Как грянули: «Дорогой длинною да ночкой лунною…»
Он прерывает рассказ, и оба поют. Особенно жалостливо и дружно у них получается запев:
В даль родную новыми путями
Нам отныне ехать суждено,
Ехали на тройке с бубенцами
Да теперь проехали давно!..
Они поют со слезой, с чувством, как будто действительно жизнь их кончена. Даже страшно становится.
– Ну вот, мы допели, бобёр вскочил, схватился за сердце, стал кричать: «Ещё! Озолочу!..» А мы ему: извини, друг, за деньги не поём, только для души.
– А где вы так здорово петь научились?
– Я бы вам, мадам, рассказал про свои университеты, но это долго и скучно. Тем более, что наши дипломы – зрелище не для ваших чистых глаз… Правда, Боб?
Юра кивает.
– А если бы нам сейчас рояль?!
Юра изображает игру на фортепиано, лицо его вдохновенно. Стогов переходит на речетатив и с ходу читает монолог Гамлета «Быть или не быть, таков вопрос». Слова «Офелия, в твоих молитвах, нимфа, да вспомнятся мои грехи», он произносит, протягивая ко мне руки.
Я смеюсь.
– Перевод Лозинского, между прочим, – важничает Стогов. – Что касается хвалёного Пастернака, у него есть строка «Жизнь прожить, не поле перейти». Юра, ответь, это что, Гамлет? Это – принц?!
– Нет, это дехканин. Давай споём.
На этот раз звучит известный бард.
– Хорошая песня, – вздыхает после исполнения Стогов. – Но бард… Тот ли он, за кого себя выдаёт?
– Сдулся он, – грустно замечает Юра. – Если бы не дама, я бы сказал о нем более определенно.
Две пустые бутылки из-под ликёра уже валяются под столом.
– А теперь, не худо было бы спеть, Боб, что-нибудь для поднятия духа, – замечает Стогов.
Минутная заминка. И вот уже они поют «Прощайте, скалистые горы…» Про то, как они вышли в открытое море, как плещут волны на борт корабля и что сил хватит, чтобы сразиться с врагом. И что они непременно вернутся домой с победой, и что «я знаю, друзья, что не жить мне без моря…» Песня начинается проникновенно, а заканчивается ожесточенно и горько.
Они долго молчат. Юрий сидит за столиком, опустил голову на руки. Когда он поднимает глаза, они подозрительно, будто от слёз, блестят. Стогов говорит хрипло, без прежней весёлости:
– А ты помнишь, Боб, горы, зелёнку и как мы брали за Фаберже бородатых урок?
Юра-Боб презрительно усмехается.
Стогов поясняет мне:
– Людей с Кавказа надо сразу брать за Фаберже, они другого обращения не понимают.
– Бася – шакал, – словно вспоминает Юра.
– Да, он себя нехорошо показал тогда, – соглашается Стогов.
– Гуманист.
– За чужой счет.
Они обмениваются короткими фразами, из которых понятно, что все они когда-то вместе учились, что Бася курировал их «работу» на Кавказе, и что в результате из армии вылетели все трое.
– Ладно, Боб, хватит, – говорит Стогов. – Повеселились, поплясали, пора и баиньки.
…Иду по коридору с полотенцем через плечо. Двери других купе открыты. Звон гранёных стаканов – пассажиры взяли у проводницы посуду, «разливают» и закусывают. Пьяный Бася пытается накормить печеночными оладьями благообразного еврея в очках, в руках у того – книжка Борхеса.
Когда вхожу в купе, попутчики спят. Стогов лежит на нижней полке, лицом к стене и сладко похрапывает. Его спина обезображена огромным рвано-багровым шрамом. Юрий неразборчиво бормочет во сне, всхлипывает. Поезд мирно стучит колёсами – тук, тук, тук… А в голове – «ехали на тройке с бубенцами…»
Ну и гарбузы!..
…И приснился Марии сон. Будто они с Ларисой в чужом доме хозяйничают. Сестра любит наводить порядок: взбила перины, подзоры поправила, подушки напушила. Ну и подмела, конечно, скатерть перестелила, шторы туда-сюда смыкнула. И сразу обстановка городской вид приняла – чужой и чуть надменный. Аристократический даже – мол, мы тут специально вам «деревенский ампир» нагнетаем – смесь ручной вышивки и фабричных турецких дивандеков, не надо с нами панибратствовать!
А Мария тем временем посудой на кухне гремит, обед готовит. Старается, потому что не для себя. Свой-то, обычный борщ, она варит, погруженная в посторонние мысли и мечтания. Ну, всё равно хорошо получается – просто и вкусно.
И только они закончили работу, за дверью – громкие голоса. Гомон. Да, кажется, что и песню поют: что-то старинное, народное. «Имел бы я златые горы… и реки, полные вина…» Или даже: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня…» (хотя лето на дворе). Мария открывает дверь, а на пороге родня: дядя Воля, тётя Зоя (и, кажется, даже покойная тётя Даша), а за ними «выводок» – дети, внуки, зятья, невестки. Никак, картошку копали – кое у кого в руках лопаты, вёдра. (Чего в хату переть? – тут же мелькнуло у Марии. – Ну и оставляли бы всё около сарая.) Родня явно на подъеме, гуртом всю работу сделали, теперь на песни потянуло.
Сёстры и сказать ничего не успели, как гости (или хозяева – хата-то чужая!) смущённо смолкли. «Видишь как, – с горечью подумала Мария, – веселиться им помешали!» Выходит, что родня уже особо в голове и не держит, что у сестёр мать померла. Но увидели постные лица Полининых девок, вспомнили.
Правильно, кому оно, чужое горе, интересно? Жизнь идет, некогда печалиться, надо крепчать и богатеть («Надо общаться с людьми успешными!» – вспомнила тут Мария наставление одного своего городского знакомого). В общем, получалось, что родня вроде бы в одном лагере, а Лариса и Мария – в другом.
Этой обидой сон, наверное, мог бы и закончиться, но тут всплыла следующая картина, «эпизод». Родня поела, отдохнула и разместилась в обширном зале у стен – на диванах, стульях, лавках, креслах и проч. В этом обилии людей Мария опять столкнулась взглядом с покойной тётей Дашей, и с надеждой стала осматриваться: нет ли поблизости матери?! И с привычной уже, давящей тоской ощутила – нет, нет… А тётя Зоя тем временем заинтересованно-иронически спрашивала: «Чё ж, Маш, как там твой мужик? Туша эта?» В другой раз Мария бы отшутилась, замяла разговор (как она всегда делала), а тут вдруг ей что-то так обидно стало, аж слёзы в глазах закипели. Не помня себя, выскочила она на середину комнаты и стала доказывать оцепеневшей родне: «Он – больной человек, у него обмен веществ нарушен! Что же я, по-вашему, бросить его должна?!» Начинала она тихо, а закончила почти крича. На этой истерической ноте Мария и проснулась.
Долго она смотрела в дощатый потолок цвета густого тумана – от смешения красок такой вид получился, маме – нравилось… «Хорошо!» – вспомнила мамин голос (теперь вообще всё припоминалось – словечки, истории, которые она рассказывала, выражение лица – и всё это было близко-близко, будто Мария пользовалась увеличительным стеклом, скрадывающим время – мамы не было больше года).
Она ещё немного полежала, поленилась на перине (мамиными руками сделанной), на высоких, как горы, подушках. Ну, родня понятно, почему приснилась: Лариса ей вчера звонила, наставляла: должен приехать дядя Воля, забрать гарбузы. Пропасть их было на огороде в этом году, весь двор завалили. А куда девать? – хозяйства, считай, никакого. Куры, утки, два кота (один свой и кошечка к нему приблудилась чужая плохонькая). Гарбузы растянули по сараям, частично даже в хату занесли, но всё равно приличная куча у ворот лежит. А у дяди Воли – корова, ему пригодится.
Мария встала, первым делом управила невеликое хозяйство, разговаривая, по примеру матери, и с курами, и с утями, ну а уж с котами, это само собой, потом наготовила еды – картошки сварила, перцы нафаршировала. Могла бы и борщ составить, но решила, что это уж слишком – такой стол для неё одной.
Аденёчки стояли – золотые. И вчера, и сегодня. Утром – мелкая, сверкающая роса на траве, и длинные лучи солнца пробиваются сквозь густую-густую крону придорожной вербы. А днём – ровное, безветренное тепло, на небе – ни облачка, но нет изнуряющего жара и духоты, нет и сельской унылой пыльной работы – прополки, например, а есть сентябрьская грусть – последние красные яблочки и крупные мягкие сливы, выработанный огород (только свекольная ботва тут и там зеленеет полосками, а картошка – выкопана, спрятана в погребе). Мария налила в пластиковую бутылку воды, хату на замок, и на кладбище – к маме. И к брату, которого мама на 13 лет пережила. А каково ей было? Про то никто, кроме неё, не знает…
Мария сидела на кладбище у могил, думала. Не плакала. Чего плакать? Прошлого не вернёшь. Прошлое – это такая счастливая заводь, совсем другое время. Странно всё устроено: к закату жизни привыкаешь к потерям. Пора свадеб (в юности) быстро мелькнёт, потом идут потери, потом – если, конечно, выдержишь, переползёшь эту мёртвую полосу, опять свадьбы… Только они уже не такие бесшабашно-безрассудные (Мария грустно улыбнулась, вспомнив свою), поёшь и пляшешь на них с оглядкой, быстро уставая от веселья. А потом – внуки… И – небытие. Маленькая жизнь.
А дядя Воля говорит: «Покойники не любят, когда к ним часто ходят». Правильно, он человек деловой, чего ходить, бередить прошлое, лучше что по хозяйству сделать. Мария старалась не горевать. Она сидела и думала о настоящем. Вот, у могилы брата дерево выросло незаметно – метра три уже. Долго ничего тут не приживалось – и дубок сажали (специально мать с отцом ходили в дальний лесок, искали деревце), и клён, и сосенку – всё пропадало, не приживалось. А вот этот саженец «приткнули абы как» – и он зацепился. Выросла ольха. Шепчет чего-то, рассказывает. А цветы на венках выгорели, ленты поблекли, истрепались. Красивые были венки, торжественные. Родня навезла. Теперь ни к чему они больше, выбросить надо…
Вернулась Мария домой, только в хату зашла, слышит: ворота – грым-грым. Дверь открыла, а на пороге – дядя Воля с Сережкой. «Ну, здорово, хозяйка», – огромный дядя протянул огромную руку поздороваться, лопату, можно сказать, а не руку. (Вот вам и дети военного времени! – восхищенно мелькнуло в голове у Марии; дядю она любила, а внешности его всегда изумлялась.) Сережка улыбается, ехидно-приветливо, выглядывая из-за отцовского плеча. Это у него манера такая. Надо же, сон в руку! «Чем ты тут занимаешься? Мы щас хозяйство глянем». Мария запаниковала, забегала – гости в доме! – чашки-тарелки суетливо расставляя и путаясь. Быстрей на стол собирать: перцы фаршированные, сыр, колбасу, хлеб, огурцы солёные. Сережка покровительственно распоряжается, похохатывает: «Хватит, остановись, и так уж здорово». Марию кольнуло: видишь как, всякий помыкает ею!.. А будь при ней справный муж, разве бы она так бегала, трепетала?! Павой ходила бы!
Но вслух Мария говорит:
– Присаживайтесь, дядя Воля! (Сережка без всяких приглашений давно сидел.) Лариса вам привет оставила, – и она вытащила из холодильника бутылку белой.
– О, – оживился дядя Воля, – это мы разберемся, порешим.
Мария гостей потчует и разговор поддерживает. «Отец, значит на обследовании?» – «Ну да, в Тамбов поехал, ничего серьёзного, а так, сосуды, возраст, пусть врачи поглядят». – «А ты отпуск специально взяла, здесь сидеть?» – «Что сделаешь, Лариса на работе…» – «А на курорты когда?» – это Сережка ехидничает, щурит светлые глаза из-под мальчишеского чубчика. А уж сорок лет ему, они с Марией ровесники.
– Ну, что там она за жизнь у тебя в Сибири? – дядя Воля уже опрокинул две или три рюмки (с выгравированной розочкой на стаканчике – мамина посуда!) и его потянуло на неспешную беседу.
– Обычная, что и везде. Народ живет трудно, а кое-кто и разбогател круто.
– А парень твой чем занимается?
– Максим учится в университете на менеджера. На втором курсе уже.
Вроде и разговор весь. Дядя Воля пьет и не закусывает почти. Так, сыра кусочек взял. Зато Сережка не теряется:
– Сестричка, ты бы еще мне колбаски нарезала, я бы не отказался.
– Конечно, конечно, – засуетилась Мария. И снова эта суетливость её задела: вроде бы она у себя дома, не в гостях, а как-то не путём всё получается…
Ну, обсудили родню, и тетю Зою, и двоюродных сестер-братьев (весь куст, кто чем занят), да как дети растут, да кто что купил; и тут Сережку (хотя не пьет, за рулем!) потянуло на философию:
– У каждого своя судьба, кому от чего задумано помереть, так оно и будет. И вообще… Ты вот скажи, довольна ты тем, чего достигла, жизнью своей?
Вопрос Сережка ставил так, что и ответ подразумевался: нет, все плохо, сижу в Новосибирске в полной родственной изоляции у разбитого корыта, занимаюсь, на взгляд сельского человека незнамо чем (магнитной кумуляцией, прости Господи), получаю за это две копейки и просвета не видно… Заканючь так Мария, может быть, и разжалобила бы она родню, расположила бы её к себе. А так, на отшибе племенных связей, она мало вписывалась в «коллектив». Во-первых, от села оторвалась. Во-вторых, в городе не особо укоренилась – то есть, не разбогатела – ни детьми, ни деньгами… Так какой смысл был учиться, жить в мешках каменных чёрта где?!
Марии всегда не хватало хитринки, изворотливости («Простушки мы с тобой!» – вздыхала Лариса), вот и сейчас она смешалась. «Не знаю… Даже святой, разве может он сказать: „Моя жизнь удалась“?! И потом, неужели все зависит от человека? Это же глупо!» – всё это мелькнуло у нее в голове, но сказала она другое, «напустив туману»:
– Понимаешь, у каждого есть план его жизни, «карта», дорога, и нужно по этому пути пройти…
– Что это за «карта»? – изумился Сережка.
– Ну ты же сам говорил о судьбе, – и она показала глазами на потолок.
Сережка продолжал наседать:
– А пенсию где собираешься встречать?
Мария опешила:
– Да вот же, хата есть…
– А-а-а…
Дядя Воля всю бутылку не допил, а брать остатки с собой отказался: «Лариса придет, может, праздник какой отметит».
Вышли на порог, сели. Прямо перед кучей гарбузов (разволнованная встречей и разговором Мария и думать о них забыла!). Что ж, ещё о родне покалякали, кто чем переболел, у кого какая работа, как в колхозах (то есть АО, ООО разных и проч.) теперь живут и какая осень ожидается. Гости чего-то медлили, Мария это чувствовала, но понять причину никак не могла. Наконец, все вышли за ворота, Мария стала нахваливать машину – грузовичок небольшой, увёртливый, бензина мало ест, но что-то привезти-увезти – техника незаменимая. Сережка, уже не маскируясь, ехидненько ухмылялся.
Ну, сели и укатили. И тут до Марии дошло ужасное: а гарбузы-то осталась!.. Родня-то за ними приезжала! Ну, народ!.. Значит, бутылку водки выпить, полбатона колбасы съесть – это, пожалуйста, про высокие материи демагогию разводить – на здоровье, а сказать: мы, мол, за гарбузами приехали – «такт» не позволяет, воспитание!
– Я ж эти гарбузы не сеяла, не убирала, я про них и думать забыла, – горячо каялась Мария жене Сережки по телефону. (Родичи до своей деревни еще не доехали).
– А я и не знала, что они за гарбузами к вам, – строила из себя невинную овечку невестка. – Думала так, проведать поехали. Но я Серёжке передам, ты не переживай.
Вечером прикатила из райцентра Лариса – в брючном костюме болотного цвета, блузка салатная, туфли на широком каблуке. Модная, любит по тряпкам ударять. Ну, сели на скамейке во дворе (опять же, перед этой кучей гарбузов!), Мария, переживая, стала рассказывать про свою оплошность. Но получалось не драматически, а комически; и в результате Лариса (вообще склонная к трагическому мироощущению) начала хохотать:
– Ещё подумают, что ты над ними специально глумилась!..
– А я говорю: машина какая хорошая – привезти-увезти что…
И сестёр, теперь уже обоих, разобрал смех – еле-еле утишились!..
– Ладно, – решила Лариса. – Сейчас позвоню Серёжке, пусть приезжают, забирают, а то отец из-за этих гарбузов вообще с ума сойдёт – как же, такое добро гниёт, пропадает!
Уходя в хату, Мария оглянулась на расписную кучу – ярко-оранжевые, желтые, лимонные, тёмно-тёмно зелёные, большие, здоровые, ровные, круглые, вытянутые плоды, ядрёные и крепкие. И тихие, густые сумерки спускаются. И брёх дальней собаки. И – большая часть жизни уже, наверное, за спиной… А что же нажито?
За ужином Лариса наставительствовала:
– Там они мулеватые, наши родичи, это страсть. Говорят одно, думают другое. Вот сейчас я звоню, спрашиваю у Сережки: чё ж вы гарбузы не забрали?! А он: да у нас полный кузов цементу был.
– Брешет, – убеждённо говорила Мария, легко переходя от высоких материй к просторечию, – они мне намёки подавали, время тянули…
– Да конечно брешет, – поддерживала её Лариса. – Но у них деревенская дипломатия: мол, мы у вас что-то берём, но нам это как бы и не нужно, и мы вам большое одолжение этим делаем. И они все трое такие – и тётя Зоя, и дядя Воля, и тётя Даша покойная (Царствие ей Небесное). Амать их никак понять не могла – она же человек открытый! И всех по себе мерила, тем более, что родные сёстры, брат. А тут – такие зигзаги. Они-то понимали, что она и лучше их, и умней, и несчастней, к сожалению. А простить ей этого не могли. Потому что главный их девиз – быть в куче. А мать – всегда наособицу. Хотя и старалась в эту кучу влезть, «не отрываться»… Помнишь, на Казанскую мать посылала нас тетю Зою и дядю Волю проведывать?..
– Ну да, мы ещё кагор возили, тётю Дашу поминать…
– Так это ж она через нас мирилась с ними! Неужели ты не поняла?
– Да я как-то…
– А ещё с академиками общаешься! Нанотехнологии!.. Лариса в очередной раз подивилась житейской бестолковости сестры. – Она же с дядей Волей вообще последний год не разговаривала. Так, на Пасху только позвонит, поздравит, и всё… Она ему сказала: ты сестру (тётю Дашу то есть) на водку променял. И вдруг нас послала их проведать. Вроде как отношения с ними восстановила. Через нас. Как чувствовала, что умрёт скоро. Представляешь, сколько достоинства: простила их, через обиду перешагнула!.. Дядя Воля – старший в роду, столько нам помогал, ей бы с ним дружить-ладить, а она разругалась вдрызг.
– А из-за чего весь сыр-бор разгорелся?
– Да я ж тебе сколько раз говорила, чем ты слушаешь? – возмутилась Лариса. – У тебя прям не голова, а проходной двор. И нынче, с этими гарбузами, – тут она не выдержала и снова расхохоталась, – скажут, у них вся семья «того»…
Теперь Мария припоминала историю родственного раздора. С покойной тётей Дашей мама была ближе всех. Жалела сестру: ей, доброй и славной, попался жестокосердечный муж. Был он тугощек, с раскатистым и нахальным голосом, с бесстыжими серыми глазами навыкате. И вот, на Сережкиной свадьбе (это было лет десять назад, наверное) во время даров подносил он гостям угощение и водку вместе с Дуськой – бойкой и гулящей бабёнкой. Тетя Даша тогда удивлялась такой роли супруга: «Чего это он полез в верха, выискался какой хозяин!» На что сидевший поблизости муж Дуськи-Дульсинеи, больной и смирный мужик вздыхал: «И ничего-то вы, девки, не знаете…» Имелось в виду, что муж тёти Даши и Дульсинея давно таскаются, а свела их жена дяди Воли.
Ну и когда тётя Даша померла, на сорок дней вдовец уселся по главе поминального стола вместе с Дульсинеей. «Что это такое? Что за оскорбление? Свадьба тут, что ли? – негодовала мама. – Всю жизнь Дарья от него тычки собирала, прожила как в тюрьме, а теперь он – жеребцует, а она – в могиле…». И с поминок – чуть посидевши – ушла. И отца – увела. А дяде Воле сказала: «Ты сестру на водку променял…» И он – смолчал, ничего не ответил.
Младшая сестра, тётя Зоя, дипломатничала:
– Ды хто его знает, Полин, как оно надо… Конечно, жалко Дарью («Она в гробу вся чёрная лежала», – вспоминала мама), че и говорить, – и тётя Зоя начинала вытирать слёзы, скопившиеся в углах её до сих пор красивых, с поволокой, глаз. Она и сейчас, в возрасте, была притягательна – правильные черты лица, грудной голос, опрятная, пусть и тяжеловатая, фигура. Недаром среди родни считалась тётя Зоя первой красавицей. Говорила, осторожно пытаясь примирить сестру с братом:
– Оно ж, Полин, не поймешь, как лучше. Если он от Дарьи всю жизнь прогулял, как его теперь удержишь?!
– Насмешка какая!.. – горько качала головой мама. – На сорок дней с шалавой уселся в святом углу… Где это видано?! Живи один, чё ты бегаешь в таких годах по бабам?! Сын у тебя есть, к нему тулись, помогай чем. Проституты! – слово это мама выговаривала как страшное и горькое ругательство.
– Дарью не вернёшь, живым – живое…
Так и пошла между родней трещина. Но, оказывается, успела мама перед смертью помириться. Ночью, когда гроб матери стоял здесь, в хате – Мария не высидела, намаялась, измучилась от горя, легла чуть прикорнуть – она слышала, как дядя Воля говорил Ларисе своим густым, основательным голосом:
– Посижу возле сестры, последний раз её вижу!
Всё вроде затихло, затянуло, а тут эти гарбузы… Мария даже головой потрясла от досады. И – улыбнулась. Вспомнила, как пересказывала Ларисе разговор с Сережкой про то, где она пенсию собирается встречать. Сестра досадовала на её несообразительность:
– Надо было говорить: в Европу на покой отправлюсь. Или, в крайнем случае, на Канары – там климат мягкий. Пусть бы языками чесали, всё им отдых какой… С ними без задора, без конкуренции – никак! Они вообще твоего смирения не понимают, толкуют как слабость. Такой народ! Хотя, может, и правильно это. В наших местах по-другому, сама знаешь, нельзя…
Мария лежала в постели, вспоминала события сегодняшнего бурного дня. И поверх житейских забот и раздумий вдруг всплывали мелкие, казалось бы, ничтожные впечатления. Огромные глудки, комья земли (будто отец не копал, а пахал!), земли – чёрной, а дальше – кочаны капусты – гигантские розы холодно-сизого цвета, дальше – помидоры поздние – большие, розовые, в желтеющих, распластавшихся по грядке кустах, потом яркая петрушка, и, наконец, в углу, у забора – алые бока поздних яблочек, почти волшебных, а над ними – золотые, как лимоны (другой сорт), плоды, и наконец, в листве дальше, если присмотреться, можно увидеть нежно-розовую сливу, почти растворяющуюся по цвету с вечереющим небом. А после, к ужину, в ведре оцинкованном, серебристом, на самом дне, помидоры бурелые и красные (один – большой!), три сливы – крупные, два краснобоких яблочка и букетик из петрушки.
Эти помидоры, выросшие на земле, сливы, поднятые с земли, зрелые поздние яблоки (такая белая и крепкая мякоть внутри!), эта только что сорванная зелень петрушки – неужели это и будет главной радостью её жизни?! Самым заветным и сладостным воспоминанием? Человек – с его капустными грядками, яблонями, гарбузами, наконец, с его желаниями и стремлениями, бедами и горестями, ну кто он перед вечностью, перед громадой жизни?! И разве можно жить без земли, без этого ведра (в капельках воды), на дне – сливы, букетик петрушки, помидоры – сизо-фиолетовое, малиновое, желто-горячее, нежно-зелёное, бело-розовое – ну, как без этого? Но почему же красота рождается в таких муках – и снова Мария вспомнила мать – и почему она трогает немногих, и почему жизнь так мучительна, бестолкова и быстротечна?!
…А гарбузы, кстати, ехидный Серёжка так и не забрал. «Некогда! В колхозе аврал», – отбрёхивался. Ну, ничего. Нашли желающих. Что ж такому добру пропадать! Скотина поест. Тем более, корм даровой. Конечно, не все отдали. Кое-что и себе оставили. Мария потом уже, в ноябре, звонила сестре, интересовалась:
– Как вы там встретили День народного единения и согласия?
– Да как… Сидели с отцом гарбузы перебирали….
– Зачем вы их столько сажаете? А потом мучаетесь!
Но это был вопрос риторический. На это она и жизнь, чтобы мучиться…
Альфонсиниада
– Утром проснулась от дикого крика – Сашка-сосед матом крыл, орал. Оказывается, ко мне на дачу залезли двое бомжей. А что, время восемь утра, и они, как на работу, выходят на промысел. Редиску у меня подергали и пионы срезали. Бомжи-бомжи, а с ножницами! С орудиями труда. Так жалко, куст смородины обломали, наверное, всё ей, каюк – не отойдёт, засохнет. А Сашка разъярённый, кричит: «Пойди их догони и убей!» Ну, буду я руки марать! Вот если б ко мне Абрамович залез, тогда другое дело. Я б его на мелкие клочки разорвала, – Анечка негодует, чёрные глаза её сверкают. – А то – два бомжа!.. Невидаль какая!..
Но неудобно было перед Сашкой – человек за мою редиску заступился, тревогу поднял. Поэтому я догнала бомжей и говорю им осуждающе: «Как вам не стыдно!» Ну и тому подобное, ахинея всякая. Это их не берёт совершенно, они и ухом не повели. Бомжи с пропиской – муж и жена, у них и квартира есть в совхозном доме. Но нигде не работают, живут разбойным промыслом, пьют, дети – не знаю где, то ли уже выросли, то ли в интернате; в общем, полная свобода и деградация. Вот так начался трудовой день, – Анечка вздыхает.
– Подожди, – говорю я, – а чего ты за бомжами бегаешь, у тебя ж защитник есть? (В прошлую нашу встречу Анечка обмолвилась, что наконец-то в её пустынной личной жизни возник оазис, и она соединила свою судьбу с русским богатырём, мужчиной из Сибири по имени Вася.)
– Ой, ну ты что! Он спал, его из пушки не разбудишь. Бомжи у него из-под головы подушку будут выдёргивать, он и ухом не поведёт. Вообще обнаглел. Нигде не работает, лежит, газеты читает. С двоюродным братом вместе кованые решетки ставили в коттеджах, так он с ним разругался. Теперь в кризисе. В депрессии. Хотя ест – будь здоров. Вышел, правда, участок обкосил – и всё. И на день рождения мне подарил открытку – два зайчика возле норки, в корзинке – морковка. Подписал: «Анички от Васички. На долгую память…» Не забуду, это точно. Брат мне рассказал, что он дома, в Сибири, уже нахвастал: мол, у него в Подмосковье на отхожих промыслах баба есть «учёная» и что здесь он в большом фаворе. Но, если вдуматься, зачем он нужен?!
– Альфонсиниада.
– Во-во! Мне одна знакомая говорит: Ань, если тебе хочется кого-то кормить, ухаживать за кем-то, ты купи себе поросёнка. Потом хоть заколешь, польза какая-то. А от «Васички»?! Одни убытки.
– А морковки?..
– Это виртуальное. А в реальности – осталась без редиски. Жалко! Бомжи даже не подёргали (и на это ума не хватило!), а потоптали больше. Но у меня тут был расход с редиской не сравнимый. Брешь в бюджете образовалась страшная. Пришлось домой ехать срочно. Отец звонит на сотовый: чувствую, что-то случилось. А что – не говорит. Ну, последняя родная душа на свете осталась! Всё бросила, на самолёт до Краснодара, автобусом на Армавир.
Захожу домой. Отец вроде мне и обрадовался, и в то же время как-то странно смотрит… Гляжу – жертв и разрушений нет, вещи на месте, давление ему померила – порядок. «Пап, говорю, ты чего?» А он на меня трагически-патетически взирает и медленно так, подбирая слова, говорит: «Аня, мы с мамой тебя всегда учили не лгать, не брать чужого. Мы тебе хорошее образование дали. Музыкальная школа с отличием, два языка. Университет. Учёная степень – вспомни, ты – кандидат биологических наук! Ты – взрослая женщина, и для тебя, конечно, я не авторитет. Но…» Чувствую, сейчас он заплачет – руки дрожат. Я прямо терпение потеряла, начала кричать: что тут происходит?! И он мне подпихивает желтую газетку. А там – ну тут меня такой хохот разобрал! – и Анечка начинает смеяться.
Наконец, успокоившись, продолжает.
– В общем, в газетке статья о жизни жен олигархов. Ерунда всякая. Как они встают в три часа дня, по салонам красоты и фитнесам наяривают, от безделья маются – мужья-то в бизнесе, бабки заколачивают! Дети у них, если есть, на гувернантках и нянях, материальных проблем – ноль, личная жизнь устроена. Но любому человеку нужны острые ощущения, микро-стрессы для тонуса, для выработки адреналина. И потому жены олигархов воруют товары в супермаркетах и бутиках. Это у них высшим шиком считается. Но некоторые олигархи ни попадаются в руки правосудию – такие случаи известны. И вывод: богатые тоже плачут, хоть и недолго… Глупую эту статейку иллюстрирует фотография. А на ней – ну это полный абзац – два милиционера тащат меня в «воронок». На мне полушубок норковый, лицо полно праведного гнева, а правая рука сжата в кулак!..
В общем, бедный папа! Дочь тайно вышла замуж за олигарха, возможно, глубоко криминального, потому что я это скрываю (а он-то меня в коммунистической идее воспитывал!), подворовывает в бутиках (а ему рассказываю, что скромно живу на дачке в Мамонтовке, редиску выращиваю!), да ещё и прославилась на весь мир! Тут, пожалуй, потеряешь покой.
А как было дело, откуда эта фотография появилась?! Когда американцы начали бомбить Сербию, я как раз приехала в Москву, уточниться с диссертацией. Ну а поскольку я, благодаря папе, всегда была страшно политизированная, а тут вообще случай возмутительный, то в стороне не осталась. И мы с подругой двинулись к посольству Сербии выразить солидарность братскому народу.
Приходим на Мосфильмовскую улицу. И что мы видим? Позор России! Напротив посольства идёт – ну это же ясно! – инспирированный нашими продажными властями митинг в защиту и поддержку Косово! Человек десять убогих евреев, безродно-неопрятного вида, стоят с плакатиками фабричного изготовления, которые им «правозащитники» раздали: «Милошевича – под суд!», «Свободу – народам!», «Москвичи за независимость и толерантность» и тому подобное. Митинг дохленький (видно, по всему городу иуд собирали), но камер согнано, журналистов – тьма! В основном, кстати, западная пресса съехалась. Им же надо картинку выдать – какой в России одобрям-с Америке!
Я, конечно, не стерпела. Закипела во мне кровь армавирская. Подхожу к пикетчикам и говорю во весь голос: «Ну, суки нанятые, сколько вам сребреников заплатили?!» А они заблеяли: «Мы – сторонники демократии, мы по убеждениям, мнение своё выражаем!» (Евреи по убеждениям куда-то пойдут, на холод – март месяц был… В защиту косоваров, мусульман, кстати… Не смешите людей!) Ну, и стала я напротив этой кучки иуд собирать анти-митинг – в поддержку Сербии. И, знаешь, народ откликнулся. Быстро человек двадцать набралось – из прохожих и зевак. И мы начали скандировать: «Иу-ды! Иу-ды! По-зор! Поз-ор! А-ме-ри-ка – убий-ца!» А поскольку правда была на нашей стороне, получалось зажигательно, азартно, и ряды наши стали потихоньку расти.
Тут западные камеры бросили коллаборационистов и начали нас снимать. Да ещё на двух языках (английский, немецкий), я стала им объяснять, что, мол, господа журналисты, не участвуйте в распространении провокативной лжи, народ России против бомбёжек Сербии, мы проклинаем фашистский режим в Америке, соглашательство дебила Ельцина и олигархической верхушки, захватившей власть в стране. Пока я так вещала, иуды вызвали милицию – мол, нам мешают санкционированную акцию проводить! А один из продажных митингантов пролез ко мне, пристроился за спиной с плакатиком. То ли это стукач был – сведения собирал, то ли он хотел, чтобы его, а не меня, в камеру показывали. Эксгибиционизм духовного содержания. Ну, я вещаю, и вижу боковым зрением, что он ко мне присоседился. И я – раз! – рванула рукой его плакат! На две части. А милиция только и ждала повода – они меня цап! За «нанесение вреда имуществу митинга», «хулиганство» и тому подобное. И потащили меня в воронок!..
Ну, что тут началось! Это же «экшен»! Камеры снимают, фотоаппараты вспышками слепят, корреспонденты лопочут в микрофоны, газетные журналисты с блокнотиками бегают, толпа ревёт! Я кулаком потрясаю: «Сербия – мы с тобой!» А милиция меня корректно, почтительно тащит – как же, такое стечение прессы. Кстати, нормальные ребята попались, мы с ними потом чаёк попили в отделении, они протокол составили и отпустили меня с миром. Даже не оштрафовали.
И вот, прикинь, через столько лет всплывает фотография с этого митинга…
– Ничто на земле не проходит бесследно. Фотокор подумал: не пропадать же добру! – и я не могу сдержать смеха, представив Анечку, читающую статью о своей криминально-олигархической жизни.
– Ага. А я так расстроилась сначала. Сволочи, думаю, беспринципные. Папу моего разволновали, чуть до сердечного приступа не довели. Хотела на них в суд подать…
– …в Гаагский трибунал.
– Да. Но неохота связываться с этой волокитой. Хотя, может, еще и подам. Вот, Васичку выгоню, и займусь продажно-клеветнической прессой… Потому что весь Армавир на ушах – кого ни встречу, все спрашивают – «как жизнь?», но спрашивают опасливо и глаза отводят. Скажут: неизвестно, что у неё на уме, еще «закажет», или в асфальт закатает. Не буду же я всем бегать, объяснять, что и как…
– Слушай, – говорю я, – а представляешь, если бы газета о твоих проделках в бутиках попалась бы на глаза не папе, а Васичке?
И мы хохочем, представляя эту сцену. Потом Анечка вздыхает:
– Васичка у меня ревнивый, это правда. Весь день лежит, ничего не делает, а вечером начинает названивать. «Ты где? Когда будешь? Почему на электричку опоздала?» Приревновал меня к коллеге, его тоже, кстати, «Васичкой» зовут. Тот мне свою брошюру подарил по молекулярной биологии. Там одни формулы. Мой надулся: «Что это такое? Ничего понять не могу». Это ж не зайчики с морковкой! Учится, говорю, надо было в школе. А он: «Ты учёная, а с неучёным живёшь!» Тоже правда… А я вчера в Госдуме была, там экспертов собирали по экологическому законодательству. Разговор пустой совершенно. Я уж думала, день совсем пропал. Напоследок, правда, набрала два пакета газет. Их там бесплатно выкладывают в специальные корытца. Кто хочет, берет. И я взяла себе «Парламентскую» и ещё что-то…






